Читать книгу "Дарвиновская революция"
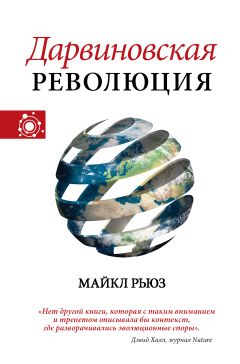
Автор книги: Майкл Рьюз
Жанр: Религиоведение, Религия
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Несколько особняком среди британских мыслителей стоял замечательный публицист, историк и провидец Томас Карлейль, тоже не избежавший влияния немецкой философской мысли, но обладавший при этом собственной неповторимой нотой. Его вкладом в религиозную полемику стал сложный, трудночитаемый, но поистине грандиозный роман Sartor Resartus («Перекроенный портной»), завершенный в 1831 году, издававшийся серийными выпусками в 1833–1834 годах и вышедший в Англии отдельной книгой в 1838-м. Выдав себя за редактора, который якобы восстановил и истолковал фрагменты труда, приписываемого немецкому профессору по имени Диоген Тойфельсдрок, Карлейль представил отчет о собственном религиозном паломничестве и дал неортодоксальный ответ на тайны жизни. Когда находишься во власти атеизма и имеешь в перспективе посмертное «вечное ничто», спасение может явиться только через подлинный мистический опыт. Неудивительно поэтому, что Карлейль обошел большинство ловушек ортодоксального христианства и обрел истинный дух религиозной веры в почти пантеистическом (и гетевском) восприятии Бога, «ощущаемого сердцем» и по сути своей тождественного самой природе – ведь Вселенная, по меньшей мере, «есть не что иное, как один необъятный Символ Бога» (с. 220). Это, по признанию самого Карлейля, сближает его отношение к Богу с платоновским, ибо он во многом рассматривает Бога точно так же, как Платон рассматривал Благо. Карлейль перенес эту концепцию в свою знаменитую доктрину «естественного сверхнатурализма», где вся природа понимается как нечто сакральное и где одержимость чудесами понимается превратно, если именно чудеса лежат в основе религиозной веры, – где, короче говоря, само постоянство законов природы служит свидетельством того, что мир выходит за рамки будничного и в каком-то смысле оказывается сверхъестественным.
Нетрудно понять, какой контраст и какую угрозу эти идеи составляют и несут религии, которая сделала краеугольным камнем веры свидетельства о чудотворной природе деяний Христа. Опять же, они не имеют непосредственного влияния на ход нашего повествования, хотя впоследствии оно скажется. В любом случае богооткровенная религиозная вера на том интеллектуальном уровне, на каком мы ее рассматриваем, не представляла собой монолитного фронта: в нем имелись щели и разломы, которые час от часу все больше расширялись.
Но самую серьезную угрозу для богооткровенной религии представляла, конечно же, наука, являвшаяся в 1830 году одним из главных, если не самым главным фактором в жизни общества.
Наука и богооткровенная религия
Не подлежит сомнению тот факт, что к 1830 году многие люди из числа тех, кто группировался на одном конце религиозного спектра, то есть те, кто был равнодушен к науке и кто ее игнорировал или извращал, полагали, что если наука противоречит Библии и находится с ней в конфликте, то это неправильно, чуть ли не грех (Миллхаузер, 1954). Но другие, включая, разумеется, и членов нашего научного сообщества, не могли с этим согласиться. Они не хотели, чтобы науку ущемляли, и потому любили приводить слова Гершеля из «Философии естествознания» (1831, с. 9), что «истину нельзя опровергнуть истиной». Впоследствии мы постараемся дать более тонкое различие между той и другой группами, а сейчас нам ничего не остается, как обозначить эти группы, дав им названия: «консерваторы» и «либералы» (Рьюз, 1975b). Эти понятия, хотя и в самом широком смысле, соотносятся с катастрофистами и униформистами (противниками и сторонниками Лайеля). Я специально использую другие понятия, дабы подчеркнуть тем самым, что религиозные убеждения совсем не обязательно вытекают из убеждений геологических (и наоборот), и еще потому, что старые понятия затемняют те моменты, которые я столь старательно пытаюсь прояснить. Говоря в широком смысле, консерваторы – это «теисты», а либералы – это «деисты», хотя здесь деизм означает нечто большее, чем просто веру в Бога как недвижимый двигатель, и лишен атрибутов христианства. Пожалуй, этот термин недостаточно точен и не совсем подходит для наших целей, ибо и Ламарк был деистом, и деистами были те (мы их еще обсудим), кто сражался с эволюционизмом на религиозной почве. Большинство выдающихся консерваторов мы находим как раз среди наших ученых-священников – это, в частности, Баклэнд, Седжвик и Уэвелл. А самые выдающиеся среди либералов – это Гершель, Лайель, Бэббидж и (помимо всех прочих) Баден Поуэлл. Давайте рассмотрим их по очереди[9]9
Британская политическая арена в то время характеризовалась наличием либерального крыла (партии вигов), партии аристократов и представителей среднего класса, консервативного крыла (партии тори), партии сторонников короны (до восшествия на престол Виктории) и мелкопоместного, сельского дворянства (джентри), к которому относились большинство лиц духовного звания. Но я употребляю понятия «либерал» и «консерватор» не в политическом смысле, хотя, безусловно, в такой связи им не откажешь. Тори противились нововведениям и переменам, используя христианский теизм для поддержания собственной веры в правомочность заведенного порядка вещей. Виги, поддерживавшие движение за реформы, видели в нем средство постепенных, но при этом постоянных перемен. Лайель был вигом; Уэвелл был тори. Но, давая понять, что, допуская довольно сильную связь между религией, наукой и политикой, нужно быть предельно осторожным, мы, однако, видим, что консервативный катастрофист Седжвик принадлежал всецело и безусловно к лагерю вигов.
[Закрыть].
Итак, консерваторы ступали по очень тонкой черте, и они это знали. С одной стороны, они не возражали против открытий современной науки и стремились их учитывать, а с другой стороны, они понимали, что признание катастрофизма (в том виде, как он существовал в 1830 году) вело к необходимости отодвинуть возраст Земли на многие тысячелетия или даже миллионы лет, как и к необходимости признать существование великого множества некогда живших, а ныне вымерших животных. Но они были верующими христианами, и их вера зиждилась на Библии, а Библия говорит, что мир был сотворен за шесть дней, каковой факт в то время понимался и трактовался таким образом, что мир возник несколько (точнее, шесть) тысячелетий тому назад. Даже если бы они были настолько лицемерны (каковую мысль я при всем желании допустить не могу), что, живя за счет церкви, они позволяли бы себе вольно трактовать ее центральную доктрину, сторожевые псы веры (а их в любой век было немало) всегда были начеку, готовые в любой момент поднять вой неодобрения при малейшем намеке на ересь. Поэтому консерваторы шли на внутренний компромисс, допуская, чтобы всеми вопросами, связанными с появлением человека на Земле, заведовала наука, а всеми вопросами, связанными с его жизнью и существованием после появления, – Библия. Так, Уэвелл, например, утверждал (1831c, с. 206), что «пришло время, когда… условия и история развития Земли, поелику они независимы от условий и истории развития человека, должны быть переданы в том виде, как они есть, в руки натурфилософов». На долю же Библии доставались Бог, человек и отношения между ними. Но Библия никогда не предъявляла претензии на научность. Поэтому, встречаясь на страницах Библии (уже после появления человека) со всякого рода несуразностями, такими, например, как солнце, которое остановило свой ход после того, как ему повелел Иисус, следует принимать их такими, как есть, не стремясь их объяснить. Древние иудеи были несведущи в физике, поэтому и Бог, говоря с ними, не мог прибегать к соответствующим физическим понятиям, в силу чего библейские авторы, сообщая о событиях далекого прошлого, при всем желании не могли излагать их языком, созвучным языку физики или геологии (Уэвелл, 1840, 2:137–157).
Но хотя не следует, разумеется, полагаться на то, что возраст Земли насчитывает всего лишь шесть тысяч лет, даже несмотря на то, что этот временной промежуток кажется вполне подходящим с точки зрения развития человечества (Седжвик, например, искренне в это верил; см. Лайель, 1881, 2:37), оставалась все же мучительная проблема: как объяснить первые главы Книги Бытия. Объявить их лживыми или неверными было невозможно. Одни полагали, что эти шесть «дней» соответствуют шести длительным периодам времени – эпохам. Другие же, включая и Баклэнда (1820; см. также Миллхаузер, 1954), вслед за шотландским богословом Томасом Чалмерсом полагали, что «начало» Книги Бытия – это не что иное, как вступление, и что между ним и шестью днями творения имеется пробел, не заполненный фактическими событиями. Иначе говоря, этот пробел вмещает в себя массу времени и все геологические циклы.
Нельзя сказать, что в отношении связи между наукой и религией консерваторы занимали исключительно оборонительную позицию. Отнюдь нет. Как я уже говорил в самом начале этой главы, некоторых катастрофистов весьма привлекала геологическая доктрина, и привлекала именно потому, что она, по их мнению, не противоречила Библии и, более того, оказывала ей независимую поддержку. В начале 1820-х годов некоторые из них, в частности Баклэнд (1823), искренне считали, что существуют вполне определенные геологические свидетельства случившегося относительно недавно масштабного потопа, которые, безусловно, подтверждают историю о Ноевом ковчеге и делают легитимным изучение геологии. Но, хотя к 1830 году выяснилось, что таких свидетельств нет, это не повиляло на общественное мнение, продолжавшее считать, что пусть Библия – и не научная книга, но одна из древнейших летописей истории человечества (Уэвелл, 1837, 3:602), и на этом основании допускается возможность обнаружения свидетельств о потопе, хотя бы даже и локальном (Седжвик, 1831, с. 314). И все же это не доказывает, что консерваторы (те, кто принял эту концепцию) совершили прорыв и использовали прогрессивную последовательность палеонтологической летописи – рыбы, пресмыкающиеся, млекопитающие, человек – как подтверждение правомерности библейской истории о сотворении мира. Они лишь не опровергали того факта, что человек был создан последним, и создан, видимо, недавно (Боулер, 1976a). И, разумеется, рассматривали сам мир как творение, созданное в первую очередь или исключительно для человека.
Разумеется, они с радостью воспринимали космологический дирекционализм, в частности остывание Земли, как свидетельство подготовки к появлению человека и с радостью (за исключением Уэвелла) расценивали прогрессию органической материи как свидетельство такого дирекционализма. Именно так, по крайней мере в глазах общественности, и обстояло дело. И все же необходимо признать, что тот же Седжвик чуть позже с большой теплотой отозвался об одном мыслителе, свободно высказывавшемся о синтезе науки и религии, так что, вероятно, по воскресеньям один или двое из наших консерваторов давали волю своему воображению (Кларк и Хьюз, 1890, 2:161).
Когда смотришь на то, как Уэвелл трактует проблему взаимоотношений науки и религии и как он обращается с ней (а это вообще ему свойственно, когда он имеет дело со сложной проблемой), возникает ощущение, будто читаешь документ, составленный умным адвокатом, согласно которому податель сего имеет право поступать так, как ему заблагорассудится. Отдав должное науке и по достоинству оценив ее заслуги, он затем заявляет, что наука не имеет ничего общего с происхождением человека. В такие моменты «нить индукции… обрывается у нас в пальцах» (Уэвелл, 1830–1833, 2:143; эта фраза взята мною у Кювье). Уэвелл был достаточно хитер и предусмотрителен, чтобы прямо заявить, как это соотносится с первыми главами Книги Бытия, поэтому критикам было трудно обвинить его в ереси. А кроме того, Уэвелл, к собственной выгоде, свел эту позицию к вопросу о происхождении органической материи.
Я уже говорил выше, что некоторые либералы, если не внешне, то внутренне, не были особо привержены догматам христианства. Для них последние были по большому счету функциональной частью их собственных научных и философских убеждений. Эмпирик, придерживающийся доктрины vera causa, всегда с подозрением относится к чудесам, понимая под ними некое божественное вмешательство, напрочь опровергающее или аннулирующее законы природы. Чудеса как таковые отвергают, разумеется, какие-либо причины тех качества, размаха и силы, свидетелями которых мы являемся сегодня. Но поскольку христианство основной упор сделало, да и продолжает делать именно на чудеса, либералам, приверженным науке, было трудно принимать такое христианство. Конечно, к какому бы типу геологии они себя ни причисляли, геологии как таковой было мало дела до того, верят ли они в чудеса земных благ или нет. Но геологические убеждения характерны тем, что они заставляют их носителя усомниться в правоте Ветхого Завета, и в этом смысле либералы больше других склоняются к автономии науки, особенно там, где геология вступает в конфликт с Книгой Бытия. Историческое вступление Лайеля, написанное им к своим «Принципам», было полемической эскападой, обращенной против тех, кто допускал влияние религии на науку.
И здесь как нигде требуется осторожность. Консерваторы вроде Седжвика склонялись к тому взгляду, что геологическое прошлое Земли (не важно, были ли в ней катастрофы или нет) обошлось без всяких там чудес – по крайней мере, в неорганическом мире их не было. А мы знаем, что к 1830 году консерваторы еще не были катастрофистами (в широком смысле этого слова) и не были просто потому, что так предписывала Библия. Более того, Лайель, когда он выступил против влияния религии на науку, в наименьшей степени руководствовался желанием сохранить науку в чистоте, нежели желанием очернить уважаемых ученых-катастрофистов типа Баклэнда, выставив их в качестве апологетов Священного писания. И точно так же, действуя осмотрительно и нередко прибегая к искусству убеждения, которым прекрасно владел, Лайель в третьем томе «Принципов» (1830–1833, 3:270–274) заявил, что никогда не произносил слов (если только их не истолковывать превратно), якобы опровергающих факт Всемирного потопа. (Как профессор Королевского колледжа, Лайель стремился убедить епископов, входящих в совет управляющих по делам церкви, что он – ортодокс.)
Тем не менее либералы ушли не дальше консерваторов. Например, хотя Лайель считал, что человек как вид появился сравнительно недавно, он в гораздо большей мере, чем консерваторы, был склонен отодвигать эту дату еще дальше в глубь истории. Немного выждав (и тем самым дав время для развития такой недавно возникшей науки, как лингвистика), Гершель, судя по его переписке с Лайелем, был готов полностью признать, что библейские патриархи жили 50 и более тысяч лет назад. А что касается «дней» сотворения мира, то они, по его оценке, составляют не менее 50 миллионов лет (Кэннон, 1961а, с. 308). И только один человек (как это ни парадоксально, искренний христианин) был готов отдать науке должное, не ища путей для компромиссов. Этим человеком был Баден Поуэлл. Со смелостью, решительно отличавшей его от Ньюмана, выпускника и члена того же колледжа, он открыто говорил о «неразрешимых противоречиях» между наукой и отдельными частями Ветхого Завета и отбрасывал все доводы и заявления о якобы имевшем место Всемирном потопе, расценивая их как «образцы риторики и поэтического воображения» (Поуэлл, 1833, с. 35). После интеллектуального иезуитства Уэвелла это воспринималось как глоток свежего воздуха. Более того, у Поуэлла достало мужества защищать свои убеждения, но при этом хватило и осмотрительности не впадать в крайний либерализм – по крайней мере до тех пор, пока он не стал членом профессората. Таким образом, в 1830 году только один человек (из числа тех, с кем мы имеем здесь дело), не прибегая ни к славословиям, ни к проклятиям, был продвинут настолько, что мыслил о науке и относился к ней так, как это делает современный христианский мыслитель. И вера его покоилась на законах природы, а не на их нарушениях.
Естественная религия
Наконец мы подходим к рассмотрению естественной религии, или теологии, которая подразумевает человеческое знание о Боге, добытое с помощью разума и чувств. Тем, кто знаком с сокрушительной критикой, с какой Дэвид Хьюм обрушился на искусно вымышленный довод, якобы говорящий в пользу существования Бога (1779), трудно понять, что в XIX веке этот довод все еще воспринимался очень и очень серьезно. Но так оно и было. Можно даже с полным правом сказать, что в первой половине века Британия поддерживала этот довод особенно рьяно и с небывалом энтузиазмом. (Видимо, большинство ушей в Британии было совершенно невосприимчиво к критике Хьюма.)
Автором довода был Уильям Пейли, приведший, совершенно в классическом духе, аналогию между часами и глазом, утверждая, что если у часов бесспорно должен быть тот, кто их создал, как бы его ни называть – мастер-часовщик или творец, то и у глаза тоже должен быть творец (точнее, с большой буквы – Творец). Но к 1830 году труд Пейли «Естественная теология» (впервые опубликован в 1802 году) начал уже устаревать (см. Рьюз, 1977). К счастью, этот довод, говорящий в пользу божественного замысла, который отстаивал Пейли, получил новую жизнь после публикации в 1830-е годы «Бриджуотерских трактатов» – восьми работ, созданных различными учеными согласно воле и завещанию восьмого герцога Бриджуотерского и призванных показать «Божьи Силу, Мудрость и Доброту, явленные при Сотворении мира» (см. подробности у Гиллеспи, 1951).
Наибольшей популярностью из этих восьми трактатов пользовался тот, что принадлежал перу Уэвелла, которому официально было поручено научно разъяснить такой предмет, как величие Бога, ярким доказательством коего служила астрономия (Баклэнду досталась геологическая тема). Он начал с заявления о том, что мир управляется законами и что следствия этих законов служат наглядным примером наличия божественного замысла. Так, в согласии с этими законами, год на Земле длится ровно 12 месяцев. И это условие, указывал Уэвелл, невероятно важно для жизни и роста земных растений. Если бы жизненный цикл растения составлял только 11 месяцев, а земной цикл (год) – 12 месяцев, то растения расцветали бы в январе, а это означало бы для них верную смерть. Подготовив соответствующую почву, Уэвелл приходит к следующему выводу: «Почему солнечный год должен иметь именно такую продолжительность и не больше? Или, даже если это так, почему вегетативный цикл тоже должен иметь ту же продолжительность? Случайно ли это?.. Случайно подобный результат не может возникнуть. А если это не случайность, то как иначе могло возникнуть такое совпадение, нежели как путем нарочитого приведения к соответствию между собой этих двух циклов?» (Уэвелл, 1833, с. 28–29). Не кто иной, как Бог (понимаемый в данном случае как всеведущий Творец), должен был привести в соответствие продолжительность солнечного года и вегетативного цикла. Или, развивая эту мысль дальше, можно сказать, что поскольку несовпадение этих циклов для Солнца никакого значения не имеет, а для растений оно окажется гибельным, то, должно быть, именно Бог блюдет интересы растений.
Поскольку я периодически буду ссылаться на этот довод из арсенала божественного замысла, то здесь вполне уместно будет дать кое-какие комментарии. Да, именно Уэвелл был выбран с целью раскрыть Божий замысел в астрономии, и хотя он высказал по поводу такого ограничения ряд умных замечаний, он сразу же перевел всю проблему высшего замысла в иную плоскость – в плоскость свидетельств, поставляемых организмами. Если бы солнечный год и вегетативный цикл не совпадали, растения бы не выжили. Короче говоря, именно растения являются в действительности образчиками Божьего замысла, адаптировавшись к заданным условиям так, что эта адаптация помогает им выживать и размножаться; то есть в данном случае эта адаптация привязана к продолжительности земного года. Прибегая к более популярной терминологии, можно сказать, что божественный замысел становится очевиден только тогда, когда в пользу телеологии и «конечных причин» свидетельствуют сами растения (Уэвелл, 1840, 2:78).
Этот маневр с привлечением органической адаптации не был случайным. Почти каждый согласился бы с Уэвеллом в том, что наиболее ярко высший замысел проявляется в организмах и через них, особенно через адаптацию к заданным условиям, что позволяет им выживать и воспроизводить себе подобных. Разумеется, Уэвелл видел свидетельства этого замысла и в неорганическом мире, но он охотно признавал, что там эти свидетельства не столь очевидны, как в органическом мире (Уэвелл, 1833, с. 148–149). Сам Уэвелл довел неокантианство до такой высоты, что не преминул заявить (в своей «Философии», 1840, 2:78), что, наблюдая за организмами, невозможно не обнаружить в них свидетельств разумности замысла. Возможно, большинство ученых не заходили так далеко, как он, но они бы безусловно согласились с его доводом, что высший замысел ярче всего заявляет о себе именно в органическом мире.
Но эта акцентировка на организмах неизбежно ставит два вопроса. Все ли аспекты или грани организма свидетельствуют в пользу высшего замысла? И какого рода замысел можно обнаружить в неорганическом мире, если этот замысел, как правило, в первую очередь нацелен на выживание и воспроизводство организмов? Уэвелл был вынужден признать, что далеко не все аспекты организмов кажутся целесообразными. Например, соски у мужских особей выглядят совершенно бесполезными, как и сходство в строении скелета у различных видов. Но в 1830-е годы Уэвелл и прочие британские ученые были склонны умалять значение этих явлений. Не желая честно признать, что Господь Бог, возможно, творил мир без всяких намерений, Уэвелл предположил, что подобные отклонения свидетельствуют о том, что Бог преследовал и другие цели помимо выживания. Несомненно, что иногда Он творил ради симметрии, или чтобы привнести структуру и порядок, или чтобы создать красоту. Эти цели, по мысли Уэвелла, прекрасно увязываются с неорганическим миром и позволяют ответить на второй из выше поставленных вопросов. Божье намерение заявляет о себе в таких явлениях неорганического мира, как форма снежинок, что, опять же, указывает на то, что Бог в Своем замысле исходил из критерия красоты и порядка (Уэвелл, 1833; 1840, 2:86–89).
Со всей присущей ему самоуверенностью там, где дело касалось трудных вопросов, Уэвелл считал, что будет благоразумно привести в пользу божественного замысла такой довод, с помощью которого можно было бы обойти все отклонения и несуразности, имеющиеся в органическом и неорганическом мирах. То, что явления подчиняются закону (естественное регулирование), уже само по себе есть признак намерения. «Для большинства людей [включая и самого Уэвелла, разумеется] очевидно, что само существование законов, связывающих между собою любой класс явлений и управляющих им, подразумевает руководство разума, изначально задумавшего и утвердившего эти законы» (Уэвелл, 1833, с. 295–296). Чтобы доказать наличие Разума, совсем необязательно указывать целеполагание. Как мы увидим в дальнейшем, разновидности этого варианта суждено было сыграть ключевую роль в дебатах, ведшихся по поводу происхождения органики. (Ибо этой разновидностью является стандартный довод из арсенала божественного замысла, который делает акцент на органической адаптации и который в силу этого часто называют «утилитарным» доводом. Но, пока его ценность не доказана, я пользуюсь стандартной версией.)
Третий момент, связанный с доводом из арсенала высшего замысла, касается человека. Приверженцы богооткровенной теологии автоматически признавали, что человек – это нечто особенное. Но если подходить к этому доводу исключительно с точки зрения разума и чувств (с точки зрения естественной теологии), то поневоле закрадывается мысль, что он был нарочно выдуман для подтверждения исключительности человека. Хотя Лайель, как известно, считал, что физически человек находится на одном уровне с другими животными, он, тем не менее, полагал, что в моральном отношении человек являет собой нечто особенное. При всем при этом как бы походя признавалось (без особого акцента на эту странность), что, будучи существом моральным и интеллектуальным, человек более чем жесток. На основании этого представлялось очевидным, что человек был объектом, пользовавшимся особым вниманием и благосклонностью Бога. Но из этого неминуемо следует довольно неприятный вопрос: как быть с выживанием и воспроизводством низших организмов? Действуют ли они независимо и сами по себе или все-таки служат благу человека? Единого ответа на этот вопрос не существует, хотя никто не сомневался, что главная и первоочередная забота Бога – именно человек. При этом, однако, после знакомства с трудами большинства английских авторов складывается вполне определенное впечатление, что Господь, будучи Сам англичанином, задумал мир исключительно на благо англичан. И требуется немало рассудочной схоластики, чтобы подыскать Богу оправдание, почему Он не создал все расы равно любимыми. Подобные рассуждения были довольно типичными для Баклэнда, который выказал неимоверную изобретательность, доказывая, что Бог, создавая угольные пласты и железорудные отложения и помещая их в столь удобных для добычи местах, думал о людях и, в частности, о британцах (Баклэнд, 1820, с. 11; 1836, 1:63–67). (Очевидно, что ни сам Баклэнд, ни выдуманный им Бог никогда не работали в копях, как не работали и их дети тоже.) В то же время Баклэнд (1836, 1:99) исподволь готовил читателя к заключению, что иногда животные появляются и существуют ради собственного удовольствия.
И наконец, хотя ученые-священники из нашего круга публично отстаивали этот довод из арсенала божественного замысла (чему не стоит удивляться, поскольку, утверждая, что именно наука раскрывает этот замысел, они оправдывали свое собственное существование), каждый в меру своих сил прилагал усилия к тому, чтобы увидеть, что мир есть плод Божьего замысла. Понятно, например, что главный довод, приводимый им в подтверждение его картины мира с ее тезисом о неизменяемости геологических процессов, Лайель видел именно в том, что она наилучшим образом гармонирует с мудростью Бога, Который однажды привел в действие Свое творение, так что оно, подобно вечному двигателю, идет своим чередом, вследствие чего у Него нет особой необходимости вмешиваться в этот процесс (Лайель, 1881, 1:382). В следующей главе мы рассмотрим этот предмет более подробно. Конечно же, все видели свидетельства божественного замысла по-разному и с разных сторон. Седжвик, например, видел их в той прогрессивной последовательности, в какой Бог создавал организмы, приведшие к появлению человека (1831, с. 305, 315–316). Для Лайеля же, наоборот, таким свидетельством было отсутствие прогрессии. Так или иначе, но все члены нашего научного сообщества были телеологами.
Давайте теперь перейдем к религиозным убеждениям Чарльза Дарвина – момент для этого наиболее подходящий. Чисто внешне в 1830-е годы Дарвин ничем особым не выделялся из толпы прочих либералов, таких, как Лайель и Гершель, хотя внутренне он придерживался совершенно иных убеждений. Но обсуждение происхождения и природы этих убеждений мы отложим до того времени, когда их суть и смысл станут предметом широкого обсуждения общественностью.
Впрочем, о среде и окружении сказано более чем достаточно. Поэтому давайте не мешкая перейдем к самому животрепещущему научному вопросу того времени – проблеме происхождения органической материи.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!







































