Текст книги "Дарвиновская революция"
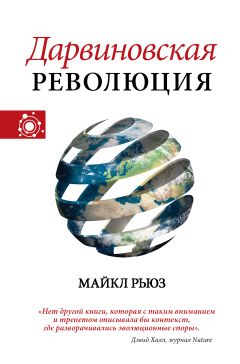
Автор книги: Майкл Рьюз
Жанр: Религиоведение, Религия
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Этот ответ Гершеля требует, на мой взгляд, двух комментариев. Во-первых, Гершель (и он это выразил очень ясно) пришел к своим взглядам на происхождение органики (которое, по его расчетам, неизбежно обуславливается естественными причинами), следуя общенаучной/философской методологии. Если мы и можем заявлять о чем-то с решительной непреложностью, то только исходя из собственного опыта, а ведь, согласно этому опыту, мы видим повсюду не чудеса, а действующие по соответствующим законам механизмы. Следовательно, понимание общей методологической стратегии актуализма, которой придерживается Гершель, делает его позицию (как, в принципе, и позицию Лайеля) вполне объяснимой. Кроме того, Гершель находил позицию Лайеля по вопросу о происхождении видов созвучной и приемлемой для себя еще и потому, что он, так же как Лайель, придерживался деистических убеждений. (У Гершеля позиция та же, что и у Лайеля, но за вычетом антипрогрессионизма. Поэтому Гершель, как и большинство других, воспринимал позицию Лайеля как естественный источник, объясняющий происхождение организмов, и не видел смысла связывать ее с антипрогрессионизмом, хотя, судя по его откликам на труд Дарвина, Гершель заботился об особом статусе человека не меньше, чем Лайель.)
Во-вторых, отклик Гершеля, возможно, помог Лайелю значительно прояснить свою собственную позицию и укрепиться во мнении, что решение проблемы происхождения видов можно найти, лишь обратившись к природным процессам. В своем ответе Гершелю Лайель писал (1881, 1:467): «Что касается образования новых видов, я очень рад тому, что, как вы считаете, это происходит, вероятно, за счет вмешательства промежуточных причин. Я не делаю по этому поводу никаких выводов и не думаю, что оно того стоит, ибо что толку раздражать определенный класс людей, облекая свои мысли в слова, которые не более чем измышления». Это, однако, наводит на подозрения, что неопределенность «Принципов» Лайеля – всего лишь следствие его замешательства, впрочем, как и благоразумной осторожности.
Баден Поуэлл тоже принял (1838) позицию Лайеля (за вычетом антипрогрессионизма), так же как и Бэббидж (1838), который привнес в доводы Лайеля весьма интересный стимул. Обидевшись на Уэвелла за его якобы пренебрежительное отношение к возможности того, что только математика и естествознание могут приблизить нас к Богу, Бэббидж дополнил «Бриджуотерские трактаты» еще одним, неофициальным. В нем он проводит бесхитростную аналогию с собственной работой на вычислительных машинах, показывая, что он может настроить машину так, что она будет выдавать натуральные числа в последовательности от 1 до 100 000 001, в каковой точке она начинает выдавать уже другую последовательность, последующее число которой 100 000 002 (Бэббидж, 1838, с. 36). Таковы же, заявляет Бэббидж, и законы Бога – абсолютно систематичные, регулярные и нередко различимые без всяких там чисел, но при этом обладающие врожденной способностью и даже потребностью производить неожиданные, аномальные явления. Более того, заявляет Бэббидж, если мы будем воспринимать Его законы именно так, в нашем распоряжении окажется куда более возвышенная концепция замысла Создателя, где аномальные функции окажутся столь же планомерными, как и функции регулярные, и это куда разумней, нежели полагать, что Бог учредил регулярные законы, а затем время от времени Сам же непосредственно вмешивается в них. Другими словами, Бэббидж поставил этот довод с ног на голову, заявив, что чем более аномальным что-то кажется, тем больше это свидетельствует о величии Божьих законов!
Какого же рода явления вызываются причиной, которая, с одной стороны, аномальна, а с другой – подчинена закону? Бэббидж (1838, с. 44–46) не делает тайны из того обстоятельства, что он прежде всего имеет в виду проблему происхождения органической материи. Разве нельзя предположить, что функция происхождения органики подпадает под некий закон, разумея под этим, что здесь просто работают причинные механизмы, управляемые законами? И разве нельзя предположить, развивая ту же мысль, что эта функция может выглядеть аномальной по аналогии с приведенным выше примером о вычислительной машине? Поэтому нет ничего удивительного в том, что он поспешил отпечатать в качестве приложения письмо Гершеля к Лайелю, ибо, как сказал сам Бэббидж (1838, с. 225), «почти полное совпадение его взглядов с моими еще раз доказывает правомочность моих объяснений и дает им дополнительную поддержку». Чем не весомый аргумент, особенно учитывая престиж Гершеля в научном мире?
Этот довод Бэббиджа, довольно натянутый и неестественный, каким бы внешне поразительным он ни казался, наиболее важен по двум причинам: во-первых, из-за непосредственного влияния, которое он оказывает на умы читателей, а во-вторых, из-за того, что он иллюстрирует очень важный, на мой взгляд, элемент всей дарвиновской революции, толкуемой достаточно широко. Поэтому я перейду сразу ко второму пункту, оставив разбор первого на потом.
Двигаясь понемногу к органическому эволюционизму, мы в некотором смысле приближаемся к Закону, удаляясь от Чуда. И главным фактором в этом движении, как на это намекает Бэббидж, является успех промышленной революции, в частности переход к машинному труду. В течение 50 и более лет до начала нашего повествования британцы с невиданным успехом обуздывали и применяли себе во благо силы природы, то есть использовали законы, управляющие стихиями, создавая (за счет машин и без вмешательства человека) предметы повседневного обихода гораздо быстрей и эффективней, чем это было возможно в доиндустриальную эпоху, о чем человек той эпохи только мечтал. Более того, промышленный прогресс шел полным ходом и в описываемое время. 1830-е и 1840-е годы, например, были временем интенсивного строительства железных дорог, значительно сокративших сроки перевозки и передвижения по британской территории. Все это неизбежно оказывало воздействие на расположение духа и нравы жителей викторианской эпохи. «Пророк» этой эпохи, Томас Карлейль, например, был просто одержим властью машин (Хоутон, 1957). Ее воздействие сказывается и на нашем повествовании. Британцы покорили природу: они пользовались ее законами, чтобы производить материальные блага механическим путем без вмешательства человека. Поэтому и Бог, коль скоро он выказывал Свою любовь к британцам, давая им возможность проделывать все это, и Сам мог делать все это не хуже них. Короче говоря, Бог – это Верховный Промышленник и Предприниматель. Если Ричард Аркрайт демонстрирует свою силу, создав сеть текстильных мануфактур, на которых машины автоматически производят добротную ткань, то и Бог, разумеется, точно так же может демонстрировать Свою силу, автоматически создавая новые виды. С точки зрения многих викторианцев, чем больше они встречали в мире подобий прядильной машине Джеймса Харгривса, тем более великим им казался Бог, и это исподволь влияло на их взгляды по вопросу о происхождении органической материи.
Я отнюдь не преувеличиваю. Вышеупомянутая метафора – сравнение Бога с инженером или промышленником – не убедила бы викторианца отказаться от мысли о чудесах. Но «довод, основанный на законах» и взятый на вооружение консерваторами, содержит прозрачный намек на то, как очередная метафора – сравнение возможностей Бога с возможностями машин – ниспровергла традиционный довод о божественном замысле. Уэвелл (а он-то и представил сей «законодательный» довод) указал на то, что каждый атом, создаваемый в согласии со сводом строго регламентированных законов, должен вести себя в точности так же, как и другие. Он постоянно цитировал «Философию естествознания» Гершеля, чтобы убедить читателей, что эта книга сама по себе подразумевает существование Бога, так же как массовое производство товаров подразумевает существование машин, а они, в свою очередь, – существование разработчика и производителя. Ну а действие законов на материю, естественно, является еще более прямым доказательством существования Бога, ибо оно «мгновенно наделяет каждый из составляющих ее атомов сущностными признаками и произведенной вещи, и придаточного агента» (Уэвелл, 1833, с. 302; цит. ист.: Гершель, 1831, с. 38; курсив его). Но в отношении Бэббиджа и тех, кто воспринял его идеи, справедливо будет сказать, что на их позицию и отношение к вопросу о происхождении видов повлияла одна из разновидностей данной метафоры. Собственно, я придерживаюсь того мнения, что к дебатам о происхождении органики, обратившим человечество в сторону эволюции, привел весь ход (причем успешный ход!) промышленной революции. Более того, не обошлось здесь и без религии, ибо на фоне происходящего казались в высшей степени подозрительными все утверждения о том, что религия решительно противится распространению эволюционных идей.
Думаю, относительно этого пункта сказано уже достаточно. Мимоходом замечу лишь, что Лайель (1881, 2:10) воздал должное Бэббиджу, «благосклонно» отозвавшись о его работе. Он искренне заявил, что находит концепцию Творца, как ее подает Бэббидж, более приемлемой в религиозном смысле, чем любую позицию, постулирующую вмешательство чудес, заметив, что «довод об изменении законов вполне согласуется с некоторыми из моих размышлений по поводу геологии». Так оно и было, ибо Бэббидж последовательно проводил ту мысль, что происхождение органики, хотя оно и подчиняется законам, подразумевает нечто довольно специфическое и к тому же свидетельствует о славе Бога!
Седжвик и Уэвелл об отношении Лайеля к организмам
В своем президентском обращении к Геологическому обществу в 1831 году, а затем в речи перед выпускниками в 1833-м Седжвик тоже обозначил свою позицию по данному вопросу, и она оказалась куда более ортодоксальной, чем даже у Лайеля. Соглашаясь с Лайелем в том, что преобразование видов – «теория, немногим лучшая, чем безумная мечта», Седжвик (1833, с. 26) решительно встал на сторону Бога, заявив, что образование новых видов происходило благодаря Его вмешательству, а чтобы не произошло ошибки, что под «чудом» он и в самом деле понимает нечто, не укладывающееся в обычные законы природы. Он ясно высказался о «регулирующей силе, совершенно отличающейся от всего того, что мы обычно понимаем под законами природы» (Седжвик, 1831, с. 305). Время от времени Бог создает новые организмы, заявил он, и хотя все эти творческие акты, вероятней всего (что не противоречит логике), совершались после природных катастроф, вызванных естественными причинами, сами по себе они требовали сверхъестественного вмешательства. Более того, хотя Седжвик считал, в отличие от Лайеля, что человек появился «буквально вчера», он тоже считал его вершиной длинной прогрессивной цепочки развития. Но подобное «сходство взглядов» не мешало тому же Седжвику жестоко критиковать Лайеля за то, что тот смеет предполагать, будто виды все еще находятся в процессе возникновения/сотворения (Лайель, 1881, 2:36). Человек – последнее и окончательное творение Бога, и этим все сказано.
Его позиция неприятия эволюционизма хотя и опиралась на то, что Седжвик считал научными фактами, но основывалась скорее исключительно на религии. Оправдывая свое нежелание рассматривать человека в качестве очередного звена в естественном порядке вещей, Седжвик решительно утверждал, что всякое «изобретение доказывает наличие замысла» (1833, с. 21), но что любое творение, согласующееся с законом, опровергает этот замысел. Пытаясь совместить несовместимое, он, однако, заявлял, что, даже если бы творение вершилось по каким-то там законам, это не отменяло бы наличия самого замысла. Поневоле возникает чувство (и чувство вполне простительное), что желание Седжвика найти удовлетворительный с религиозной точки зрения ответ на вопрос о происхождении органики противоречит всей его научно-философской стратегии, ибо он не менее Лайеля был непреклонен в своем мнении, что мир действует в соответствии с непреложными законами (Седжвик, 1833, с. 18; 1831, с. 300) и что законы Бога, созданные Им для этого мира, вечны, неизменны и нерушимы.
В том, что Седжвик апеллирует к чудесам, делая их ответственными за образование новых видов, есть некая несообразность, как и у Лайеля, но несообразность куда более вопиющая.
На первый взгляд эта же несообразность присутствует и в размышлениях Уэвелла. Он утверждает, что, хотя Бог и действует в соответствии со Своими законами (особыми, не природными законами), все же появление новых видов не относится к тому виду явлений, «о которых мы привычно говорим как о законах природы» (Уэвелл, 1832, с. 125). При этом он то и дело утверждает, что законы природы не допускают исключений и что мир управляется в соответствии с законами. Как довольно дерзко цитирует Уэвелла Дарвин в самом начале «Происхождения видов»: «Но в отношении материального мира мы можем, по крайней мере, зайти так далеко – можем почувствовать, что события вершатся не путем отдельных вмешательств силы Божией, применяемой в каждом отдельном случае, а путем применения общих законов» (Уэвелл, 1833, с. 356).
Мы уже убедились в том, что Уэвелл – большой мастер по части отстаивания своего права верить именно в то, что его больше всего устраивает, и это же не менее справедливо и в отношении проблемы происхождения органики. Чтобы оправдать свою приверженность явно противоречивым позициям (первая – это возникновение новых видов путем чудесного вмешательства Бога, а вторая – признание универсального свода законов, управляющих миром), Уэвелл выработал несколько твердых убеждений, которые, по его мнению, всегда могут быть приложимы к геологическим явлениям. Первое – это идея о том, что в геологическом мире все имеет свою причину: «Каждое событие, имевшее место в истории Солнечной системы… было одновременно и причиной, и следствием: следствием того, что ему предшествовало, и причиной того, что за ним следовало» (Уэвелл, 1840, 2:112). Второе – это требование, чтобы причина была достаточно веской и могла произвести следствие: «Наше знание, касающееся причин, запустивших целую череду явлений, должно зиждиться на выяснении того, какие именно изменения в материи эти причины могут производить» (Уэвелл, 1840, 2:101). И третье убеждение – что мы можем постулировать причины и следствия только исходя из собственного опыта: «Если мы не можем рассуждать, идя путем аналогий от событий сегодняшнего мира к событиям мира прошлого, стало быть, у нас нет фундамента для нашей науки» (Уэвелл, 1839, с. 89).
Последнее утверждение вызывает недоумение, ибо оно явно противоречит духу уэвелловской доктрины verae causae. Но, по мнению самого Уэвелла, это не так. Его точка зрения на этот счет такова, что с учетом явлений, случившихся в прошлом, нынешний опыт вполне может убедить нас в том, что ни одна из известных нам сегодня причин не могла бы объяснить то, что происходит сегодня. Чтобы сохранить верность другим убеждениям, касающимся причинно-следственной связи в геологии, – а именно что всякое явление должно иметь под собой причину, способную вызвать соответствующее следствие, – как и сохранить надежду на правомерность vera causa, нам необходимо, утверждает Уэвелл, обратиться к причинам, отличным от тех, которые нам известны по личному опыту или которые действуют поныне. Эти другие причины могут быть скорее сверхъестественного или чудотворного свойства, нежели теми, что подвластны закону, как мы его понимаем.
«[Относительно] образования Земли, появления животной и растительной жизни и переворотов, посредством которых одно собрание видов последовательно перешло в другое…, можно сказать, что такие события, как эти, совершенно необъяснимы никакими известными нам сегодня причинами; таким образом, результатом наших исследований, проводившихся в строгом соответствии с научными принципами, может оказаться тот, что мы должны или рассматривать сверхъестественные влияния как часть череды событий в прошлом, или заявить о своей неспособности выстроить эти события в связную цепочку» (Уэвелл, 1840, 2:116).
Позиция Уэвелла напоминает ту, в которой оказывается преподаватель, который подозревает нерадивого студента, блестяще сдающего экзамен, в списывании или использовании шпаргалок. Преподаватель понимает, что блестящий ответ студента должен иметь под собой какую-то причину; он понимает также, что эта причина должна быть достаточно веской, чтобы объяснить столь блестящий ответ студента, но по собственному опыту он знает, что ничто ни в поведении студента, ни в его отношении к учебе не может служить такой причиной. Следовательно, преподаватель лихорадочно ищет другие причины, которые могли бы объяснить этот феномен, хотя, конечно же, с самого начала не допускает и мысли о чудодейственном вмешательстве Создателя.
Теперь, когда его генеральная позиция обозначена, Уэвеллу остается убедить читателя, что организмы и их происхождение опираются на причины, не подлежащие законам, как мы их знаем. Сначала Уэвелл практически дословно цитирует многие весьма неудачные, по его мнению, доводы Лайеля (Уэвелл, 1837, 3:573–576). В частности, он повторяет вслед за Лайелем (причем соглашается с ним), что и египетские мумии, и опыт животноводов свидетельствуют как раз против трансформационизма. Более того, теория Ламарка с ее допущениями, касающимися зарождения новой жизни, замечает он, кажется подозрительно нарочитой и сложной, что в глазах Уэвелла, для которого простота – главное достоинство, является грубым если не промахом, то упущением (Уэвелл, 1837, 3:579). Следовательно, заключает Уэвелл, среди известных нам причин нет достаточно веских, которые могли бы привести к образованию новых видов. Но поскольку такие причины должны-таки быть, то эти причины, заключает Уэвелл, неизвестного нам свойства.
Естественные причины (причем находящиеся в ведении законов!) неизвестного свойства – чего же более? Уж эту позицию, разделяемую Лайелем и Гершелем, Уэвелл, казалось бы, должен был принять. Более того, он наверняка должен был приветствовать такой ответ, ибо для интерпретации его доктрины verae causae он давал больше простора, чем для интерпретации положений Гершеля и Лайеля, которые хотели не просто знать, что verae causae естественны, а понять, что они собой представляют. Сам Уэвелл никогда не предъявлял такого условия к своим verae causae. Но он достаточно грубо и поверхностно изложил положения Лайеля, указав, что «одного лишь подозрения, что происхождение видов когда-то имело место (не важно, однажды или много раз), пока оно находится вне связи с нашими органическими науками, недостаточно; это скорее принцип естественной теологии, нежели физической философии» (Уэвелл, 1837, 3:589). Причину такой позиции следует искать, как это очевидно, в сферах органической адаптивной организации и разумного (Божьего) замысла (Уэвелл, 1837, 3:574). Уэвелл просто не видел путей, посредством которых можно было бы согласовать слепые, неуправляемые законы и причины, им подчиненные, с творением или происхождением этой организации.
Это же оказалось камнем преткновения и для Лайеля, хотя, как мы знаем, он страстно хотел отдать должное божественному замыслу. Поэтому и он был вынужден предположить наличие каких-то иных, странных и необъяснимых законов, и Уэвелл просто не знал, как относиться к таким законам: они ему казались нарочно выдуманными – в отличие от тех, которые могли явиться следствиями божественного замысла. Говорить об этих законах как о каких-то других для него было противоречием терминологического свойства. Но поскольку организмы являют собой безупречную организацию, следует предположить и наличие некой адекватной причины, приведшей к такой организации, а единственное, что кажется уместным и стопроцентно приемлемым в данном случае, – это прямое вмешательство Бога: «Исходя из общего хода природы, мы должны поверить в существование многих успешных актов сотворения и уничтожения видов – актов, которые мы по праву можем назвать чудесными» (Уэвелл, 1837, 3:574). Уэвелл не отрицает, что Бог, возможно, и Сам подчиняется Своим же собственным законам, но это не законы, действующие в этом мире, и не те природные законы, которые лайелианцы желают навязать, дабы объяснить происхождение видов.
Короче говоря, позиция Уэвелла сводится к следующему: чтобы объяснить органическую адаптацию, как это сделали бы добросовестные ученые, нам необходимо обратиться к чудесам, то есть к чему-то такому, что неподвластно природным законам. Нельзя отрицать наличие органической адаптации в материальном мире. Она есть. И как ученые мы должны объяснить ее. Но мы сознаем, что для этого необходимо обратиться к чудесам, поскольку обычные законы (и причины, им подчиняющиеся) здесь не действуют. «Ничто в существующем порядке вещей, учрежденном на аналогиях и сходствах любого мыслимого рода, не указывает на ту творческую энергию, которая должна быть задействована на производство новых видов» (Уэвелл, 1840, 2:133–134). Эта позиция прекрасно согласуется с философией и религией Уэвелла: его вера в причинно-следственные связи, действующие в геологии, остается нетронутой, его рационалистическая доктрина verae causae не входит в противоречие с чудесами (в отличие от эмпирической доктрины), а сам он признает Бога как Творца или Конструктора.
Но разве это решение вопроса, предложенное Уэвеллом, то есть его обращение к чудесам, – разве оно не противоречит его вере в единообразие законов? Нет, в сознании Уэвелла такого противоречия не было, ибо он полагал, что когда обращаешься к чудесам, то покидаешь сферу науки: геология «ничего не говорит, а лишь молча указывает вверх» (Уэвелл, 1837, 3:588). С другой стороны, в материальном мире (то есть на уровне, подвластном науке) правят законы (обычные, природные законы). Поэтому суть позиции Уэвелла не в том, что чудотворчество якобы нарушает законы, а в том, что оно тем или иным образом стоит вне законов. Именно чудеса ответственны за создание новых видов, и только после того, как это произошло, в силу вступают законы. Следовательно, такого рода чудеса противоречат законам не более, чем тот факт, что явления в области электричества не подлежат ведению закона всемирного тяготения.
И в заключение хочу обратить внимание еще на два момента. Во-первых, мы знаем, насколько важным для Уэвелла, как и для всех ученых того времени, было различие между эмпирическими, или феноменальными, законами и ссылками на причины и законами, управляющими этими причинами. Такое впечатление, что Уэвелл, так же как Седжвик, хотел поставить органические творения вне всего – вне феноменальных законов или причин любого природного свойства. Выдержало ли это проверку временем и насколько, мы увидим в дальнейшем. Во-вторых, Уэвелл, в отличие от большинства других ученых и, как это ни странно, даже в отличие от Седжвика, был согласен с Лайелем в том, что прочтение палеонтологической летописи ничего не говорит о якобы имеющей место прогрессии (Уэвелл, 1832, с. 117), даже несмотря на тот факт, что, в общем и целом, он был приверженцем дирекционализма. Можно лишь предположить, что Уэвелл, тонкий аналитик, заранее предугадывавший все возможные ловушки, разделял страхи Лайеля по поводу прочных связей между прогрессионизмом и трансмутационизмом, в частности там, где это касалось человека, и благоразумно следовал по стезе Лайеля.
И наконец, общий момент, касающийся телеологии. Создается ощущение, что Уэвелл, обращаясь к божественному замыслу с целью опровергнуть эволюционизм или любое естественное происхождение организмов, просто отдает должное Кювье, перед которым он в неоплатном долгу: тот тоже прибегал к телеологии с той же целью – опровергнуть эволюционизм (или, как можно подозревать, любое естественное происхождение организмов). Однако, сколь бы часто ни ссылался Уэвелл на авторитет и идеи Кювье (Уэвелл, 1837, 3:472–476), это не устраняло тонкого различия между Аристотелевой теологией Кювье и британской естественной теологической телеологией. Для Кювье обращение к вспомогательным средствам было концептуально невозможным. Для британских же ученых подобная невозможность была нежелательной лишь с той точки зрения, что она чрезмерно ограничивала силы Божьи (Рьюз, 1977). Поэтому они переносили эту невозможность лишь на процесс творения: мол, слепые законы не в состоянии привести к возникновению телеологических объектов. Эта британская телеология восходит к Платону; ее часто называют «экстернальной» (внешней) в противовес «имманентной» (Аристотелевой) ее разновидности, которой придерживался Кювье. То, как пользовался теологией британец вроде Уэвелла, чтобы подойти к вопросу о происхождении органики, хотя и было близко по духу, но было совершенно неприемлемо для Кювье и европейской традиции (Халл, 1973b). (Очевидно, что телеология Уэвелла отличалась даже от телеологии любого из британских ученых, причем сильней, чем от той блеклой телеологии, к которой тайно прибегал Ламарк, чтобы завершить свою теорию эволюционизма.)
Заключение: была ли принципиальная разница?
Бросая ретроспективный взгляд на наше ученое сообщество, видишь, что, в общем-то, не было особо большой разницы между Лайелем и его сторонниками и такими учеными, как Седжвик и Уэвелл. Обе стороны считали, что адаптация и ее роль в контексте божественного замысла создают большую проблему для неуправляемых законов, отвечающих за возникновение видов, не говоря уже об их решимости не сводить человека до чисто природного уровня. Но хотя в этой позиции есть доля неоспоримой истины, в целом как суждение она недостаточно продумана. При всей своей уклончивости Лайель хотел, чтобы процессами происхождения органики управляли законы определенного рода и качества. Его же оппоненты имели несчастье вывести весь вопрос о происхождении вообще за рамки всякого закона, в том числе и за рамки науки. Несмотря на совпадения и накладки, они поднаторели в этом настолько, что их отношение к происхождению организмов стало принципиально иным. (Лаейлианцы, более того, считали, что на их стороне и закон, и божественный замысел.)
Действительно, эта разница во взглядах на происхождение органики отражается и на общем подходе к организмам. Несмотря на религиозные мотивы, а возможно и благодаря им, Лайель хотел, чтобы Бог полностью предоставил мир самому себе, мир, в котором лишенные помощи организмы ведут мучительную борьбу за первенство, ведут под угрозой полного уничтожения в случае поражения. Его критики не пытались опровергнуть ни наличие в мире борьбы, ни наличие вымирания и уничтожения – к тому времени факт вымирания птицы дронта и предсказания Мальтуса сделались общедоступными знаниями, – но они стремились сделать Бога имманентным защитником, стоящим над собственным творением (чем, собственно, и занимается добрый христианский Бог). Как следует с очевидностью из процитированного выше отрывка из Уэвелла (Уэвелл, 1840, 2:116), вымирание – это не столько следствие ошибки, сколько очистка территорий для нового витка творения. Даже Баклэнд утверждал, что животные поедают других животных не по причине хаотичной борьбы за выживание, а потому, что Бог решил: травоядные не должны погибать мучительной голодной смертью из-за перенаселенности и оскудения природных ресурсов: лучше, мол, быстрая, неожиданная смерть, чем растянутый во времени, но жалкий конец (Баклэнд, 1836, 1:129–134). Любая борьба – это часть более общего, утвержденного Богом «природного равновесия» (Гейл, 1972). Короче говоря, хотя и сторонники, и критики Лайеля в равной мере руководствовались религиозными мотивами и имели много других сходных мотивов и хотя они во многом соглашались между собой по поводу фактов и их истолкования, они, тем не менее, составили себе совершенно различные картины мира. Либералы хотели, чтобы Бог оставил мир в покое, а консерваторы хотели как раз обратного.
Это сказано не для того, чтобы навести на мысль, будто такой блестящий молодой ученый, как Дарвин, только что ставший новым членом британского научного сообщества, находил доводы и возражения той и другой сторон весьма удовлетворительными. Критики Лайеля вынесли весь вопрос о происхождении органики за сферу науки, и лайелианцы, с которыми Дарвина роднило нечто большее, чем просто горячая симпатия, не смогли собраться с силами, чтобы решительно с ними порвать и не допустить хоть какую-то роль Бога в происхождении видов. Как не раз указывал Уэвелл, они хотели и того, и другого, утверждая, что происхождение органической материи осуществляется в согласии с законами, но затем вводя в эти законы различного рода божественные поправки. Неудивительно, что новая звезда на научном небосклоне колебалась по поводу своего отношения к вопросу о происхождении органики и пыталась что-нибудь сделать в этом направлении.
Но все это еще в будущем – для нас, по крайней мере. Хотя Дарвин проделал огромную творческую работу, завершив ее к концу 1830-х годов, она стала достоянием общественности только через два десятилетия. Поэтому обратимся теперь к 1840-м годам, к десятилетию, когда в Ирландии царил повальный голод, когда Ньюман переехал жить в Рим, а в общественной жизни разгорелись бурные дебаты по поводу эволюции.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































