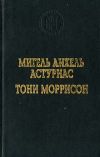Текст книги "Автобиография"

Автор книги: Майлс Дэвис
Жанр: Зарубежная публицистика, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 33 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
В каком-то смысле мы стали с ней ближе. Однажды я приехал домой и услышал, что она играет на фортепиано блюз. Я до этого даже представить себе не мог, что она может хорошо играть такие вещи. В тот раз, когда я приехал на Рождество из Джульярдской школы и она играла блюз, я сказал ей, что мне нравится, как она играет, и что я не знал, что она может играть на фортепиано в такой манере. Она улыбнулась и сказала: «Знаешь, Майлс, ты ведь очень многого обо мне не знаешь». Мы рассмеялись и в первый раз в жизни поняли, что это была чистейшая правда.
Моя мать была красивой женщиной, я имею в виду физически, но с возрастом она начала расти и духовно. У нее сложилось правильное отношение к жизни. Это было написано на ее лице. И мне досталась от нее эта черта. С возрастом ее характер смягчился, и мы стали ближе друг к другу. Правда, хоть я и был одержим музыкой, родители так ни разу и не сподобились пойти в ночной клуб послушать меня.
Прежде чем уйти из Джульярдской школы, я, воспользовавшись советом Диззи, взял там несколько уроков на фортепиано. И еще я посетил несколько занятий в симфоническом оркестре, что потом мне сильно пригодилось. Эти уроки давали трубачи из Нью-Йоркского филармонического оркестра, так что я научился у них некоторым полезным вещам.
Когда я говорю, что Джульярдская школа ничего не дала мне, я имею в виду, что она не помогла мне понять, что же я действительно хочу играть. И мне больше нечему там было учиться. Я вообще почти никогда не жалею о том, что сделал. Иногда это бывает, но крайне редко. И я ровно ничего не испытывал, когда осенью 1945 года ушел из музыкальной школы. Я играл в то время с самыми выдающимися музыкантами мира – о чем мне было сожалеть? Ни о чем. Я и не сожалел. И ни разу не посмотрел назад.
Глава 4
Примерно в это же время, осенью 1945 года, продюсер студии грамзаписи «Савой» Тедди Рейг предложил Птице записать у него пластинку. Птица согласился и пригласил меня как трубача; Диззи в некоторых треках играл на фортепиано. Телониус Монк и Бад Пауэлл не смогли, а может, и не захотели работать с нами: Бад вообще недолюбливал Птицу. Так что в тех треках, где не участвовал Диззи, пианистом у нас был Садик Хаким, Керли Рассел играл на контрабасе, Макс Роуч на барабанах и сам Птица на альт-саксофоне. Пластинка называлась «Charlie Parker's Reboppers» и получилась классной – по крайней мере, так многие считали, а уж мне так она точно создала имя в бибопе.
Надо сказать, что работа над этой пластинкой далась мне нелегко. Помню, Птица хотел, чтобы я играл «Ко-Ко», тему на основе вариаций «Cherokee». А сам ведь прекрасно знал, что тогда мне было не одолеть «Cherokee». Когда он предложил мне играть именно эту тему, я наотрез отказался. Поэтому в «Ко-Ко», «Warmin' up a Riff» и «Meandering» на трубе играет Диззи – я не мог позволить себе вылезти в этих вещах на всеобщее посмешище. Я не был готов тогда играть темы в темпе «Cherokee», но и убиваться из-за этого тоже не собирался.
Пока мы делали эту запись, произошел один смешной случай. Когда Диззи играл свои роскошные соло, я, оказывается, завалился на пол спать и пропустил всю его мастерскую игру. Потом уже, когда я слушал его на пластинке, мне оставалось только головой качать и разводить руками. Диззи играл в тот раз потрясающе.
Но вообще-то эта сессия записи проходила как-то не по-людски – к Птице все время таскались какие-то темные личности и сбытчики наркотиков. Всю работу мы проделали, кажется, за один день. Это было в конце ноября, в свободный от выступлений день, значит, наверняка в понедельник. Время от времени в дверях появлялась очередная харя, Птица удалялся с ней в ванную, а потом через час-другой выходил. А мы сидели без дела и ждали, пока Птица дозанется. Потом он возвращался, занаркоченный и все такое. Но под кайфом Птица играл вдохновенно, на отрыв.
Когда эта пластинка вышла, некоторые обозреватели обругали меня, особенно один там постарался – из журнала «Даун Бит». Забыл его имя, зато помню, что он написал: как я уродливо копирую Диззи и как плохо для меня это кончится. Обычно я плюю на критиков, но тогда этот тип задел меня за живое: я ведь был еще молод и для меня было важно хорошо зарекомендовать себя у фирм грамзаписи. Но Птица и Диззи посоветовали мне не обращать внимания на все эти идиотские замечания критиков, и я так и поступил. Главным для меня было – что скажут они, Птица и Диззи, о качестве моей игры. Тот парень из «Даун Бита» наверняка никогда в жизни музыкального инструмента в руках не держал. Может, с того раза и пошла моя неприязнь к критикам – я ведь был еще совсем молодым, мне многому предстояло научиться, а они так хладнокровно расправлялись со мной. Они отнеслись ко мне тогда с подлым равнодушием, совершенно безжалостно. Мне это показалось несправедливым: уж слишком строго они судили, ничуть не подбодряли молодых.
Хотя наши с Птицей профессиональные отношения складывались как нельзя лучше, личные день ото дня портились. Я уже говорил, что Птица жил у меня какое-то время, правда, не так долго, как об этом потом писали. Просто я снял ему комнату в том же доме, где жил сам с семьей. Но он постоянно торчал у нас, занимал деньги и вообще вел себя безобразно – сжирал все, что готовила Айрин, а потом валялся пьяный на диване или на полу. Вдобавок он приводил с собой разных баб и банчил, драгдилеров и дружков-музыкантов, такую же наркоту, как и он сам.
Одного я никак не мог понять в Птице – зачем он сам себя разрушает. Не таким уж он был идиотом. Он был интеллектуалом. Читал романы, поэзию, книги по истории, всякое такое. Мог поддержать разговор с кем угодно и на любую тему. Не был он ни невежественным, ни неграмотным. И был по-своему чувствительным. Но сидела в нем какая-то чудовищная разрушительная сила. Он был гением, а большинство гениев страшно жадные до жизни. Он любил порассуждать на политические темы – потихоньку, с невинной и глупой рожей завести собеседника, а под конец ошарашить его. Особенно он любил проделывать это с белыми. А потом насмехался над ними – когда они догадывались, что он их поимел. Непростой он был человек.
И еще он ужасно злоупотреблял моей любовью и уважением к нему как к великому музыканту.
Барыгам он говорил, что я оплачу его долги. А эти сволочи и рады стараться – приходили ко мне
и нагло угрожали. В конце концов это начинало становиться опасным. Я не выдержал и сказал ему и всем его подельникам, чтобы больше они в мой дом не таскались. Дошло до того, что Айрин пришлось уехать в Сент-Луис. Она, правда, вскоре вернулась в Ныо-Иорк – как только Птица перестал к нам ходить. Птица к тому времени повстречался с Дорис Сиднор и переехал к ней куда-то на Манхэттен-авеню. Но когда Птица ушел, а Айрин еще не вернулась, у меня поселился Фредди Уэбстер – и мы с ним беседовали все ночи напролет. С ним все было намного проще, чем с Птицей.
Осенью 1945 года в промежутках между выступлениями с Птицей я немного играл с Коулменом Хокинсом и Сэром Чарльзом Томасом в клубе «Минтоп». Я уже говорил, что любил играть с Кочаном, – он был бесподобным музыкантом и прекрасным человеком. Он всегда хорошо ко мне относился, почти как к сыну. Господи, Кочан всю душу вытягивал из меня своими балладами – как «Body and Soul», например. Он был родом из Сент-Джозефа в Миссури, есть такой городишко рядом с Канзас-Сити, где родился Птица. Мы все – Птица, я и Кочан – выходцы со Среднего Запада. Я думаю, это сильно повлияло на нас в музыкальном отношении, а иногда, по крайней мере в случае Птицы, и в социальном. Мысли у нас работали в одном направлении, и на многие вещи мы смотрели одинаково. Кочан был прекрасным парнем, одним из лучших, кого я знал, и очень многому научил меня в музыке.
К тому же он отдавал мне свои шмотки. Я всегда спрашивал, сколько он хочет за пальто или рубашку, а он отдавал их мне за пятьдесят центов или около того. Он покупал тряпки в модном магазине на Бродвее около 52-й улицы, а потом продавал их мне за бесценок. К примеру, Кочан мог отдать мне один из своих бесчисленных хипповых плащей всего за десять долларов. Однажды в Филадельфии он познакомил меня с двумя ребятами – Нельсоном Бойдом и Чарли Шоу (кажется, барабанщиком, уже не помню). Так вот, Чарли сам шил себе костюмы и иногда делал их и для Кочана. Господи, до чего же они были хороши! Я попросил Чарли: «Сошьешь мне костюм?»
Он сказал, чтобы я принес ему материал, а он бесплатно сошьет мне костюм. Так я и сделал. И он сшил мне двубортный костюм, который я буквально до дыр заносил. Мне кажется, на всех фотографиях 1945—1947 годов я в костюмах Чарли Шоу. После этого каждый раз, когда у меня заводились деньги, я шил себе костюмы на заказ.
Работая с Кочаном, я имел возможность ближе познакомиться с Телониусом Монком – он тоже был в нашем оркестре. Дензил Бест играл на барабанах. Мне очень нравилась тема Монка «Round Midnight», и я хотел научиться ее исполнять. Поэтому каждый вечер я спрашивал его: «Монк, ну как я сегодня играл?» И он отвечал мне совершенно серьезно: «Неправильно ты сегодня играл». В следующий раз то же самое, и в последующий, и потом тоже. Так продолжалось некоторое время.
«Нельзя эту вещь так играть», – говорил он, иногда даже со злобой и раздражением. И вдруг однажды на мой вопрос ответил: «Йес, вот так правильно».
Господи, я был на седьмом небе, счастлив, как свинья в помоях. Наконец-то мне далось правильное звучание. Это была одна из самых трудных вещей. «Round Midnight» играть совсем нелегко – там сплошные ручейки, которые надо собрать воедино. Нужно было слышать все аккорды, все переходы, а также верхний регистр. Это одна из тем, которые нужно уметь хорошо слышать. Она не похожа на обычную восьмитактную мелодию или мотив и заканчивается в миноре. Ее было трудно выучить и запомнить. Я и сейчас могу ее играть, но делаю это не очень часто, пожалуй, только иногда, когда я репетирую один. Эта мелодия давалась мне с трудом потому, что нужно было разобраться в сложных гармониях. Нужно было ее слышать, играть и при этом импровизировать таким образом, чтобы и Монк мог слышать тему.
Импровизации я выучился у Кочана, Монка, Дона Байеса, Лаки Томпсона и у Птицы. Но Птица был величайшим импровизатором, виртуозом – он выворачивал темы наизнанку. Если не знаешь мелодии, сам черт не поможет понять, где сейчас, импровизируя, парит Птица. Понимаешь, у Кочана, Дона Байеса, Лаки Томпсона был один подход: сначала они исполняли соло, а потом импровизировали. И ты продолжал слышать тему. Но когда играл Птица, это была совершенно иная картина – он это делал совершенно по– другому и каждый раз по-разному. И был лучшим среди лучших.
Это можно объяснить и вот так: есть просто художники и есть великие художники. В нашем веке, по-моему, это были Пикассо и Дали. Птица был для меня вроде Дали, моего любимого художника. Мне нравится Дали, потому что он совершенно фантастически изображает смерть. Понимаешь, мне нравится его образность и мне нравится его сюрреализм. Дали всегда меня чем-то глубоко поражал – может, только меня, – он так не похож на всех остальных, ну, помнишь, например, голову человека в груди. И он так тщательно выписывал свои картины. А у Пикассо, кроме картин в стиле кубизма, чувствовалось африканское влияние, и я как будто нутром понимал, о чем это. Поэтому Дали был для меня более интересен, он учил меня по-новому смотреть на вещи. Птица был таким же в музыке.
У Птицы было пять или шесть стилей, и все разные. Один как у Лестера Янга, другой как у Бена Уэбстера, один такой, который Сонни Роллинз называл «клюющим» – когда трубач исполняет очень короткие фразы (сейчас в таком стиле работает Принц); и еще по крайней мере два, которые я сейчас не могу описать. Монк как композитор и пианист так же работал – не точная копия Птицы, но похоже.
Я сейчас много думаю о Монке, потому что всю его музыку можно переложить на новые ритмы, которыми пользуются сейчас многие молодые композиторы – Принц, например, или если взять мою новую музыку, да и многие другие вещи. Он был великим музыкантом, новатором, особенно в том, что писал и сочинял.
На сцене Монк вел себя занятно – при игре отбивал такт ногами. Я любил следить за ним, когда он играл, – по его ногам сразу было ясно, захватывает его музыка или нет. Если они двигались непрерывно, значит, он полностью поглощен музыкой, а если нет, то, значит, его не захватило. Будто смотришь и слушаешь, как исполняют церковную музыку – там ведь все в пульсациях, ритмах. Многое в нем сейчас напоминает мне карибскую музыку – как ее исполняют сейчас, – я имею в виду его акценты и ритмы и его подход к мелодии. Знаешь, многие ребята утверждали, что Монк играл не так хорошо, как Бад Пауэлл, все считали, что технически Пауэлл лучше – он играл намного быстрее. Но это полная чушь, нельзя их так рассматривать – у них была совершенно разная манера игры. Монк играл по-настоящему круто, как и Бад Пауэлл. Но играли они по-разному. Бад скорее напоминал Арта Тейтума, а все пианисты-боперы с ума сходили по Арту. Монк был ближе к Дюку Эллингтону, к «страйду», который так любил Дюк. Но в игре Бада можно было услышать и манеру Монка. Они оба были великолепными музыкантами – просто с разными стилями.
Они были такими же разными, как Птица и Кочан, как Пикассо и Дали. Но что касается сочинения музыки, Монк был в авангарде. Он был настоящим новатором.
То, что я сейчас скажу, может прозвучать странно, но мы с Монком были очень близки в музыкальном отношении. Он показывал мне все свои вещи, и если я в них чего-то недопонимал, он принимался объяснять мне трудные места. Я все его темы знал и часто смеялся над ним – такими они казались мне смешными и причудливыми. В музыкальном смысле у Монка было отличное чувство юмора. Он был настоящим новатором, его музыка обгоняла время. Даже сейчас его можно адаптировать в современный «фыожн» или в более популярные течения; может быть, не все его мелодии, но те, где чувствуется настоящий поп, ну знаешь, особый ритм, который удается только черным, Джеймсу Брауну например. У Монка во всех композициях была эта изюминка.
Он был серьезным музыкантом. Когда я с ним познакомился, он сидел на наркотиках, торчал от амфетамина. Во всяком случае, по слухам это было так. Но когда я начал учиться у него музыке – а я взял у него очень многое, – он не особенно этим злоупотреблял. Он был настоящим бугаем – около шести футов и двух дюймов и весил за двести фунтов. За себя он всегда мог постоять. Рассказы о том, как однажды мы с ним чуть не подрались из-за того, что я шикнул на него на сцене, чтобы он не сопровождал мое соло в «Bags' Groove», просто смешны, потому что, во– первых, мы с Монком были близкими друзьями, а во-вторых, он был слишком большой и сильный, чтобы я даже на секунду подумал о драке с ним. Черт, да если бы он захотел, он по мне как каток проехал. Я всего лишь попросил его заткнуться, когда я играю. И это относилось только к музыке, а не к дружбе. Он тоже иногда просил ребят не вылезать со своей игрой.
Он, конечно, был великим музыкантом, но мне не нравилось играть на его фоне, то есть меня не устраивал ритмический рисунок его аккордов. Понимаешь, чтобы играть с Монком, нужно играть как Колтрейн – со всеми этими интервалами и не связанными между собой кусками. Вообще-то он играл отлично. Это был высший пилотаж исполнения. Просто мне это не подходило.
Монк был тихоней. Иногда они с Кочаном затевали «глубокие» разговоры. Кочан любил подтрунивать над Монком. А тот добродушно принимал это, потому что любил Кочана и еще потому что, несмотря на свою устрашающую комплекцию, был мягким, спокойным и деликатным человеком, почти безмятежным. Но если случалось наоборот и Монк принимался подшучивать над Кочаном, тот начинал злиться.
Раньше я об этом никогда не задумывался, но сейчас мне ясно, что ни один критик не понимал тогда музыки Монка. Да Монк рассказал мне о музыкальной композиции гораздо больше, чем кто-то еще на 52-й улице! Он мне все показывал: играй этот аккорд так, делай это, используй это, делай то. И не просто слова произносил, а садился рядом за пианино и показывал. Но с ним нужно было все на лету схватывать и уметь читать между строк, потому что он никогда ничего не разжевывал. Делал, как считал нужным – в немного странной, присущей только ему манере. И если не очень серьезно отнесешься к делу и к тому, что он показывал – именно показывал, а не говорил, – то сразу возникали вопросы: «Что? Как это? Что он делает?» Но если оказался в таком положении – пиши пропало. Все шло насмарку. И ничего не поделаешь. Больше к этому уже нельзя было вернуться. К тому моменту Монк был уже занят чем-то другим. Потому что Монк не мог и не хотел мириться с халтурой. Но он видел, что я отношусь к делу серьезно, и давал мне все, что мог, а это было очень и очень много. И хотя в свободное время мы с ним мало виделись – он не был особенно общительным, – в отношении музыки он всегда был для меня старшим товарищем и наставником, и я реально чувствовал, что очень близок ему, а он мне. Не думаю, что он для кого-нибудь сделал столько, сколько для меня. Может, я и ошибаюсь, но я так не думаю. И все же, хоть у Монка и была прекрасная душа, он казался странным людям, которые его не знали, – точно так же, как и я позднее казался странным тем, кто не знал меня.
Сэр Чарльз Томпсон тоже был с тараканами, правда, не с такими, как у Монка, чья странность в основном шла от его «тихости». Сэр Чарльз приглашал меня играть на трубе, Конни Кея на ударных, а сам играл на пианино. Я до этого никогда не слышал о таком сочетании инструментов, но это совершенно не волновало Сэра Чарльза, который сам себя лордом назначил. Он в этом смысле тоже был со странностями, но уж тихим его никак не назовешь.
За то недолгое время, что я был в оркестре Сэра Чарльза, многие музыканты приходили поиграть с нами в клуб «Минтон» – Птица, Милт Джексон, Диззи и отличный белый трубач Ред Родни. Часто заходил Фредди Уэбстер, и, помню, в первый раз пришел Рэй Браун и так хорошо играл, что всех посрамил. Сэр Чарльз приглашал очень хороших музыкантов. Сам он вышел из эры свинга, из того типа музыки, которую играли Бак Клейтон, Иллинойс Джеккет и Рой Элридж. Он играл на фортепиано в стиле Каунта Бейси. Но если хотел, мог копировать некоторые особые приемы Бада Пауэлла. И с боперами любил играть. Я знаю, что он нравился Гилу Эвансу. Мне он тоже какое-то время нравился, но у меня был другой путь – к Птице и Диззи, по крайней мере в то время.
В оркестре Птицы моим закадычным другом стал Макс Роуч. С ним и с Джей-Джеем Джонсоном мы шатались ночами по улицам, пока под утро не оказывались либо в берлоге Макса в Бруклине, либо у Птицы. Другие ребята-музыканты – Милт Джексон, Бад Пауэлл, Фэтс Наварро, Тэдд Дамерон и Монк, иногда и Диззи – тоже были как бы «нашими». Мы ничего не жалели друг для друга. Если кому-нибудь что-то требовалось, например моральная поддержка или деньги, мы делились всем, что у нас было. Если Макс считал, что мне чего-то недостает в профессиональном отношении, он всегда растолковывал мне, чего именно. А я точно так же поступал в отношении него.
Но больше всего удовольствия мы получали от игры на джем-сешн в Гарлеме с парнями нашего возраста. Я всегда был окружен музыкантами старше себя, которые могли меня чему-то научить.
И вот теперь, в Нью-Йорке, я наконец нашел своих однолетков – с ними можно было и поучиться, и своим дерьмом похвастаться. До этого у меня было мало знакомых из молодых ребят.
В музыке я их опережал, и у них не было ничего, что бы они могли мне дать. Обычно бывало наоборот. Ну, такой уж я человек – мне всегда подавай что-то невиданное и неслыханное. Так что с Максом и другими ребятами, которых я уже называл, мы ночами напролет играли и разговаривали о музыке. И это всегда было моим любимым времяпрепровождением.
Нью-Йорк в то время был не таким, как сейчас, – мы могли бродить по улицам и выискивать, где проходят джемы. К тому же в клубах, как ни в чем не бывало, сидели великие музыканты. В отличие от теперешнего времени, никто тогда не зазнавался только лишь оттого, что участвовал в джем-сешн. Клубы находились совсем близко друг от друга – так было на 52-й улице, да и в Гарлеме – в «Лоррене» или в клубе «Минтон» или в «Смолз Пэрэдайз» рядом с Седьмой авеню.
Они не были разбросаны на большом расстоянии друг от друга, как сейчас. А нашей главной задачей было вписаться в музыкальный пейзаж. Мне кажется, сейчас такого уже нет.
Я всегда любил искушать судьбу – как в музыке, так и, став старше, в личной жизни. Но в том далеком 1945 году я рисковал только в музыке. Макс Роуч в то время был таким же. Считалось, что каждый из нас пойдет по стопам знаменитостей: все говорили, что Макс будет новым Кении Кларком, который в то время считался лучшим ударником-бопером; все звали его Клук [6]6
Искаженно произносили его фамилию.
[Закрыть]. Меня прочили в преемники Диззи Гиллеспи. Не знаю, справедливо это или нет, но так говорили и музыканты, и публика, запавшая на бибоп.
А критики меня все ругали: я думаю, в какой-то степени это было связано с моим поведением на сцене – я никогда не раскланивался с заискивающими «нигерскими» улыбочками и никогда никому не лизал задниц, в особенности критикам. Им ведь кто нравится? Подхалимы. К тому же многие из критиков – белые и привыкли, что черные перед ними лебезят, надеясь получить хороший отзыв. Вот многие ребята и вели себя как настоящие жополизы, угодливо гримасничали на сцене и потешали публику, вместо того чтобы просто играть на своих инструментах – для чего, собственно, они там и находились.
Как ни любил я Диззи и как ни любил я Луи «Сэчмо» Армстронга, я всегда ненавидел их манеру строить гримасы на сцене. Я знаю, почему они это делали, – из-за денег и потому, что они – эстрадники, не просто музыканты. Им нужно было кормить семьи. К тому же им обоим нравилось паясничать – так уж они, Диззи и Сэч, были устроены. Я не против – пусть делают как хотят. Но мне это не нравилось, и у меня не было необходимости себя насиловать. Я из другой социальной среды, из другого класса, к тому же я со Среднего Запада, а они оба с Юга. Так что мы на белых смотрим немного по-разному. И еще я был моложе их, и мне не пришлось сожрать столько дерьма, сколько им, чтобы пробиться в музыкальном бизнесе. Они смогли открыть много дверей для таких музыкантов, как я, и я чувствовал, что могу обойтись без клоунады, просто играя на своей трубе—а это было единственное, чего мне хотелось. Я не считал себя эстрадником, а они видели себя именно так. Я не собирался потакать какой-нибудь белой расистской гниде, которая к тому же ни на одном инструменте не способна играть, только ради того, чтобы получить одобрительную рецензию. Нет уж, я своим принципам изменять не собирался. Я хотел добиться признания как хороший музыкант, а для этого не надо паясничать, для этого нужно просто уметь хорошо играть на трубе. И так я поступал и тогда, и сейчас. И пусть критики либо принимают это, либо катятся куда подальше.
Так что в те времена большинство критиков меня не любили – да и сейчас та же картина, – потому что я слыл заносчивым Нигером. Может, я и был таким, но я хорошо знал, что мне лично писать о том, как я играю, было не нужно, и если они не могли или не хотели этого делать, то я спокойно мог послать их на три буквы. Макс и Монк тоже так считали, и Джей-Джей, и Бад Пауэлл. И это нас еще больше сплачивало – такое отношение к себе и к нашей музыке.
К тому времени у каждого из нас складывалась репутация в музыкальном мире. В залах, где мы играли, народу набивалось до отказа – ну знаешь, в Гарлеме, в центре на Улице, иногда в Бруклине. И еще стало приходить много
женщин посмотреть на нас с Максом. Но у меня была Айрин, и в то время я считал, что у мужчины должна быть только одна женщина. Я верил в это дерьмо довольно долго, но потом перестал – когда подсел на наркотики и стал использовать женщин как материальную поддержку.
Но в то время моим принципом было: «один мужчина для одной женщины». Впрочем, у меня уже бывали приключения с некоторыми женщинами, с Энни Росс и Билли Холидей например.
В конце 1945 года Улица все еще была закрыта, и Диззи с Птицей решили уехать из Нью-Йорка в Лос-Анджелес. Билли Шоу, агент Диззи, убедил одного тамошнего хозяина ночного клуба, что бибоп произведет на Западном побережье сенсацию. Кажется, его звали Билли Берг. Диззи понравилась идея о распространении бибопа в Калифорнии, но перспектива снова мириться с капризами Птицы ему совсем не улыбалась. Он было заупрямился, но, когда ему сказали, что Птица обязательно должен участвовать в этом проекте, смирился. В целом группа состояла из Диззи, Птицы, Милта Джексона на вибрафоне, Эла Хейга на фортепиано, Стэна Леви на ударных и Рэя Брауна на басу. Вся команда отправилась в Калифорнию на поезде, кажется, в декабре 1945 года.
В музыкальной жизни Нью-Йорка наступило затишье, и я решил поехать в Ист-Сент-Луис отдохнуть. От своей квартиры на углу 147-й улицы и Бродвея я отказался: Айрин и Черил жили со мной, и нам в любом случае нужно было помещение попросторнее. Переездом я решил заняться по возвращении. А тем временем мы все поехали в Ист-Сент-Луис на Рождество.
В январе я еще был в Сент-Луисе, и когда туда приехал Бенни Картер со своим биг-бэндом играть в «Ривьере», я пошел послушать их, а так как был знаком с Бенни, то зашел к нему за кулисы. Он был рад мне и пригласил в свой оркестр, который базировался в Лос-Анджелесе. Так как Диззи и Птица были там, я позвонил Россу Расселу, который жил в Нью-Йорке и устраивал все ангажементы Птицы, и сказал ему, что собираюсь в Лос– Анджелес и хотел бы найти там Птицу и Диззи. Он дал мне номер телефона Птицы, я позвонил ему и сказал, что еду в Лос-Анджелес.
Пойми, все, о чем я тогда думал, – это просто повидаться с Птицей и послушать его игру. Другой причины звонить Птице у меня не было. Но он начал уговаривать меня присоединиться к их оркестру, говорил, что мы с ним и с Диззи должны играть вместе. Сказал, что договаривается с фирмой «Дайэл Рекордз», что Росс Рассел организует эту запись и хочет, чтобы я тоже участвовал. Мне было лестно это слышать – он меня просто захваливал. А ты не описался бы от счастья, если бы самый крутой из сукиных сынов сказал тебе, что ты тоже крутой и что он хочет играть с тобой?
Но вообще-то, если имеешь дело с Птицей, всегда нужно помнить, что он постарается впендюрить тебе что-то, вовсе с музыкой не связанное. У меня и в мыслях не было занимать место Диззи. Я любил его. Мне было известно, что у Диззи с Птицей в прошлом не все шло гладко, но я надеялся, что они снова поладили, как в былые времена.
Я ведь не знал, что Птица и Росс Рассел заранее спланировали пригласить меня. Птице не нужен был такой трубач, как Диззи. Ему нужен был кто-то с более расслабленным стилем, играющий в среднем регистре, как я. Но я узнал об этом уже после моего приезда в Лос-Анджелес.
Когда мы туда приехали, у Бенни Картера был ангажемент в театре «Орфей». Отыграв эти концерты, бэнд на время распался – до следующей работы. Тем временем на основе большого оркестра Бенни сколотил маленькую группу, в которую вошли я, тромбонист Эл Грей и еще кое– какой народ, я их не запомнил. По-моему, там был парень по имени Бампс Мейерс. Мы выступали в небольших клубах Лос-Анджелеса и записались на радио. Но мне не нравилась музыка, которую играл ансамбль Бенни, хотя тогда я ему этого прямо не высказал. Он был хорошим парнем, мне нравилось, как он сам играл, но я совершенно не воспринимал игру других его музыкантов. К тому же, когда я впервые приехал в Лос-Анджелес, я жил у Бенни. Так что было бы подло вдруг ни с того ни с сего выступить против него. Какое-то время я вообще не знал, что мне делать, но в оркестре Бенни мне играть не нравилось еще и потому, что у них было засилье старомодных номеров и аранжировок. Бенни отличный музыкант, ты знаешь. Но он не был уверен в своей игре и иногда спрашивал, не звучит ли он как Птица. Я ему говорил: «Да нет, ты звучишь как Бенни Картер». И когда я так говорил, он от удовольствия заливался смехом.
С Птицей я играл в ночном клубе, который назывался «Финал», хотя я был штатным сайдменом в оркестре Бенни Картера. «Финал» находился наверху, кажется, на втором этаже. Это было совсем небольшое заведение, но довольно приятное, фанковое, на мой взгляд, музыку там играли в стиле «фанк» и музыканты играли на отрыв. Они вели оттуда радиопередачи в прямом эфире. Птица уговорил одного парня по имени Фостер Джонсон, водевильного чечеточника на пенсии, который был менеджером клуба, пустить его туда со своим оркестром. «Финал» находился в районе Лос– Анджелеса, который назывался Маленький Токио. А рядом с японской общиной была негритянская. Кажется, «Финал» был на улице Саут Сан Педро. В общем, в оркестре Птицы в «Финале» играли я на трубе, Птица на альте, Эддисон Фармер – брат-близнец трубача Арта Фармера – на басу, Джо Элбани на пианино и Чак Томпсон на барабанах. На джем-сешн в «Финал» заходили многие хорошие музыканты. Ховард Макги приходил много раз. Он потом руководил клубом после Фостера Джонсона. Сонни Крис, альт-саксофонист, тоже играл с нами, и Арт Фармер, и басист Ред Каллендер, и протеже Реда – чудной малый, совершенно не от мира сего – Чарли Мингус.
Чарли Мингус любил Птицу, как никто другой, такого я больше не видел. Может, только Макс Роуч мог с ним сравниться. Но Мингус, черт, приходил слушать Птицу почти и каждый вечер. И никак не мог насытиться его игрой. Я ему тоже очень нравился. Сам Мингус классно играл на контрабасе, и все, кто его слышал, знали, что со временем он превратится в бесподобного музыканта, каким он потом и стал. И еще мы знали, что он непременно приедет в Нью-Йорк, и так оно и случилось.
А я устал от музыки, которую исполнял оркестр Бенни. Да это вообще не было музыкой. Я рассказал своему другу Лаки Томпсону, что меня тошнит от этого оркестра. Он посоветовал мне уйти от них, а пока пожить у него. Лаки был крепким саксофонистом, мы с ним познакомились в клубе «Минтон». Он был родом из Лос-Анджелеса и сейчас вернулся домой. Лаки тоже останавливался у меня – несколько раз, когда приезжал в Нью-Йорк. В Лос-Анджелесе у него был дом, и я стал жить у него.
Было начало 1946 года, и моя подруга Айрин ждала в Ист-Сент-Луисе нашего второго ребенка, Грегори. Теперь мне нужно было думать о заработке, чтобы содержать семью. До моего ухода из оркестра Бенни спросил, не нужны ли мне деньги. Он слышал, что я в депрессии. Но я ему только сказал: «Да нет, я просто хочу уйти». Он обиделся, и мне стало неловко – ведь он вытащил меня в Калифорнию и рассчитывал на меня. В первый раз я так внезапно покидал оркестр. Мне платили около 145 долларов в неделю. Но я просто страдал, играя в оркестре Бенни, и никакие деньги не спасли бы меня от долбаных аранжировок Нила Хефти, которые бубнил этот оркестр.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?