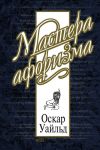Текст книги "Беседы с Оскаром Уайльдом"

Автор книги: Мерлин Холланд
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 6 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
А теперь поговорим…
Далее Оскар Уайльд участвует в воображаемом разговоре, в котором обсуждаются четырнадцать различных тем, и дает ответы на пытливые вопросы.
Вопросы выделены жирным.
Ответы Уайльда даны обычным шрифтом.
Знакомьтесь – мистер Уайльд
Париж всегда был духовным пристанищем для Оскара Уайльда. Однажды он сказал, что это самый чудесный город в мире, единственная цивилизованная столица и единственное место на Земле, где существует абсолютная терпимость к любым человеческим слабостям. Он хорошо говорил по-французски и проводил иногда по три месяца в Париже по разным поводам, встречаясь с Виктором Гюго, Полем Верленом и Андре Жидом. Именно там он написал большую часть своей скандальной пьесы «Саломея» в 1891 году, а когда она была запрещена в Англии, даже грозился, что примет французское подданство. Похоже, нам не найти более подходящего места, чтобы расспросить Уайльда о его жизни и творчестве.
* * *
Ну, дорогой мой, это сюрприз, но очень приятный, и я рад, что вы выбрали Париж. Не думаю, что я решился бы снова оказаться в Лондоне, даже после такой долгой разлуки. Пиво, Библия и семь смертных грехов сделали англичан такими, какими они были в мое время – узколобыми противниками искусства, и я думаю, что вряд ли что-то изменилось с тех пор, как я покинул Англию в 1897 году. Я говорю «покинул», но это, как вы знаете, не вполне точно. Они отправили меня в тюрьму на два года, что было равноценно изгнанию, и сразу после освобождения я уехал во Францию. Я всегда считал ее цивилизованной страной, где уважают людей искусства и не слишком обращают внимание на то, что происходит за закрытыми дверями. К тому же я обожаю французский язык. Для меня существуют только два языка в мире – французский и греческий. Я даже однажды написал пьесу на французском… Но что это мы, только вошли и едва знакомы, а я уже обрушил на вас всю эту тягомотину на правах старого друга. Где мы сядем? Где-нибудь, где я мог бы позволить себе сигарету. Не возражаете, если я закурю?
* * *
Нет, конечно, но, боюсь, это уже перестало быть тем утонченным развлечением, каким оно было в ваше время. Даже в Париже теперь есть законы, которые диктуют нам, что можно и чего нельзя…
Что за ерунда! Я всегда говорил, что курение – образец совершенного удовольствия: это восхитительно, но не дает удовлетворения. Опасаюсь, что курение скоро тоже станет уголовно наказуемым, если только двое взрослых людей не договорятся покурить по взаимному согласию. А теперь, когда мы отдали должное современности и начали с конца, давайте в лучших традициях авангардизма вернемся к началу.
* * *
Вообще, я именно это и хотел предложить, в особенности учитывая то, что вы однажды сказали Андре Жиду – что вы вложили в свою жизнь свой гений, а в свои произведения – лишь свой талант. Мне кажется, что вы всегда рассматривали свою жизнь как предмет искусства.
Именно так – и я очень рано понял это, хотя еще ничего не знал о последствиях такого отношения. Главное в жизни стиль, а не искренность – этому меня научила мама. Не то чтобы она была неискренней, когда дело касалось Ирландии и англичан, но ее особенностью был именно стиль, окрашенный любовью ко всему необычному, экзотическому, экстравагантному. Да, ей нравилось быть «леди Уайльд», женой всеми уважаемого сэра Уильяма, но я всегда вспоминаю случай – я тогда был студентом, – когда одна из подруг попросила разрешения привести «респектабельную» знакомую на один из наших субботних званых вечеров. «Респектабельную! – воскликнула мама. – Никогда не произноси здесь этого слова. Респектабельными бывают только торговцы». С тех пор я приглашал домой друзей, где их встречала мама, говоря, что мы с ней вместе основали Общество усмирения добродетели.
* * *
Восхищение порочностью, отрицание всех правильных ценностей среднего класса, которых с таким рвением придерживались в Викторианскую эпоху, – именно с этим вас всегда ассоциируют. Вас это никак не смущает?
Ни в малейшей степени. Порочность – это просто миф, придуманный добродетельными и респектабельными людьми, чтобы объяснить непонятную привлекательность тех, кто от них отличается. Добродетельные люди взывают к разуму – дурные люди возбуждают воображение. Вот почему преступники всегда привлекали меня, а позднее именно из-за этого я попал в беду. Но, если ты предпочитаешь писать о людях, чье поведение критики клеймят как аморальное, это не означает, что ты сам придерживаешься такого поведения. Это очень скользкая тема – искусство и мораль, и я, пожалуй, остановлюсь на ней позже, когда вы поймете, почему я предал гласности некоторые вещи, которые я делал.
* * *
Хорошо. Давайте поговорим о годах становления вашей личности. Насколько я понимаю, вы с вашим братом Уилли получили вполне традиционное воспитание?
Да, именно так, если понимать под этим то, что мы были частью дублинского светского общества, учились в закрытой школе, изучали классиков и проводили каникулы в нашем загородном доме в графстве Голуэй. Но все это не мешало мне чувствовать свое отличие от моих сверстников. У меня было ощущение, что я другой и меня ждет другая судьба. Я даже сказал однажды, что мне ничего бы так не хотелось под конец жизни, как выступить в суде ответчиком по делу «Королева против Уайльда». Очень умное, но на редкость неудачное высказывание, которое припомнилось мне двадцать пять лет спустя, когда я понял, что в жизни есть только две трагедии – не получить желаемое или получить его. И второе намного хуже. Чему научила меня школа? Да тому, что она не может научить ничему стоящему. Например, моя любовь к греческой и латинской литературе, которую я пронес через всю жизнь, была и эмоциональной, и интеллектуальной. Для моего школьного учителя было бы потрясением узнать, что я получал намного больше удовольствия от чтения вслух классиков в прекрасных изданиях, когда воскрешал странные каденции этих давно уснувших языков, чем от простого перевода слов.
Знаток греческого
Когда Уайльд покинул Королевскую школу Портора в Эннискиллене, графство Фермана, и поступил в Тринити-колледж в Дублине, перед ним открылся весь мир. Он преодолел препятствие в виде учителя, стоявшего между ним и знаниями, и вступил в мир, где идеи обсуждались, а не скармливались ученикам с ложечки. В 1871 году в Тринити-колледже он встретил Джона Пентлэнда Махаффи, который за два года до того, в возрасте тридцати лет, был назначен профессором истории Древнего мира.
* * *
Помимо вашего отца и матери, которые привили вам уважение к народным преданиям, суевериям и социальной справедливости, самое сильное влияние на вас, тогда совсем молодого человека, оказал Джон Махаффи, не так ли?
Если не считать Джона Рёскина и Уолтера Пейтера, о которых я расскажу вам через минуту, то да. Махаффи был исключительной, разносторонней натурой, с блестящим интеллектом – и при этом светским человеком с прекрасными манерами. Он был знатоком кларета и антиквариата, владел французским, немецким и итальянским и, казалось, был знаком с половиной европейских королевских семей. Но главное, он был замечательным собеседником. Он хорошо относился ко мне, потому что у меня имелись способности к изучению греческой литературы, которые, как он считал, стоило развивать. И это было только начало. Мой ум был пустым сосудом, который ждал, чтобы его наполнили, а кто мог сделать это лучше его? Я навсегда сохранил любовь и уважение к нему. Я многим обязан ему: он был моим первым и лучшим учителем, а также ученым, показавшим мне, как надо ценить греческие антики, человеком, открывшим мне силу слов, которые могут чаровать, гипнотизировать, отворять любые двери в обществе. Кажется, именно он сказал мне, что мы, ирландцы, слишком поэтичны для того, чтобы быть поэтами, – мы нация блестящих неудачников, но мы самые великие краснобаи и болтуны после греков, – и впоследствии я присвоил его слова и выдал их за свои. Почему бы нет? Использование устной традиции в качестве общего достояния всегда питало творческий кельтский дух.
* * *
Несмотря на ваши академические успехи в Тринити-колледже, через три года вы покинули его, не получив диплома.
Я ушел, потому что передо мной открылись более широкие горизонты. Я получил стипендию на обучение в оксфордском колледже Магдалины, частично по инициативе Махаффи, надо отметить. Я думаю, что он гордился моими успехами и ему было жаль терять меня, но он, как всегда, не преминул пошутить на прощание: «Давай-ка бегом в Оксфорд, Оскар. Для нас тут ты недостаточно умен». Но мы не потеряли связь друг с другом. В последующие три года я дважды путешествовал с ним в Италию и Грецию. Во втором путешествии я хотел сочетать поездку в Грецию с визитом в Ватикан, поскольку идея принять католичество все больше привлекала меня. Но благодаря моему бывшему наставнику потенциальный папист уступил уже сложившемуся язычнику. Однако я вернулся слишком поздно для весеннего семестра и был временно исключен из колледжа. Только представьте: я был отчислен из Оксфорда за то, что оказался первым студентом, посетившим Олимпию. Разумеется, никто в Дублине не поверил мне, и все посчитали, что на самом деле причина в каком-то скрытом скандале. И это был не последний раз, когда я влип в неприятности, потому что сказал правду.
* * *
Оксфорд сильно отличался от Тринити-колледжа?
Ну, помимо всего прочего, там было полно англичан. Я быстро обнаружил, что у нас мало общего за исключением языка, да и то не всегда. Если бы только кто-нибудь смог научить англичан говорить, а ирландцев слушать, такие места, как Оксфорд, стали бы вполне цивилизованными и удобоваримыми. Английский разговор оказался богат на умолчания и уклончивости и блистал вспышками молчания. Словом, совсем не к этому я привык в Дублине. Но в любом случае, оказавшись там, я первым делом избавился от ирландского акцента.
Махаффи мог преподать мне рафинированные светские навыки, но мне нужно было больше интеллектуальной основы для того, чтобы их использовать. И тут появляются Джон Рёскин и Уолтер Пейтер. Они имели очень мало отношения к моим занятиям античной литературой, так как сами они занимались искусствоведением и эстетикой. Я подружился с Рёскином, и наши прогулки и разговоры с ним остаются одними из самых дорогих для меня воспоминаний об Оксфорде. Какой-то стороне моей натуры импонировал его интеллектуальный, благородный и возвышенный подход к искусству. Но меня также тянуло к декадансу, ко всему эмоциональному и мистическому, и этой моей потребности удовлетворяло общение с Пейтером. Я прочитал его «Очерки по истории Ренессанса» сразу по приезде в Оксфорд, и это оказало какое-то странное влияние на всю мою жизнь.
* * *
В чем-то похоже на «ядовитую и совершенную» книгу, которую лорд Генри дает Дориану Грею…
Совершенно верно. Идея устроить в жизни как можно больше потрясений, всегда гореть тяжелым пламенем сжигаемой драгоценности и любить искусство ради самого искусства была и манящей, и опасной. Помню, как я сказал одному из друзей, когда мы гуляли утром по узким дорожкам вокруг колледжа Магдалины под несмолкаемый щебет птиц, что я хотел бы попробовать фрукты со всех деревьев в мире и что я выхожу в мир с этой страстью в душе. И именно это я и сделал. У меня не было намерения стать пожухлым преподавателем в Оксфорде. Я собирался стать поэтом, писателем, драматургом. Я хотел стать знаменитым, и если не знаменитым, то хотя бы скандально известным. В то же время я возмутил Оксфорд, заявив, что с каждым днем мне все труднее соответствовать моей коллекции бело-синего фарфора.
Преподаватель эстетики
Создав себе образ беспечного бездельника, Оскар покинул Оксфорд, получив отличные оценки по классическим предметам и престижную Ньюдигейтскую премию в области поэзии. Однако эйфория от успеха вскоре улетучилась. У него имелись некоторые средства для жизни в Лондоне, но необходимо было срочно найти какое-либо прибыльное занятие. Он предложил одному издательству перевести Геродота, подал заявление на обучение археологии в Афинах и несколько раз предлагал себя на должность смотрителя учебных заведений. Все это окончилось ничем, поэтому он обратился к другим способам найти свое место в столице.
* * *
Вы начали свою лондонскую жизнь нехарактерно для вас – хотели заниматься какими-то совершенно обычными видами деятельности. Почему?
Я подозреваю, что вы узнали об этом из моих писем, что, позвольте вам заметить, нечестно и не подобает джентльмену. Если уж вы хотите знать, я испытывал определенное давление со стороны семьи. Мой отец умер за два года до этого, и мы обнаружили, что наш дом в Дублине был заложен от крыши до подвала, так что мы с Уилли столкнулись с перспективой поддерживать мать. К счастью, до этого не дошло, хотя я по мере возможности оплачивал ее счета. Правда, вскоре я оставил мысль зарабатывать таким трудом. Я насмотрелся на то, как молодые люди с блестящими перспективами и отличными профессиями приезжали в Лондон и через несколько месяцев оказывались у разбитого корыта, выбрав так называемую полезную профессию. Я пришел к обдуманному решению завоевать себе репутацию до того, как начну чем-то заниматься. Я собирался стать знаменитым ради того, чтобы быть знаменитым. Таким образом, как только я действительно чего-то достигну, публика сразу признает меня. Я снимал дом вместе с моим другом Фрэнком Майлзом, который писал портреты светских красавиц. Я носил бархатные костюмы с мягко струящимися галстуками, отрастил волосы и стал представляться профессором эстетики и искусствоведом. Фрэнк представил меня Лили Лэнгтри, которая была любовницей принца Уэльского. И вскоре я остроумной болтовней пробил себе дорогу в некоторые лучшие дома Лондона.
* * *
Да, но это не приносило денег.
Зато я становился интересной персоной. Я делал некоторые вещи не так, как все привыкли их делать. Я переворачивал обыденность с ног на голову в то время, когда обыденность была добродетелью, и это было волнующе. Даже принц Уэльский однажды сказал: «Я не знаю мистера Уайльда, но не знать мистера Уайльда означает прозябать в неизвестности» – и попросил Лили представить ему меня. Меня иногда обвиняли в нескромности, но так ли ужасна нескромность? Не думаю. Это просто способ разнообразить свою личность. Тем не менее я прекрасно понимал, что новизна такого поведения скоро улетучится – общество известно непостоянством в своих увлечениях, – поэтому я стал писать сонеты знаменитым актрисам о ролях, которые они играли. Сара Бернар в «Федре» была великолепна, и мой сонет прибавил известности нам обоим, будучи опубликован через две недели после того, как я встретил «божественную Сару», сходящую с корабля, пересекшего Ла-Манш, с гигантским букетом лилий.
* * *
Помимо этого нового слова в театральной критике, вы, по-моему, как раз тогда же написали пьесу?
Я предпочел бы не говорить о некоторых моих неблагоразумных поступках, извиняемых юностью. Лучше отмечу, что я собрал все стихотворения, написанные после Тринити-колледжа, и издал их в одном томе – «Стихотворения» Оскара Уайльда. Мои друзья отозвались о них благосклонно, а недруги – неблагосклонно. Это все, что нужно знать о критике. Своих врагов нужно выбирать очень тщательно. Журнал «Панч» весьма недоброжелательно назвал его «разбавленным Суинберном», но имел достаточно здравого смысла, чтобы начать в карикатурах изображать меня «апостолом красоты» и вождем «эстетического движения». Даже если это и не обеспечило бессмертия, зато по крайней мере гарантировало скандальную известность.
* * *
Очень многие слышали об «эстетическом движении». Можно поподробнее?
Это большей частью выдумка, но все же не вполне миф. В сущности, речь идет о поиске красоты и культе искусства ради искусства, но публика смотрела на все это с подозрением, потому что они видели в нас претенциозность и манерность из-за многочисленных карикатурных изображений в прессе. А мы всего лишь протестовали против уродливости и материализма нашего века. Это не было полноценным движением, как романтизм или импрессионизм. Скорее некий ярлык, который получили некоторые писатели и художники – не всегда с этим согласные, – начиная с прерафаэлитов и заканчивая моим скандалом в 1895 году, если считать, что все это действительно продержалось так долго. Когда в 1881 году меня стали с ним ассоциировать, это было именно тем, чего я ждал и желал, потому что так я получил выгодный лекционный тур в Америке.
Открытие Америки
В апреле 1881 года Ричард Д’Ойли Карт продюсировал новую комическую оперу Гилберта и Салливана «Пейшенс» в Лондоне. В ней высмеивалось «эстетическое движение», и один из главных персонажей, Банторн, хотя и не был прямой карикатурой на Оскара Уайльда, имел некоторые отчетливо узнаваемые его черты. Когда в сентябре начался показ оперетты в США, Карт решил для пущей зрелищности привезти туда «живого» эстета, который прочтет цикл лекций, чтобы дать американцам представление о том, что именно сатирически высмеивается в этом шоу.
* * *
О чем вы подумали, когда Карт сделал вам это предложение? Он же не предлагал вам что-то вроде «большого турне», которое совершил Теккерей как знаменитый романист? Вам был явно предложен отравленный напиток.
Яд и одновременно шедевр, как и многое другое в моей жизни. Это была задача – найти противоядие для первого, а также выжить и постараться выжать из второго все возможное. Сразу по приезде в Нью-Йорк меня начали осаждать репортеры, хотя я был так же не подготовлен к встрече с ними, как они со мной. Это звучит забавно, но, несмотря на мою довольно шумную известность в Лондоне, меня никогда не атаковали журналисты такого типа, жадно хватавшиеся за каждую банальную сентенцию, которую я выдавал. Я думаю, они ожидали от меня Ниагарский водопад остроумных эпиграмм, но не получали его, так что любое случайное замечание, брошенное мной другому пассажиру во время плавания, превращалось в газетный заголовок: «Мистер Уайльд разочарован Атлантическим океаном». Но на следующий день я реабилитировался, заявив таможеннику, что мне нечего декларировать, кроме своей гениальности. В какой-то момент я подумал, что он собирается взять за нее пошлину как за редкий иностранный товар.
* * *
Нью-Йорк раскрыл вам такие объятия, о которых в Лондоне вы могли только мечтать.
Определенно. На меня сыпались приглашения, меня рвали на части – мне сказали, что ничего подобного не было с приезда Диккенса. Мне устраивали гигантские приемы, когда только представление мне присутствующих занимало два часа. Я любезно кланялся и иногда милостиво удостаивал их королевскими замечаниями, которые на следующий день появлялись во всех газетах. На улице толпы людей ждали появления моего экипажа. Я приветствовал их взмахом руки в перчатке и трости из слоновой кости, а они одобрительно вопили. Залы для меня везде увешивали белыми лилиями. У меня было два секретаря. Один для того, чтобы ставить мой автограф и отвечать на сотни писем, в которых его просили. Другой, с каштановыми волосами, посылал пряди своих волос вместо моих, когда о том просили юные леди. Он быстро облысел. Поскольку я любитель благородной неизвестности и непонятности, можете представить себе, как я ненавидел весь этот ажиотаж.
* * *
Ну, естественно, я уверен, что это было ужасным испытанием для вас. И это было совсем не то, ради чего вы приехали?
На самом деле это было полезной подготовкой, во время которой я научился обращаться с прессой. Но вы правы – я приехал читать лекции, и хотите верьте, хотите нет, но я собирался продемонстрировать серьезность моих намерений. Это и было то противоядие, которым я надеялся развеять уже сложившееся ложное представление обо мне и таким образом избавиться от дурацкого клоунского образа меня, представленного в «Пейшенс». Поэтому я читал лекции о том, что назвал новым Ренессансом английского искусства, и о его истоках в двухтысячелетней истории европейской культуры. Это было совсем не то, чего они ждали, – они думали, что будет что-то вроде сольного мюзик-холла, – но для меня это стало отличным примером того неоспоримого факта, что у нас с Америкой все общее, кроме, разумеется, цивилизации. Эта нация находится в постоянной спешке, у нее отсутствует психологическая предрасположенность к поэзии и романтике: только представьте себе Ромео и Джульетту в постоянном беспокойстве насчет поездов и обратных билетов. Практичных американцев интересовало совсем другое – что им делать с собственными предметами искусства и кустарными вещицами и как украшать свои дома. Так что я покончил с историей искусства ради дизайна интерьеров и сразу же добился успеха.
* * *
Обычно вы не шли на компромиссы.
Я предпочитаю думать об этом как о временной победе практицизма в моей натуре, в результате которой в самых дальних углах Америки захотели узнать мое мнение почти обо всем. Мое лекционное турне растянулось на год вместо первоначальных шести месяцев. Я читал лекции об ирландских поэтах в Сан-Франциско в Калифорнии, которая была похожа на Италию, только без итальянского искусства. Я выступал перед шахтерами серебряных рудников Лидвилла с рассказом о флорентийском чеканщике Челлини, и меня упрекнули, что я не привез его с собой. Когда я объяснил, что он в некотором смысле умер, они напрямик спросили меня, кто его застрелил. Я начал восхищаться американцами за их живительную открытость и странное обаяние, а они с тех пор обеспечили мне серьезный задел эпиграмм – зачастую, надо сказать, к их выгоде. Мой американский лекционный тур открыл мне глаза на значение искусства как облагораживающего фактора в жизни, что я не преминул отразить в моих лекциях.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?