Текст книги "Провидец Энгельгардт"
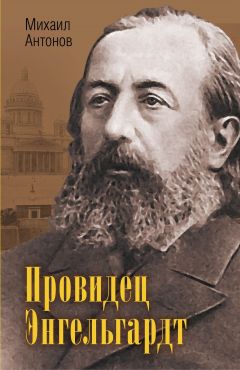
Автор книги: Михаил Антонов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 38 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Глава 11. Гимн русскому крестьянину
В среде помещиков и либеральной интеллигенции, воспитанной на западной культуре, всё шире распространялся взгляд на крестьян как на ленивое и невежественное «быдло», существа низшего рода. Концентрированное выражение это воззрение нашло в гневной реплике генерала из стихотворения Некрасова «Железная дорога»:
Не созидать – разрушать мастера,
Варвары! дикое скопище пьяниц!..
А в народническом движении преобладало «народопоклонство», превознесение «мужика» как стихийного социалиста. А. Н. Энгельгардт и тут не побоялся пойти против течения, причём против и того, и другого. Либералам он ответил показом ужаса крестьянской жизни (с точки зрения беспристрастного интеллигентного горожанина) и наставлением, как бы в прозаическом ключе развернув другую строфу того же стихотворения:
Эту привычку к труду благородную
Нам бы не худо с тобой перенять…
Благослови же работу народную
И научись мужика уважать.
А «народопоклонникам» (хотя и сам был народником) показал реалистическую картину крестьянского быта, отметив его как положительные, так и отрицательные стороны.
Прежде всего, он выступил против представления о крестьянине будто бы лентяе, пьянице и недобросовестном работнике:
«..Жалуются, что наши работники ленивы, недобросовестны, дурно работают, не соблюдают условия, уходят с работы, забрав задатки. И в этом случае всё зависит от хозяина, от его отношений к рабочим… Конечно, есть и ленивые люди, есть и прилежные, но я совершенно убеждён, что ни с какими работниками нельзя сделать того, что можно сделать с нашими. Наш работник не может, как немец, равномерно работать ежедневно в течение года – он работает порывами. Это уже внутреннее его свойство, качество, сложившееся под влиянием тех условий, при которых у нас производятся полевые работы, которые, вследствие климатических условий, должны быть произведены в очень короткий срок. Понятно, что там, где зима коротка или её вовсе нет… характер работ совершенно иной, чем у нас, где часто только то и возьмёшь, что урвёшь! Под влиянием этих различных условий сложился и характер нашего рабочего, который не может работать аккуратно, как немец; но при случае, когда требуется, он может сделать неимоверную работу – разумеется, если хозяин сумеет возбудить в нём необходимую для этого энергию. Люди, которые говорят, что наш работник ленив, обыкновенно не вникают в эту особенность характера нашего работника и, видя в нём вялость, неаккуратность к работе, мысленно сравнивая его с немцем, который в наших глазах всегда добросовестен и аккуратен… Я совершенно согласен, что таких работников, какими мы представляем себе немцев, между русскими найти очень трудно, но зато и между немцами трудно найти таких, которые исполнили бы то, что у нас способны исполнить при случае, например, в покос, все. В России легче найти 1000 человек солдат, способных в зной, без воды, со всевозможными лишениями, пройти хивинские степи, чем одного жандарма, способного так безукоризненно честно, как немец, надзирать за порученным ему преступником».
Действительно, немцы не все такие трудолюбивые и аккуратные, как мы их себе часто представляем. У них есть пословица: «Morgen, morgen, nur nicht heute, sagen alle Faulleute» («Завтра, завтра, только не сегодня – говорят все лентяи»). Особенно в 1970-е годы, до наступления на Западе неолиберальной революции в духе Тэтчер и Рейгана, и современного кризиса. Тогда немцы смогли свалить грязные и тяжёлые работы на турок, арабов и прочих гастарбайтеров. Сменявшие один другого канцлеры ФРГ призывали немцев вспомнить их добрые традиции трудолюбия и аккуратности, но они услышали от трудящихся о «праве на лень». Так что жизнь и по сей день подтверждает правоту Энгельгардта. А он продолжал:
«Опять-таки я не хочу идеализировать мужика. Конечно, если хозяин плох… то будут лениться и относиться к делу спустя рукава. Но в этом отношении я не нахожу, чтобы мужики были хуже, чем мы, образованные люди…
Пойдите в любой департамент и посмотрите, как работают чиновники; спросите, много ли есть добросовестно исполняющих свое дело чиновников? Не знаю, как другие, но сколько я ни присматривался, всегда выходило, что большинство относится к делу безучастно, лишь бы время отбыть да жалованье получить. Да что чиновники! много ли в университете профессоров, которые добросовестно работают… и влагают в дело, за которое взялись, свою душу?
А мы хотим, чтобы работники, люди безграмотные, не получившие никакого образования, всю жизнь борющиеся с нуждой, получающие жалованье, которое едва обеспечивает насущный хлеб, являли собою образцы честности, трудолюбия, добросовестности!
Говорят, что батраки работают только на глазах хозяина – ушёл хозяин, и работа пошла кое-как. Не спорю, часто это так и бывает: тут всё зависит от того, какие подобраны люди, каков хозяин, какой дух господствует в артели. Однако пусть какой-нибудь директор департамента будет сквозь пальцы смотреть на то, ходят ли чиновники в должность – многие ли будут ходить? Пусть какой-нибудь редактор будет зря принимать переводы – много ли у него окажется хороших, добросовестно сделанных переводов? Пусть какой-нибудь редактор попробует без разбору задавать вперёд деньги переводчикам или писателям!
Сколько раз мне случалось в департаменте наблюдать чиновников во время службы от 2-х до 5-ти часов, когда они остаются без присмотра – что они делают? Папироски курят, в окно от скуки глазеют… – слоняются из угла в угол, болтают о пустяках, словом, время проводят, службу отбывают, Но вот показался начальник – и все по местам, у всех серьезные лица; тот пишет, тот дело перелистывает. Добросовестные люди везде есть, везде есть и ленивцы. Прежде всего нужно, чтобы было настоящее, действительное дело, и потом, чтобы был и хозяин. Можно и чиновников подобрать таких, которые будут добросовестно работать; можно и переводчиков подобрать таких, которые будут доставлять добросовестно сделанные переводы, так что редактору не будет надобности и читать их; можно подобрать и батраков, которые будут добросовестно работать без присмотра.
Не знаю, как другие, но я своими батраками доволен; работают и без присмотра отлично; подойду, никто не хватается за работу, курили – продолжают курить, болтали – продолжают болтать, отдыхали – продолжают отдыхать, а за работу возьмутся – кипит работа…»
Не всегда обвинения в адрес крестьян выдвигались либералами в силу предвзятости, часто они объяснялись некомпетентностью судящих. В таких случаях Энгельгардт терпеливо объясняет непонимающим суть дела:
«…сколько ни случалось мне слышать возгласов о лености наших рабочих, я всегда замечал, что говорящий сам не имеет понятия о работе и о той необходимости отдыха через каждые две-три минуты, какую чувствует работник. Посмотрите на производство какой-нибудь трудной работы (человек копает, косит, таскает тяжести) – и вы увидите, что наш работник, даже если он работает вольно, всегда делает работу порывисто, так сказать, через силу, и потому поминутно останавливается, чтобы перевести дух. Барин видит это и, не обращая внимания на то, как человек работает, а замечая только, что он поминутно отдыхает, думает, что он ленится. Между тем, писать, например, ведь не трудная работа, а я не могу написать листа без того, чтобы не остановиться несколько раз и не покурить. Рассуждают о лености рабочих, а сами не знают меры работы или измеряют её тем количеством работы, которое человек может выполнить при исключительных условиях. Каждый знает, что лошадь может с усилием пробежать 20 верст в час, но не может пробежать 200 верст в 10 часов; точно так же и работник может в день перетаскать на тачке 1 ½ куба земли, но не может в 10 дней перетаскать 15 кубов…. Хозяину всё кажется, что мало сделали, потому что он хочет, чтобы всегда сделали maximum работы, а меры в работе не знает. Конечно, крестьянин, работающий на себя в покос или жнитво, делает страшно много, но зато посмотрите, как он сбивается в это время – узнать человека нельзя. Зато осенью, после уборки, он отдыхает, как никогда не отдыхает батрак, от которого требуют, чтобы он всегда работал усиленно и которого считают ленивым, если он не производит maximum работы.
Нет, наш работник не ленив, если хозяин понимает работу, знает, что можно требовать, умеет, когда нужно, возбудить энергию и не требует постоянно сверхчеловеческих усилий».
Энгельгардт отвечает своим оппонентам, будто цитируя басню Крылова: «Чем кумушек считать трудиться, не лучше ль на себя, кума, оборотиться?» Разбирая их нападки на крестьян, он неизменно показывает, что «образованным людям» свойственны те же пороки, что и тёмным жителям села, подчас в ещё большей степени. И эти параллели буквально бесили либеральных критиков. Вот один из примеров его ответов либералам, обвинявшим крестьян в неуплате долгов и в воровстве:
Дело не только в том, что «мужик прост, вывертов не знает (Бога боится, не зная законов, страшится суда, тем более, что различные суды судят по-разному, можно невзначай оказаться обвиняемым и загреметь за решётку), он ещё крепок земле и всегда впереди ожидает нужды. Сегодня не отдашь долга – завтра уже не дадут, а кто же знает, что завтра не понадобятся деньги, хлеб, покос, дрова и пр., и пр. Нет, в отношении отдачи долгов мужики гораздо удобнее, чем люди нашего класса, и мне никогда не случалось столько хлопотать о получении с крестьян проданного в долг хлеба, сколько случалось прежде хлопотать о получении из иных редакций денег за статьи. Мужик, говорят, вор; старосты, приставщики, батраки – все, говорят, воры. Опять-таки скажу я: до сих пор ни одного случая воровства у себя не замечал. У старосты на руках и деньги, и хлеб, и вещи, но воровства нет. Авдотья продает творог, молоко, учесть её нельзя, но я уверен, что она всю выручку приносит сполна. На Сидора я также во всём полагаюсь. Некогда старосте идти в амбар – он посылает работника или работницу отпустить хлеб покупателю, взять муку для телят и т. п., а в амбаре и хлеб, и гвозди, и железо, и сало, и ветчина – всё цело, и никто ничего не ворует. Конечно, присмотр, учёт необходим, конечно, всё зависит от подбора людей, от того духа, который сложился в доме, но уже вот почему нельзя сказать, чтобы воровство было развито между крестьянами: когда летом мой сын приезжает на «вакации» (каникулы) в деревню, то он вечно играет и возится с мальчишками из соседней деревни; десятки ребят собираются к нему по праздникам, играют с ним на дворе, бегают по саду, по всем комнатам, и никогда никто из них ничего не тронул, никогда ещё ничего у меня не пропало, даже в саду такие соблазнительные вещи, как клубника, горох, огурцы и пр., целы (разумеется, я всегда отдаю сыну в пользование несколько гряд огурцов, гороху, клубники, смородины и пр., а он делится с ребятами). Вот уже третий год, что я живу в деревне, и за всё время только раз пропал топор, да и то нет основания предполагать, чтобы он был украден, а, может быть, и так затерялся… Я даже не допускаю мысли, чтобы кто-нибудь мог украсть что-нибудь, хотя домашние мои знают, что я судиться не стану и самое большое, что скажу: «Если ты не можешь не воровать, то зачем же ты ко мне нанимался – шёл бы в другое место». Я уверен, что вора засмеют товарищи. Впрочем, я опять-таки не хочу идеализировать крестьянина; я знаю, что бывают и старосты, которые воруют, и работники, которые воруют, что существует поговорка: «не клади плохо, не вводи вора в соблазн»; но знаю также, что существует множество людей, которые убеждены, что каждый крестьянин вор, каждый староста вор, каждый работник вор. Вот почему к тем немногим, которые не считают всех за воров, приходят такие люди, которые не любят воровать, а предпочитают жить спокойно, по совести; те же, которые любят воровать, идут к таким хозяевам, которые всех считают ворами и никому не доверяют. Да ведь и приятнее, должно быть, украсть у того, который всех считает ворами.
Как бы то ни было, но я думаю, что в отношении воровства мужики отнюдь не хуже людей из образованного класса. Существует поговорка: «казённого козла за хвост подержать – можно шубу сшить», и уж, конечно, не мужики создали эту поговорку.
Говорят: не присмотри только, работники при посеве сейчас украдут семена. Какая недобросовестность! Семена украсть! У меня, однако ж, ещё ни разу этого не случалось, хотя присмотр не особенный; за круговыми рабочими староста ещё смотрит, но свои батраки сеют без присмотра.
Конечно, украсть семена во время посева – это из рук вон плохо; но разве не случается, что больным в госпиталях недодают лекарства и пищу?»
Прежде всего, нужно, чтобы было настоящее, действительное дело, и потом, чтобы был и хозяин…
Чтобы быть хозяином, нужно любить землю, любить хозяйство, любить эту чёрную, тяжёлую работу. То не пахарь, что хорошо пашет, а вот тот пахарь, который любуется на свою пашню».
Когда агроном Дмитриев, заведующий хозяйством казенной фермы, написал, что у нас невозможно употреблять улучшенные орудия вследствие «недобросовестности», «невежества» русского крестьянина, Энгельгардт деликатно «отделал» его, рассказав об опыте освоения работниками пахоты плугами. А неудачу Дмитриева он объяснил просто: на казённой ферме лошади были «худы до крайности» и вообще обнаружилась масса упущений. В имении Энгельгардта пахота была выполнена на высшем уровне качества.
«И кто же пахал? Невежественные, недобросовестные русские крестьяне – «русски свинь», как сказал бы какой-нибудь немец, управитель старого закала или вызванный из-за границы насаждать у нас агрономию профессор заведения, где прежде приготовлялись «агрономы».
Насчет «русски свинь» Энгельгардт не выдумал, такие суждения были тогда широко в ходу. Он вспоминает, как ехал в вагоне и слышал, как француженка, глядя в окно, тоскливо повторяла: «Ах, что за страна! Никакой культуры!» (разумеется, всё это по-французски). В конце концов Энгельгардт не выдержал и возразил:
«Ну да, «никакой культуры!», а вот твой Наполеон по этим самым местам бежал без оглядки, а вы с «культурой» города сдавали прусскому улану! А ну-ка пусть попробуют три улана взять наше Батищево (напоминаю, так называлось имение Энгельгардта. – М.А.). Шиш возьмут. Деревню трём уланам, если бы даже в числе их был сам «папа» Мольтке (начальник генерального штаба сначала Пруссии, а затем Германской империи, сыгравший важную роль в победе Германии над Францией в войне 1870–1871 годов. – М.А.), не сдадим. Разденем, сапоги снимем – зачем добро терять – и в колодезь – вот те и «никакой культуры». А не хватит силы, угоним скот в лес под Неелово – сунься-ка туда к нам! увезём хлеб, вытащим, что есть в постройках железного – гвозди, скобы, завесы, – и зажжём. Все сожжём, и амбары, и скотный двор, и дом. Вот тебе и «никакой культуры», а ты город сдала трём уланам».
Как видите, тут чуть ли не концепция партизанской войны на случаи прихода сильного неприятеля!
Особенно возмущало Энгельгардта широко распространённое среди помещиков и городской интеллигенции представление о крестьянах как о неисправимых пьяницах:
«Начитавшись в газетах о необыкновенном развитии у нас пьянства, я был удивлен тою трезвостью, которую увидал в наших деревнях. Конечно, пьют при случае – Святая, никольщина, покровщина, свадьбы, крестины, похороны, но не больше, чем пьём при случае и мы. Мне случилось бывать и на крестьянских сходках, и на съездах избирателей-землевладельцев – право, не могу сказать, где больше пьют. Числом полуштофов крестьяне, пожалуй, больше выпьют, но необходимо принять в расчет, что мужику выпить полштоф нипочем – галдеть только начнёт и больше ничего. Проспится и опять за соху».
Но интересно то, что Энгельгардт различает разные виды пьянства и алкоголизма у крестьян, постоянно занятых физическим трудом, причём по большей части на свежем воздухе, и у горожан – рабочих, интеллигентов, а также помещиков: «…между мужиками-поселянами отпетые пьяницы весьма редки. Я вот уже год живу в деревне и настоящих пьяниц, с отекшими лицами, помраченным умом, трясущимися руками, между мужиками не видал. При случае мужики, бабы, девки, даже дети пьют, шпарко (сильно) пьют, даже пьяные напиваются (я говорю «даже», потому что мужику много нужно, чтобы напиться пьяным, – два стакана водки бабе нипочем), но это не пьяница. Ведь и мы тоже пьем – посмотрите на (рестораны) Елисеева, Эрбера, Дюссо и т. п. – но ведь это еще не отпетое пьянство… Всё, что пишется в газетах о непомерном пьянстве, пишется корреспондентами, преимущественно чиновниками, из городов… Повторяю, мужик, даже и отпетый пьяница – что весьма редко – пьющий иногда по нескольку дней без просыпу, не имеет того ужасного вида пьяниц, ведущих праздную и сидячую комнатную жизнь, пьяниц, с отекшим лицом, дрожащими руками, блуждающими глазами, помрачённым рассудком. Такие пьяницы, которых встречаем между фабричными, дворовыми, отставными солдатами, писарями, чиновниками, помещиками, снившимися и опустившимися до последней степени, между крестьянами – людьми, находящимися в работе и движении на воздухе, – весьма редки, и я еще ни одного здесь такого не видал, хотя, не отрицаю, при случае крестьяне пьют шпарко. Я часто угощаю крестьян водкой, даю водки помногу, но никогда ничего худого не видел. Выпьют, повеселеют, песни запоют, иной, может, и завалится, подерутся иногда, положительно говорю, ничем не хуже, как если и мы закутим у Эрбера. Например, в зажин ржи я даю вечером жнеям по два стакана водки – хозяйственный расчет: жней должно являться по 4 раза десятину (плата от десятины), но придет по 2, но 3 (не штрафовать же их); если же есть угощение, то придёт по 6 и отхватывают половину поля в один день – и ничего. Выпьют по два стакана подряд (чтобы скорее в голову ударило), закусят, запоют песни и веселые разойдутся по деревням, пошумят, конечно, полюбезнее будут с своими парнями (а у Эрбера разве не так), а на завтра опять, как роса обсохнет, на работу, как ни в чем не бывало».
Пьянство крестьян часто бывало вынужденным и насаждалось властями (торговля водкой давала до четверти всех доходов бюджета, плюс продажа табака и пр.) и кабатчиками. Вот как напился допьяна уже знакомый нам крестьянин Дёма:
«Но вот, наконец, смолотили первую рожь и повезли «новь» на мельницы, – едва ли один из ста вернулся с мельницы не выпивши. Оно и понятно: человек голодал целый год, а теперь хлеба – по крайней мере до Покрова – вволю. Нам, которые никогда не голодали, нам, которые делаем перед обедом прогулку для возбуждения аппетита, кончено, не совсем понятно положение голодавшего мужика, который, наконец, дождался «нови». Представьте, однако, себе, что Дёма, который неделю тому назад бегал, хлопотал, кланялся, на коленях ползал перед содержателем мельницы, выпрашивая пудик мучицы, теперь счастливый, гордый… сидит на телеге, в которой лежат два мешка нового чистого хлеба! Содержатель мельницы, который неделю тому назад, несмотря на мольбы, не одолжил Дёме пуда муки, встречает теперь его ласково, почтительно величает Павлычем. Дёма, кивнув головой мельнику, медленно слезает с телеги, сваливает мешки и в ожидании очереди – нови-то навезли на мельницу гибель, – когда придётся ему засыпать, идет на мельничную избу, откуда слышатся песни и крики подгулявших замельщиков. – А! здравствуй, Демьян Павлыч! здравствуй, Дёма! что, новь привез? – Ну, сами посудите, как тут не выпить! Поймите же радость человека, который всю зиму кормился кусочками, весну пробился кое-как, почасту питаясь одной болтушкой из ржаной муки и грибами, когда у этого человека вдруг есть целый куль чистого хлеба, – целый куль! В избе Дёму толпа подгулявших замельщиков зовет за свой стол. Дёма требует стакан водки, калач, огурцов; ему с почтением подают и водку, и закуску, не требуя денег вперед, как это обыкновенно водится, потому что его рожь стоит на мельнице. На тощий желудок водка действует быстро; после одного стакана Дёма охмелел, требует ещё водки. Через полчаса Дёма уже пьян… Когда проспится, расплачивается рожью».
И сегодня некоторые российские авторы разоблачают миф о многовековом и поголовном пьянстве на Руси (особенно много пишет об этом Владимир Мединский), но, на мой взгляд, делают это менее предметно и талантливо, чем делал в своё время Энгельгардт.
Конечно, надо признать, что пьянство в России существовало, но в равной мере как среди крестьянства, так и среди городского населения, в том числе среди бар и интеллигентов. Может быть, крестьяне пили «редко, да метко» – по праздникам и как следует, а у бар – постоянно (перед обедом, для аппетита…). Так пьют во всех «цивилизованных» странах. А с точки зрения ревнителей трезвости «от младых ногтей», и сам Энгельгардт, и крестьяне, которых он угощал водкой – пьяницы или, по-научному, «страдающие алкогольной зависимостью», с этим тоже спорить не стану. Но до полного перехода народа на трезвый образ жизни, с абсолютным отказом от алкоголя, ещё очень далеко. (Ведь «трезвенники» считают даже причащение в церкви хлебом и красным вином, разбавленным водой, – «телом и кровью Господа», в количестве чайной ложечки, нарушением трезвого образа жизни, и лекарства, настоянные на спирте, предлагают употреблять, сначала выпарив его спиртовую составляющую.) Поэтому различать, хотя бы с точки зрения работодателя, иногда выпивающих и пьяниц, которые жить без алкоголя не могут, всё же необходимо, хотя и те, и другие – «страдающие алкогольной зависимостью» (но в разной степени).
Когда я слушал жаркие споры в Государственной думе РФ или на общественных слушаниях по поводу того, на каком расстоянии от школы допустимо размещение торговых точек, где продаётся алкоголь, и т. п., мне казалось, что эти их рассуждения – плод их собственного интеллектуального творчества. Но читаю у Энгельгардта:
«Я совершенно убеждён, что разные меры против пьянства – чтобы на мельнице не было кабака, чтобы кабак отстоял от волостного правления на известное число сажен (экая штука мужику пройти несколько сажен – я вот за 15 вёрст на станцию езжу, чтобы выпить пива, которого нет в деревне) и пр. и пр. – суть меры ненужные, стеснительные и бесполезные».
Оказывается, споры умных депутатов и общественников – это всего лишь пережёвывание идей полуторавековой давности (я говорю не о пользе или бесполезности таких мер, а лишь о времени появления подобных предложений и степени самостоятельности суждений их авторов).
Но вернусь к полемике Энгельгардта с теми, кто обвинял крестьян во всяких грехах и пороках. Он, возражая критикам-обличителям, которые обвиняли мужиков в том, что они не выполняют взятых на себя обязательств, не возвращают долги, отмечал честность крестьян:
«Работу – если обязавшийся не умрёт, не заболеет, – мужик так или иначе всегда выполнит, к чему его можно заставить, даже не прибегая к суду, между тем как взыскать по расписке деньги и по суду очень трудно или даже, большею частью, невозможно. В самом деле, положим, что есть расписка, положим, что мужик не отказывается от долга, положим, что мировой судья присудил взыскать и выдал исполнительный лист – что же дальше? Взыскать по исполнительному листу трудно, потому что продать имущество крестьянина нельзя, когда есть недоимки, а если их и нет, то нельзя продать без разрешения его начальства, которое должно указать, что именно можно продать, не разоряя крестьянина и не лишая его возможности вести своё хозяйство. Работу же, на которую крестьянин обязался, начальство заставит его выполнить, хотя бы у него самого свой хлеб оставался несжатым…
Крестьянин почти никогда не отказывается от долга, если он действительно считает себя должным; если он не платит долга, то только потому, что ему нечем уплатить, и всегда просит рассрочки, берется выплатить долг работой и т. п. Поэтому никто долговых дел до суда и не доводит».
Конечно, если с должника не спрашивать, он может и не заплатить долг. Но, – спрашивает Энгельгардт своего интеллигентного коллегу, – если вы раздадите имеющиеся у вас деньги своим знакомым и не будете интересоваться, когда же они вернут долги, многие ли из них явятся к вам, чтобы расплатиться по долгам?
Честным может быть даже кабатчик, хотя это большая редкость. Энгельгардт заезжает в кабачок, в который «хозяин-вахмистр с хозяйкой Сашей своею приветливостью, честностью, отсутствием свойственной кабатчикам жадности к наживе привлекали всех».
Безусловно честны граборы-артельщики, которыми Энгельгардт не перестаёт любоваться, видя в них какие-то особые, благородные, разумные черты. Напомню: «В артели граборы всегда отлично ведут себя, ни пьянства, ни шуму, ни буйства, ни воровства, ни мошенничества. Артель не только зрит за своими членами, но, оберегая от всяких подозрений свою добрую славу, наблюдает за всем, что делается в усадьбе, дабы не случилось какого воровства, подозрение в котором могло бы пасть на граборов». К тому же у граборов развито эстетическое чувство, и если они видят, что имеют дело с нанимателем – настоящим хозяином, то всегда проявят инициативу и подскажут, как сделать, чтобы очищенный луг и вырытая канавка выглядели красиво, где следует среди луга – именно для красоты – оставить раскидистое дерево и пр.
Кстати, о красоте. Энгельгардт, бывая на всех крестьянских праздниках, мог убедиться, что при всей убогости и нищете крестьян, в их быту было много проявлений стремления к красоте. Он приводит слова песни, которую поют бабы, когда совместно на толоке рубят капусту. Удивительны слова, удивителен ритм, жаль, что тогда было невозможно записать мелодию песни. Мы, современные русские, по сути, не знаем русской песни. То, что обычно преподносится как русские народные песни, это, по большей части, песни, написанные композиторами на стихи русских поэтов XIX века («Что стоишь, качаясь, тонкая рябина», «Степь да степь кругом…» и пр.) Академические хоровые коллективы и прославленные солисты поют русские песни в такой обработке, что там подчас от исходного материала ничего не остаётся, а фольклорные коллективы записывают старинные песни в исполнении старух, вряд ли способных донести до слушателей их красоту. Даже песня «Не одна во поле дороженька…», которую, видимо, знали в тот век все читатели «Певцов» из «Записок охотника» Тургенева, ныне мало кому известна, потому что если и исполняется знаменитыми артистами, то в сокращённом виде. Лемешев пел из неё, сколько мне помнится, четыре строфы, Козловский – шесть, и лишь Штоколов добирался до заключительного куплета: «Коли найдёшь лучше меня – меня позабудешь. Коли найдёшь хуже меня – меня воспомянешь». В старом (советском фильме «Глинка» (а композитор родом из тех мест, где потом хозяйствовал Энгельгардт) молодая крестьянка, качая зыбку с ребёнком, тихо напевала, напутствуя своего суженого (за давностью лет могу что-нибудь в словах напутать): «Так иди ж, иди ж, ясный сокол мой, Ясный сокол мой, мил сердечный друг. Буду ждать тебя тёмной ноченькой, Тёмной ноченькой, ясной зоренькой». Тут веришь, что это подлинная народная песня, из тех, на которых воспитывался музыкальный вкус Глинки. И мелодия её настолько русская, что, кажется, может служить эталоном русскости в музыке.
Помнится, довелось мне быть на концерте хора Полянского, и там молоденькая солистка с ангельским голосом спела песню «Ты повянь, повянь, бурь-погодушка». Зал аплодировал так, что, кажется, стены могли обрушиться. Артисты много раз выходили, кланялись, но на «бис» песню так и не спели. (Кажется, это вообще принцип Полянского.) Песня меня так очаровала, что я, несмотря на вечную занятость, прослушал все диски с записями хора, какие удалось найти, но там этой песни не оказалось. Так и не услышал я ещё раз этот шедевр.
Следующее обвинение крестьян со стороны помещиков и либеральных журналистов Энгельгардт отбивает с лёгкость, простым сопоставлением доводов обличителей с действительностью:
«Много слышно жалоб на то, что у крестьян слишком много праздников и притом в самое рабочее время… Крестьяне, например, не работают – опять-таки не все – на Бориса (24-го июля), потому что Борис сердит, как они говорят, и непременно накажет, если ему не праздновать, или баба, жавши рожь на Бориса, руку порежет… На Касьяна же крестьяне работают, хотя он тоже сердит, работают потому, что Касьян немилостив, – не стоит ему, значит, праздновать, отчего ему, Касьяну, и бывает праздник только в четыре года раз.
…у крестьян праздников меньше, чему чиновников. Крестьяне празднуют, как и чиновники, все годовые праздники с тою только разницею, что на Светлое Воскресенье празднуют всего три дня, а во многие другие праздники не работают только до обеда, то есть до 12 часов. Например, у меня всегда берут лён на Успенье, и часто случалось, что в этот день приходило до 60-ти баб. Кроме того, по воскресеньям, в покос, даже в жнитво, крестьяне обыкновенно работают после обеда: гребут, возят и убирают сено, возят снопы, даже жнут. Только не пашут, не косят, не молотят по воскресеньям – нужно же и отдохнуть, проработав шесть дней в неделю. Правда, у крестьян есть некоторые особенные праздники: например, они празднуют летней Казанской, Илье, в некоторых местностях Фролу и некоторым другим святым, но зато крестьяне не празднуют официальных дней. Сколько я понимаю, праздновать такие дни несовместимо с понятиями крестьян, потому что некому праздновать: крестьяне празднуют какому-нибудь святому. Праздновать день своего рождения также вовсе не в обычае у крестьян, именины еще крестьяне, особенно побывшие в городах и при господах, празднуют, но и тогда только, когда носят имя известного святого, например, Ивана, Ильи, Кузьмы, Михаила, но если имя малоизвестное, то крестьянин большею частью и не знает, когда он – именинник.
Если всё сосчитать, то окажется, что у крестьян, у батраков в господских домах праздников вовсе не так много, а у так называемых должностных лиц – старост, гуменщиков, скотников, конюхов, подойщиц и пр. и вовсе нет, потому что всем этим лицам и в церковь даже сходить некогда».
Но, кажется, венцом либерального охаивания всего русского был доклад агронома во время губернской сельскохозяйственной выставки:
«…господин агроном заявляет, что он получил хозяйственное образование в высшем агрономическом заведении, был послан для усовершенствования за границу и, наконец, заведовал хозяйством казенной формы, где убедился, что у нас неприменимы те улучшенные способы полевозделывания, которые употребляются за границею, что мы не можем употреблять улучшенные орудия, разумеется, вследствие «недобросовестности русского крестьянина», вследствие «невежества и бессовестности» батраков, вследствие «безответственности и известных нам качеств русского крестьянина относительно его пренебрежения и невнимания к чужой собственности». Дело, видите ли, в том, что когда агроном заведовал казенной фермой, то с ним случилось то, что случилось со многими хозяевами, которые без толку заводили плуги и разные улучшенные машины. Оказалось, что орудия и машины не производили того количества работы, которое полагается, что их портили и ломали, что лошади были худы и искалечены, что в рабочем сарае не было порядка, и орудия сваливались без разбору в кучу, «так что часто рабочий, выезжая в поле, опаздывал двумя часами, собственно, за невозможностью вытащить нужное орудие, что у него в хозяйстве пошла ломка орудий с ежедневной потерей различных частей снарядов и инструментов» и т. д. и т. д. Агроном, конечно, свалил всё на недобросовестность, невежество и прочие дурные качества русского крестьянина, пришёл к убеждению, что с таким народом ничего не поделаешь, и забраковал все улучшенные орудия. Затем, на основании различных соображений, агроном пришёл к заключению, что у нас неприменима плодосменная система, что мы не можем сеять клевер, не можем употреблять искусственные туки, улучшать скот и пр. Так что мы должны оставаться при старой трехпольной системе хозяйства, отдавать земли на обработку крестьянам издельно, с их орудиями и лошадьми, вести такое же скотоводство, как прежде, словом, делать то, что делается нынче в падающих год от году хозяйствах».
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































