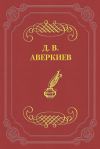Текст книги "Бунт"

Автор книги: Михаил Арцыбашев
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 6 страниц)
XI
Въ тотъ же день къ вечеру Дмитрій Николаевичъ пѣшкомъ пошелъ на Васильевскій Островъ къ одному изъ своихъ товарищей, котораго очень любилъ, съ тѣмъ, чтобы разсказать ему все и попросить совѣта, какъ лучше устроить дѣло съ Сашей. Онъ самъ не зналъ, когда именно пришло ему въ голову такое рѣшеніе, но оно уже было непоколебимо, хотя и мучило его.
Дорогой онъ все вспоминалъ, въ какомъ невѣроятно жизнерадостномъ и даже блаженномъ настроеніи вышелъ онъ днемъ изъ больницы. Все казалось ему хорошо, мило, прекрасно. И санки извозчика, и галки на снѣгу, и городовые съ усатыми лицами, и собственное тѣло, въ которомъ было бодрое и куда-то влекущее чувство. Ему было трудно уйти отъ Саши, и была одна минута, когда онъ чуть не назначилъ ей свиданіе, но, уже выйдя, онъ вспомнилъ и застыдился этого желанія, хотя оно было пріятно ему. И всю дорогу онъ вспоминалъ, какъ медленно и жгуче они цѣловались, и у него кружилась голова и напрягалось желаніемъ тѣло.
Теперь онъ шелъ сумрачный и разстроенный.
«Отецъ говоритъ, что теперь это было бы слишкомъ гадко… И я самъ такъ думаю, – съ удовольствіемъ отмѣтилъ онъ, что думаетъ совершенно такъ, какъ умный и писатель отецъ. – А если теперь нельзя, то какое же право я имѣлъ цѣловать ее?.. Какое-то имѣлъ!.. Было пріятно и ничуть не стыдно… А теперь стыдно! Неужели я въ нее былъ влюбленъ тогда?.. Это глупости… Вѣдь, что тамъ ни говори, она – публичная дѣвка! И… не могу же я ее любить!»
Но ему было очень пріятно вспоминать каждое слово и каждое движеніе Саши. Ея бѣленькое платье, такое чистое, пахнущее свѣжей матеріей, и такъ къ ней шедшее, мелькало у него въ глазахъ.
«Просто похоть!» грубо подумалъ онъ, чтобы успокоить себя, и хотя всегда считалъ похоть дурнымъ чувствомъ, но это объясненіе его успокоило, такъ страшна для него была мысль, что онъ могъ бы влюбиться въ бывшую публичную женщину, какова бы она ни была теперь.
«И надо кончить все это сразу… Папа правъ совершенно! И какой я дуракъ, у другого бы это вышло просто, легко и красиво, a y меня вышло такъ грубо, стыдно… и самъ я запутался некрасиво!.. Какой я несчастный! Почему мнѣ ничего не удается?.. Вѣдь я хотѣлъ самаго хорошаго, а выходитъ грязь!.. А почему грязь?.. Это не потому, что я ее вытащилъ, и не потому, что я ее цѣловалъ въ больницѣ… А почему же? – съ отчаяніемъ подумалъ Дмитрій Николаевичъ. – А потому, вѣдь, что на одну минуту я допустилъ возможность какой-то близости между собой и ею, допустилъ какъ будто… что я могу любить женщину, которая всѣмъ отдавалась… Я съ нею какъ бы сталъ рядомъ, и вмѣсто спасителя сталъ близкимъ ей человѣкомъ!.. Вотъ и грязь!.. А вѣдь она въ меня влюблена! – вдругъ спохватился онъ съ ужасомъ. – О, какъ это тяжело все! Надо кончить, надо кончить!.. Конечно, дамъ ей денегъ на машинку, на прожитіе первыхъ мѣсяцевъ… И больше никто отъ меня не можетъ ничего требовать!» – съ ожесточеніемъ противъ чего-то, что смутно, но упорно-тоскливо стояло у него въ груди, чуть не вслухъ проговорилъ Дмитрій Николаевичъ, подходя уже къ дому, гдѣ жилъ студентъ Василій Ѳедоровичъ Семеновъ.
Семеновъ былъ боленъ чахоткой, а потому всегда сидѣлъ дома, и теперь встрѣтилъ пріятеля желтый и сумрачный отъ усилившагося къ вечеру и отъ сырой погоды кашля.
– А, это ты, – сказалъ онъ, отворяя дверь. Въ его комнатѣ, несмотря на открытый отдушникъ, было сильно накурено табакомъ, отъ котораго Семеновъ не отставалъ, хоть и былъ боленъ грудью.
– Опять куришь! – съ дружескимъ и соболѣзнующимъ чувствомъ сказалъ Рославлевъ, снимая шинель и шапку.
– Все равно… – неопредѣленно махнулъ рукой Семеновъ, и въ его голосѣ не было иного чувства, кромѣ тупого равнодушія.
– Ну… – проговорилъ Рославлевъ, сѣлъ и, закуривая папиросу, сейчасъ же заговорилъ о томъ, что его занимало.
– Я къ тебѣ по дѣлу… а?
– Ну? – равнодушно протянулъ Семеновъ, морщась отъ мучительнаго приступа кашля, который онъ старался, напрягая грудь, удержать. Ему все казалось, что его болѣзнь, и кашель, и то, что онъ выплевываетъ мокроту, и его постоянно окровавленный, заплеванный платокъ возбуждаютъ въ людяхъ не состраданіе, какъ они стараются показать, а брезгливое чувство. Когда онъ кашлялъ или шелъ въ переднюю выплюнуть мокроту, онъ чувствовалъ, что на него стараются не смотрѣть, отворачиваются, и самъ себѣ онъ казался тогда грязнымъ, противнымъ, мокрымъ пятномъ, около котораго даже стоять противно. И всегда въ такихъ случаяхъ онъ сознавалъ, что не виноватъ въ болѣзни и въ ея симптомахъ, что имѣетъ право болѣть, плевать, кашлять, что никто не смѣетъ презирать его за это, и все-таки страдалъ и чувствовалъ страшную ненависть ко всѣмъ.
Отъ Рославлева за три шага слышенъ былъ свѣжій, пріятный запахъ холоднаго воздуха, принесеннаго со двора, и молодого, сильнаго человѣка. Этотъ бодрый и сильный запахъ входилъ въ легкія Семенова и былъ пріятенъ имъ и мучительно тяжелъ и ненавистенъ его, измученному болѣзнью и страхомъ, смерти сознанію.
– Ну? – повторилъ онъ и, не удержавшись, закашлялся, брызнувъ тонкими, запекшимися губами.
– О, чортъ! – съ безконечной ненавистью и къ себѣ, и къ кашлю, и къ Рославлеву прохрипѣлъ онъ.
Рославлевъ, именно съ тѣмъ чувствомъ, которое подозрѣвалъ Семеновъ, съ брезгливой жалостью сильнаго и красиваго къ больному и безобразному, смотрѣлъ въ сторону, но думалъ не о немъ, a o томъ, какъ начать.
Когда Семеновъ пересталъ кашлять, отошелъ отъ плевательницы и сѣлъ на кровать, потирая грудь рукою, Рославлевъ заговорилъ:
– Помнишь, я тебѣ разсказывалъ о той проституткѣ, что…
– Помню, – отвѣтилъ Семеновъ, вовсе не помня, сказалъ потому, что ему все хотѣлось перебить здоровый и красивый голосъ. – По проституткамъ ходишь… – зачѣмъ-то прибавилъ онъ.
Рославлевъ вскинулъ на него удивленными глазами и, не смущаясь, весело возразилъ:
– Нельзя… – всѣ люди… – и, уже сказавъ это, вспомнилъ о болѣзни Семенова и неловко замолчалъ.
Молчалъ и Семеновъ, машинально крутя пальцами тощую и маленькую бородку.
– Ну, такъ что, – спросилъ онъ опять.
– Да, – оживляясь, заговорилъ Рославлевъ, – я ее оттуда взялъ и пристроилъ въ пріютъ этотъ… ну, a она… можешь себѣ представить, въ меня влюбилась!
И при этихъ словахъ Рославлевъ вспомнилъ Сашу, такую чистенькую и свѣжую, какою онъ обнималъ и цѣловалъ ее въ больницѣ, и ему стало странно, что онъ о ней говоритъ «проститутка» такимъ смѣющимся и легкимъ голосомъ.
– Что же тутъ удивительнаго, – улавливая его презрительный тонъ и почему-то обижаясь за проститутку, точно за самого себя, возразилъ Семеновъ. – Ты ее «спасъ»… спаситель… хм!..
Рославлеву, хотя онъ былъ увѣренъ, что это прекрасно и что онъ точно – спаситель, стало смѣшно и неловко.
– Нѣтъ, въ самомъ дѣлѣ, – смѣясь, говорилъ онъ, – влюбилась… – И прежде, чѣмъ успѣлъ сообразить, прибавилъ: – и, знаешь, она просто прелесть какая хорошенькая!..
– И ты въ нее влюбился? – усмѣхнулся Семеновъ, и усмѣшка у него вышла добродушная. Рославлевъ сначала улыбнулся, но сейчасъ же и отвѣтилъ:
– Глупости. Какая тутъ можетъ быть любовь! Просто мнѣ жалко стало, когда она руку поцѣловала, ну и… вообще, она хорошенькая, и я же ее зналъ и раньше.
– Значитъ, ты и послѣ «спасенія» съ нею «того»? – спросилъ Семеновъ съ злой насмѣшкой.
– Нѣ-ѣтъ, что ты! – искренно считая это гадкимъ, сказалъ Рославлевъ и покраснѣлъ.
– Чего жъ ты?
Рославлевъ замялся, съ испугомъ припоминая то, что было между нимъ и Сашей въ больницѣ.
– Да что… Я знаю, что это нехорошо! – довѣрчиво прибавилъ онъ, разсказывая Семенову уже все, что съ нимъ случилось.
Семеновъ молчалъ и слушалъ, все такъ же покручивая тонкіе волоски безцвѣтной бородки и такъ же удерживая кашель. И въ этой комнатѣ съ затхлымъ лекарственнымъ запахомъ, около маленькой и плохой лампы, въ присутствіи молчаливаго больного человѣка, съ озлобленнымъ на все лицомъ, было такъ неумѣстно и странно то, что онъ разсказывалъ, что Рославлевъ замолчалъ и смотрѣлъ на Семенова.
– Василій Ѳедоровичъ! – позвала тонкимъ голосомъ мѣщанка, хозяйка Семенова, изъ-за перегородки.
– Чего? – отозвался Семеновъ, не поворачивая головы.
– Чай будете пить?
– Давайте.
Послышалось звяканье посуды, скрипнула дверь, и тощая беременная женщина въ платочкѣ принесла синій чайникъ и другой, – бѣлый, маленькій, два стакана изъ толстаго стекла и ситный хлѣбъ. Пока она устанавливала все это на столъ, студенты молчали.
– Сами заварите?
– Самъ, – отвѣтилъ Семеновъ.
Она ушла, натягивая концы платка на тяжелый, круглый животъ.
Семеновъ досталъ чай и насыпалъ его въ чайникъ. Рославлевъ внимательно смотрѣлъ на это и въ душѣ у него было недоумѣлое и обидчивое чувство.
– «Чего жъ онъ молчитъ?.. Знаетъ, вѣдь, какъ мнѣ трудно было все высказать, и молчитъ!.. А, впрочемъ, чего я отъ него хочу?.. Онъ и не пойдетъ… Лучше просто написать… конечно, лучше написать!»
– Ну, что же ты скажешь? – неловко и противъ воли спросилъ онъ.
– Что? – равнодушно спросилъ Семеновъ.
– Да вотъ… насчетъ всей этой «исторіи»? – притворяясь улыбающимся и уже съ досадой, весь наливаясь кровью и боясь, чтобы Семеновъ этого не замѣтилъ, пробормоталъ Рославлевъ.
– А что я тебѣ скажу? – сердито отозвался Семеновъ. – Глупости все это.
– Какъ?
– Да такъ… Я тебя и не понимаю вовсе: какого ты чорта взялся за это дѣло и чего теперь мучаешься.
– Странное дѣло, – обидчиво возразилъ Рославлевъ. – Чего взялся?.. А ты бы не взялся?
– Нѣтъ, – упрямо сказалъ Семеновъ.
– Тѣмъ хуже для… – усмѣхаясь, сказалъ Рославлевъ.
– Нѣтъ, не хуже! – визгливо крикнулъ Семеновъ и вдругъ опять мучительно и тяжело раскашлялся. Онъ хрипѣлъ, задыхался, плевался и отхаркивался, и все его тщедушное тѣло дрожало и извивалось.
Рославлевъ, не глядя на него, ждалъ, когда это кончится, и ему было досадно отъ нетерпѣнія и невольно хотѣлось крикнуть: «Да перестань ты!..»
Семеновъ, тяжело дыша, замолчалъ, вытеръ наполнившіеся слезами глаза и холодный мокрый лобъ и всталъ.
– Какое ты-то право имѣлъ ее «спасать»? – заговорилъ онъ, задыхаясь. – Подумаешь, спаситель!.. Спасители…
– Когда человѣкъ тонетъ…
– А другой по уши увязъ, – съ насмѣшкой перебилъ Семеновъ. – Скажи мнѣ, пожалуйста, ты-то живешь добродѣтельно?
– Странное дѣло… сравнительно, – почему то смущаясь, пробормоталъ Рославлевъ.
– Сравнительно!.. – визгливо передразнилъ Семеновъ. – Всякій человѣкъ сволочь, и ты сволочь и она сволочь. Ты самъ, какъ и всѣ, такъ же далекъ отъ идеала нравственной чистоты, какъ и она, а небось, если бы тебя спасать вздумали, ты бы даже въ негодованіе пришелъ…
– Ну, это что! – протянулъ Рославлевъ, – можно все сравнять, а… все-таки она – публичная женщина, а я…
– А ты – человѣкъ, который этой публичной женщиной пользуешься!.. А впрочемъ и не въ томъ дѣло… Скажи ты мнѣ на милость, за что мы это такъ презираемъ эту самую «публичную женщину»? Что онѣ… зло кому-либо дѣлаютъ?.. Вѣдь у насъ воровъ, убійцъ и насильниковъ всякихъ меньше презираютъ… Себя-то презирать трудно, такъ давай другого презирать за свои же… А впрочемъ и это не то, – перебилъ себя Семеновъ, махнулъ рукой и сталъ наливать чай.
– А, что? – глядя на него съ удивленіемъ, спросилъ Рославлевъ.
«Нѣтъ, его нельзя просить объ этомъ!» – сказалъ онъ себѣ съ досадливымъ чувствомъ.
– Да что… ни къ чему все это! – грустно проговорилъ Семеновъ и замолчалъ. Рославлевъ помолчалъ тоже.
– Вотъ ты говоришь, кому онѣ зло дѣлаютъ, – нерѣшительно заговорилъ онъ, подыскивая слова, чтобы высказать свою просьбу, и не находя ихъ: – а сифилисъ развѣ не зло?
Семеновъ вдругъ сдержанно и грустно улыбнулся.
– Болѣзнь, братъ, всякая – зло, самое скверное зло… это я тебѣ скажу! И сифилисъ – зло… но только, если бы я могъ, – вдругъ опять озлобляясь, заторопился онъ, расширяя зрачки, – такъ я бы эту дрянь, которая слюнки распускаетъ за всякой бабой, заражается, а потомъ еще и хнычетъ, и лѣчить бы не сталъ!..
«Нѣтъ, его нельзя просить», – опять подумалъ Рославлевъ и всталъ.
– Ну, ты, братъ, сегодня какой-то… Пойду я лучше на бильярдѣ поиграю…
– И я тебѣ еще вотъ что скажу, – машинально подавая ему руку и не замѣчая, что онъ уходитъ, продолжалъ Семеновъ: – если люди хотятъ и считаютъ нужнымъ исправлять другихъ, такъ это прежде всего – ихъ собственное желаніе… ну, ихъ собственная потребность тамъ, что-ли… А въ такомъ случаѣ не ихъ должны униженно благодарить за это, а они должны прилагать всѣ старанія, чтобы еще удостоились другіе исправляться-то по ихнему!.. Вотъ!
Рославлевъ, уже надѣвшій шинель и фуражку, безсмысленно посмотрѣлъ на него и сказалъ:
– Къ чему это ты?
– Да ты же вотъ… самъ лѣзешь съ исправленіями и самъ же…
– Да она сама попросила.
– Сама?.. Да ты же разсказываешь, что она въ тебя влюбилась… Она… она у тебя счастья, человѣка искала… ей постоянное животное презрѣніе опротивѣло… А ты что ей преподнесъ? Добродѣтель картонную… Да развѣ нужна добродѣтель несчастному человѣку? Эхъ, вы!..
– Что ты говоришь, ей-Богу..?! – съ досадой сказалъ Рославлевъ, уходя.
Но Семеновъ со злобой и съ накипающими почему-то слезами жалости къ самому себѣ пошелъ за нимъ въ темную переднюю. Рославлевъ возился съ калошами, а Семеновъ продолжалъ говорить.
– Неужели ты до сихъ поръ не понимаешь, что добродѣтель нужна и хороша только сытому брюху!
– Слыхали мы это! – пробормоталъ Рославлевъ, котораго начало тяготить это, непонятное ему, озлобленіе и хриплый, тонкій голосъ больного.
– Нѣтъ, не слыхали! – закричалъ Семеновъ со злыми слезами въ голосѣ и размахивая руками. – А это правда! Я тебѣ это говорю… Я вотъ умираю и знаю это теперь… теперь меня никто не надуетъ жалкими словами! Счастье нужно, здоровье нужно, но умирать нужно, а не… вотъ…
Рославлевъ взялъ его за пуговицу и, глядя ему въ лицо сверху внизъ, добродушно проговорилъ:
– Ну, счастье… Я тебя и хочу просить… Я больше всего хочу, чтобы она была счастлива… – и лицо у него стало самодовольно-скромное.
– А ты женись на ней… любитъ тебя и женись!.. Вотъ и счастье… пока, на первый случай!..
– Глупости, – искренно и машинально засмѣялся Рославлевъ, – а мнѣ въ самомъ дѣлѣ кажется, что она не на шутку того… Голубчикъ, пойди къ ней завтра… она въ больницѣ теперь сидѣлкой… Отдай ей деньги и скажи, что это отъ меня на машинку и тамъ… А то, ей-Богу, невозможное положеніе получилось… Чортъ знаетъ, что такое… Вѣдь не могу же я на ней въ самомъ дѣлѣ жениться!
Семеновъ молча посмотрѣлъ въ его покраснѣвшее, пухлое и здоровое лицо.
– И какая же ты дрянь! – съ страшной ненавистью задавленнымъ голосомъ проговорилъ онъ.
– Что? спросилъ, не разслышавъ Рославлевъ. Онъ былъ почти вдвое больше Семенова, и отъ всего его здороваго тѣла дышало страшной силой и самоувѣренностью.
– Дрянь ты, говорю! – повторилъ Семеновъ, но противъ воли его голосъ былъ уже шутливый и игривый.
– Ну, пускай! – самодовольно и весело улыбнулся Рославлевъ. – А ты все-таки будь другомъ, устрой это дѣло… а?
Жидкіе волосы прилипли къ холодному лбу Семенова, ему было трудно стоять, жалко себя и стыдно того, что онъ сказалъ.
– Хорошо, – проговорилъ онъ и скосилъ глаза въ уголъ.
Рославлевъ крѣпко и дружелюбно пожалъ ему руку.
– Ну, вотъ спасибо! А теперь я пойду… Такъ сходишь завтра?
– Схожу.
– Ну, до свиданья.
– До свиданья,
Рославлевъ отворилъ дверь и вышелъ на лѣстницу, оборачиваясь и улыбаясь Семенову. Дверь затворилась, и слышно было, какъ онъ медленно спускался внизъ. Семеновъ остался одинъ въ полутемной передней. Съ минуту онъ стоялъ неподвижно и все больше и больше блѣднѣлъ, а потомъ вдругъ сорвался съ мѣста, выскочилъ на холодную лѣстницу и, перегнувшись всѣмъ тѣломъ черезъ перила, сорвавшимся голосомъ, съ невѣроятной злостью и презрѣніемъ изо всѣхъ силъ крикнулъ въ пустоту:
– Сволочь проклятая!
Голосъ гулко задробился въ пустыхъ пролетахъ лѣстницы, а Семеновъ, дрожа всѣмъ тѣломъ и отъ пронизывающаго холода, и отъ злого возбужденія, долго прислушивался, свѣсившись внизъ, пока ему не стало чего-то жутко въ этомъ пустомъ молчаливомъ мѣстѣ, слабо освѣщенномъ плохими коптящими лампочками.
XII
Дежурная сидѣлка, измучившаяся за ночь, разбудила Сашу и прошла будить другихъ. Было еще совсѣмъ темно, въ окна проникалъ только слабый, тоскливый и тусклый сѣрый свѣтъ, было сыро и холодно въ огромномъ, остывшемъ за ночь, сыромъ зданіи. Вся дрожа такъ, что зубы дробно стучали, и чувствуя какъ все тѣло сжимается, покрываясь непріятными пупырышками, Саша торопливо одѣлась. На другихъ кроватяхъ тоже молча дрожали смутно видныя въ полумракѣ сидѣлки. Та, которая будила, не раздѣваясь, повалилась на сосѣднюю кровать и сейчасъ же заснула; Саша видѣла ея блѣдное, казавшееся мертвымъ и синимъ при блѣдномъ свѣтѣ, лицо, съ замученными, впавшими щеками и темными вѣками.
Все еще дрожа и стараясь собственными движеніями согрѣться и удержать дрожь, Саша пошла внизъ, въ столовую для служащихъ. Столовая была въ подвальномъ этажѣ и въ ней было еще холоднѣе и сырѣе и такъ темно, что горѣли электрическія лампочки, подвѣшенныя къ низкому сводчатому потолку.
За такимъ же точно зеленоватымъ столомъ, какіе были въ пріютѣ, Саша, торопясь и обжигая губы, напилась чаю, грѣя лицо и руки надъ горячимъ паромъ.
– Рукъ не отогрѣешь! – проговорила она.
Сидѣвшая рядомъ толстая и старая сидѣлка молча посмотрѣла на посинѣвшія руки Саши и равнодушно отвернулась.
«Экія всѣ непривѣтливыя!» – подумала Саша. – «Всѣ тутъ такія!».
Она уже замѣтила это и поняла, что это оттого, что работа тутъ очень тяжелая, скучная, противная, и живутъ сидѣлки скучно, однообразно, постоянно другъ у друга на глазахъ, среди однообразно мучающихся, тяжело пахнущихъ, капризничающихъ, однообразно умирающихъ людей.
«Ну, и жизнь!» – подумала она, вставая и относя свою кружку на мѣсто. – «Вотъ ужъ ни за что не осталась бы тутъ!.. А вонъ живутъ же, тутъ и старѣютъ… ни свѣта, ни радости! Господи… Кабы не Митенька, такъ бы и плюнула на все…»
– Козодоева, васъ больная зоветъ! – сказала сидѣлка и прошла, звякая пузырьками.
Саша вздохнула, поправила волосы и пошла опять наверхъ по пустой, черезчуръ широкой и чистой лѣстницѣ, по которой странно-дико отдавались ея шаги.
Въ комнатѣ больной баронессы было душно и не только тепло, а даже парно, какъ въ предбанникѣ. Пахло лекарствами, духами, которыми душили въ комнатѣ, чтобы заглушить нудный, сладковатый и острый запахъ разлагающагося человѣка. Сашѣ даже въ голову ударило, когда она вошла въ эту атмосферу изъ холоднаго коридора.
Баронесса лежала на спинѣ, глядя на дверь запавшими больными и раздражительными глазами; уголки губъ у ней всей опускались, и она судорожно, болѣзненно-торопливо перебирала по одѣялу тонкими пальцами. На той груди, которую ѣлъ ракъ, не поддававшійся операціямъ, лежалъ пузырь со льдомъ, обернутый полотенцемъ.
– Господи, – капризнымъ страдающимъ голосомъ встрѣтила она Сашу, – васъ не дозовешься… Эта дура ничего не умѣетъ… Я всю ночь не спала… Льду дайте… Поверните меня-а…
Ея слабый, нудный голосъ капризно звенѣлъ Сашѣ въ ухо, когда она, подсунувъ руки подъ странно-тяжелое, вялое тѣло баронессы, поднимала его на подушки.
– Выше… еще… Господи, да больно же… еще…
Отъ мокрой больнымъ потомъ рубашки ея пахнуло въ ротъ и лицо Саши тяжелымъ запахомъ. Простыни подъ ней сбились и были горячія, противныя.
– Чаю хотите или молока принести? – спросила Саша, запыхавшись отъ усилій и поправляя разбившіеся волосы.
Баронесса не сразу отвѣтила, въ упоръ глядя на нее злыми отъ болѣзни, темными глазами.
– Молока? – повторила Саша.
– Ахъ, да конечно же! Вы же знаете, что я пью по утрамъ! – раздражительно отвѣтила баронесса. Саша промолчала и пошла за молокомъ. «И ни чуточки мнѣ ея не жаль, – подумала она о баронессѣ, сходя съ лѣстницы: – она и здоровая, должно, такая же злая была…»
Первый день Саша жалѣла баронессу и ей казалось страшно и странно, что вотъ эта женщина больна, что у нея гніетъ тѣло и она скоро умретъ, но тяжелая и противная забота возлѣ нея скоро притупила это чувство, и, какъ тѣ два сѣдые мужика въ бѣлыхъ фартукахъ, которые равнодушно протащили навстрѣчу Сашѣ бѣлыя носилки для кого-то умершаго ночью, протащили, ругаясь мѣжду собой изъ-за какой-то простыни, Саша уже совершенно машинально ухаживала за больной, переворачивала ее, носила посуду, кормила, думая совсѣмъ не о ней, a o себѣ. Молоко уже скисло и Саша пошла назадъ.
– Неужели вы не можете скорѣе… О, Госсподи, – чуть не скрежеща зубами, встрѣтила ее баронесса, съ ненавистью безконечной зависти больного и несчастнаго человѣка къ здоровому и счастливому тѣмъ.
– Чего ужъ скорѣе, – досадливо пробормотала Саша.
– Не смѣйте грубить мнѣ! – взвизгнула баронесса.
Саша промолчала.
– Опять молоко… сколько разъ кипѣло?
– Два.
– Неправда… врете… вскипятите еще разъ.
– Да, ей-Богу, два, – улыбнулась Саша.
– А я говорю нѣтъ… какъ вы смѣете спорить. Я говорю прокипятите еще разъ…
Саша пошла внизъ.
День понемногу разсвѣталъ, и въ коридорахъ стало свѣтло и тепло. Сквозь огромныя окна полились цѣлые потоки солнечныхъ лучей, но больница не замѣчала ихъ, наполненная своей тошной, тяжелой умирающей жизнью. И Саша не замѣчала этого свѣта и тепла, дѣлала тяжелое безрадостное дѣло, поднимала больныхъ, кормила, давала лекарства, потомъ обѣдала внизу въ подвальной столовой.
Послѣ обѣда она поссорилась съ своей больной.
– Дрянь!.. – кричала баронесса, захлебываясь слезами и безсильной злостью. – Какъ вы смѣете мнѣ грубить! Вы знаете, кто я и кто вы!..
Саша, испугалась и обидѣлась. Съ тѣхъ поръ, какъ она ушла изъ публичнаго дома, никто не кричалъ на нее такъ, и ей уже казалось, что и никогда никто не будетъ ее ругать, что никто не имѣетъ теперь на это права.
Въ этомъ рѣзкомъ крикѣ ей вдругъ послышались тѣ же самыя обиды, которыми осыпали ее въ прошлой жизни, и ей показалось на мгновеніе, что онъ опять сидитъ на полу, закрываясь руками, а на голову и спину ея больно сыпятся удары «тетеньки». И когда вдругъ больная притихла, поблѣднѣла и, прищуривъ глаза, какъ-то хитро и упрямо толкнула ее костлявымъ и слабымъ кулакомъ въ плечо, Саша сразу заплакала и, закрывая лицо руками, ушла.
– Господи, Боже мой, – прошептала она: – хоть бы скорѣе вырваться въ настоящую жизнь!.. Чтожъ это такое… Митенька, мой милый! Что жъ ты… И она сама не знала, чего ждала отъ него. Такъ прошелъ день, тяжелый, скорбный, и скучный. Совсѣмъ передъ вечеромъ сидѣлка пришла и позвала Сашу.
– Тамъ васъ спрашиваютъ. – сказала она.
– Пришелъ! А я-то… глупая! – чуть не вскрикнула Саша и почти бѣгомъ, легкая и радостная, вся замирая отъ любви и ожиданія чего-то невѣроятно-радостнаго, свѣтлаго, побѣжала по коридору.
Семеновъ въ худомъ длинномъ сюртукѣ, прорванномъ подъ мышками, и съ шапкой въ рукахъ стоялъ въ коридорѣ.
– Вы – Козодоева? – спросилъ онъ сердито, сердясь вовсе не на нее, а на увеличившуюся въ этотъ день одышку и боль въ груди.
– Я, отвѣтила Саша сразмаху останавливаясь передъ нимъ.
– Я къ вамъ отъ Рославлева, – сказалъ Семеновъ.
– Ахъ, пожалуйста, – почему-то сказала Саша и покраснѣла. – Они не больны? – тревожно прибавила она.
– Нѣтъ, здоровъ… должно быть, – сердито отвѣтилъ Семеновъ и закашлялся.
Саша молчала.
– Рославлевъ просилъ меня сказать вамъ, что онъ теперь уѣзжаетъ и, вѣроятно, долго не будетъ… то-есть не то, а просто… вотъ вамъ тутъ деньги, – сквозь кашель со злостью выкрикнулъ Семеновъ, не глядя на Сашу и доставая изъ кармана пакетъ, который онъ самъ тщательно склеилъ утромъ, – и если вамъ тутъ не нравится, такъ онъ похлопочеть… мѣсто въ магазинѣ портнихи, мадамъ Эльзы, что ли…
Саша молчала. Семеновъ съ удивленіемъ взглянулъ на нее и стоялъ, неловко протянувъ деньги.
Было такъ тихо, что слышно было какъ ходилъ кто-то, шаркая туфлями и звонко плюя куда-то.
– Возьмите деньги, – сердито проговорилъ Семеновъ.
У него кружилась голова отъ слабости и въ ушахъ звенѣло, и ему уже не было дѣла ни до кого и ни до чего на свѣтѣ, кромѣ тупой, ноющей боли въ груди. Саша взяла.
– Больше ничего? – спросилъ Семеновъ.
– Ничего, – только прошевелила губами Саша.
Семеновъ помолчалъ.
– Ну, прощайте.
– Прощайте.
Семеновъ пошелъ прочь, согнувъ спину и покашливая.
Саша долго и тихо стояла и смотрѣла въ спускающуюся съ лѣстницы худую, потертую спину студенческаго сюртука; потомъ положила деньги въ карманъ и пошла въ «дежурную» комнату. Тамъ она прилегла на кровать и сжалась въ комокъ, точно стараясь, чтобы никто ея не видѣлъ.
– Больны, Козодоева? – спросила сидѣлка.
– Неможется, – тихо отвѣтила Саша.
– Долго ли тутъ заболѣть! – съ ненавистью къ кому-то проговорила сидѣлка. – Такъ я за васъ поставлю дежурную, а вы полежите. Градусникъ поставьте.
– Хорошо, – покорно отвѣтила Саша.
На этой кровати съ маленькой, жесткой кожаной подушкой, которую она помнила всю жизнь, Саша пролежала весь вечеръ и ночь.