Текст книги "Шахта"
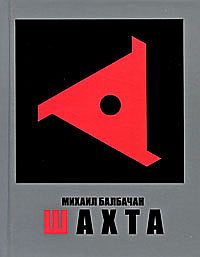
Автор книги: Михаил Балбачан
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 42 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
– Молодец! – воскликнул Петр Иванович, – так и нужно работать. К сожалению, редко теперь получается. Всё, понимаешь, торопят: быстрее, быстрее… А фамилию его ты не запомнил?
– Федулов.
– Не слыхал. Ну-ну, что дальше-то было?
– Что дальше? Когда вернулся, в камере горел свет. Его потом вообще не выключали. Я сразу понял, что дело тут в бетоне. Что-то с ним случилось. Но что именно? Нельзя же было предположить, что технология строительства была до такой степени нарушена, что меньше чем за год вся конструкция рассыпалась, как детский куличик в песочнице. И десятки инженеров, сотни опытных рабочих, контролирующие органы, наконец, – все они ничего не заметили? Значит, точно – диверсия! Но каким образом? Я чуть с ума не спятил, и все – без толку.
Ну, будят меня и опять ведут наверх, к следователю. Еще даже не рассвело. Перед тем я видел во сне какое-то торжественное шествие, играли марши, звучали прекрасные слова, которых я не запомнил. Этот сон, уж не знаю как, навел меня на одну идею. Как мне самому тогда казалось, довольно сомнительную.
В отличие от меня, следователь был бодр и оптимистичен. «Ну, как, – спрашивает, – подумали?» – «Подумал». – «И чего хорошенького надумали?» – «Всё дело в новом способе изготовления быстро затвердевающего бетона, примененном на строительстве». – «Эк, куда вас метнуло! – крякнул он. – И какие же доказательства?» – «Судя по фотографиям, разрушения произошли по всей конструкции, но в произвольных местах. Тогда как если бы это была наша ошибка, трещины возникли бы в узлах концентрации наибольших напряжений, вот здесь или здесь, например». – «Ну, до это мы и сами додумались». – «И что же?» – «Проконсультировались у специалистов. Они тоже заявили, что такого просто быть не может». – «Вот видите!» – «Ничего я не вижу. Тогда мы послали материалы в Академию наук». – «Могу себе представить! А вы не подумали, что ваш запрос мог попасть к тем же самым людям, которые дали положительные отзывы на этот проклятый способ? Или даже сами были соавторами. Там, кажется, десятка полтора соавторов, академик на академике!» – «Как ни странно, подумали, – он ухмыльнулся, – не сразу, правда. Заключение оказалось очень для вас неблагоприятным». – «То есть?» – «Они считают, что это преднамеренная диверсия». – «Точно, диверсия! Со стороны тех, которые способ этот выдумали!» – «А они утверждают, что с вашей. Подписали, кстати, уважаемые люди, никакого отношения к этому бетону не имевшие. Вот, сами можете убедиться». И подает мне толстую папку. Первым делом я на подписи посмотрел. Там оказался автограф самого… нет, лучше не буду называть. Я считал его высшим авторитетом, своим учителем, чуть ли не богом! У меня руки отнялись, папка эта – на пол, в общем, ударился в истерику, как кисейная барышня. А следователь – ничего. Посоветовал только прочесть внимательно.
Дни потянулись за днями. Допрашивали меня вежливо. Когда два, когда три раза в сутки. В любое время – утром, днем, поздно ночью. Но у меня, конечно, была возможность спать, и кормили сносно, как я потом понял. И в камере все это время я как король, без соседей, обретался.
– Один Федулов допрашивал?
– Нет, по большей части какой-то белобрысый, вечно сопливый тип. И вопросы-то он задавал дурацкие, типа: где вы были 1 сентября 1924 года? Мало того, он почему-то все время их повторял. Отвечаю, а он ме-едленно так записывает больши-ими такими буквами, высунув язык от усердия. На все мои возражения следовал флегматичный ответ, что какие вопросы задавать и сколько раз – это его дело. А мое дело – отвечать правдиво и во всех подробностях. Федулов, тот – нет, тот всегда по существу спрашивал. И с каждым его вопросом, положение мое все хуже становилось. Я словно в трясину погружался и постепенно привык к мысли, что не выкарабкаться мне.
– Высший класс! – воскликнул Петр Иванович.
– Тебе виднее, конечно, а я тогда его мастерство оценить был не в состоянии. Допросы продолжались недели три или, может, месяц. Мне из того периода запомнились какие-то обрывки. Например, он меня спрашивает: «Вы утверждаете, что дело в новой технологии изготовления бетона, но кто, по-вашему, конкретно виноват?» – «Тот, кто применил непроверенную технологию, – отвечаю. – Инициатором является начальник строительства такой-то». – «Значит, вы считаете, это его вина?» Парень мне, в общем, нравился как специалист. Сдал мост досрочно и был награжден. А я, вот, пропадал. «Он должен был все проверить, – отвечаю, – потому что этот мост был важнейшим народно-хозяйственным объектом, нельзя было на нем смелые эксперименты ставить!»
Слепко передернуло. Сергей Маркович продолжил:
– «То есть это он виноват?» – дожимал меня Федулов. «Да!» – «Как вы считаете, он это сделал умышленно?» – «А как же иначе? Он не хотел, конечно, чтобы мост развалился, он хотел, всего лишь, пятилетку в четыре года выполнить, прославиться, по службе продвинуться, а вышло вот что». – «Нет, – говорит Федулов с сожалением, – не получается. Потому, что взял он как раз проверенную технологию, пригодность которой подтвердили светила науки. Он не мог им не верить. Вы ведь тоже не возражали против использования этой технологии, сколько мне известно. Может, по-вашему, передовые достижения советской науки вообще нельзя использовать?» – «Нет, – говорю, – почему же? Можно, конечно, использовать. Значит, виноваты те, кто акт испытаний утверждал». – «Академик, член-корреспондент и трое профессоров – они, что, шайка диверсантов?» – «Подмахнули небось не глядя». – «Доказать можете?» – «В обоих экспертных заключениях утверждается, что мост развалился из-за конструктивных ошибок или преднамеренных искажений. Но в чем заключались эти ошибки и искажения, не указано. Обвинения в мой адрес совершенно голословны. В конце концов, мой проект тоже был утвержден на Совете и прошел все экспертизы. Могу вам сказать, что пользуюсь определенным уважением среди коллег». – «Да, – отвечает, – по существу вашего возражения мы уже послали соответствующий запрос. А что до уважения коллег, то ознакомьтесь-ка лучше вот с этим» – и подает мне очередную папку. Читаю и обалдеваю. Там были показания моих коллег, да что коллег – старых друзей. Все они утверждали, что я скрытный, самовлюбленный, неуравновешенный тип. Часто допускал политически сомнительные высказывания, уклонялся от общественной работы, ни с кем не считался, своевольно вносил в чертежи подозрительные исправления, с которыми они категорически не соглашались, а я якобы грубо затыкал им рты. Председатель Совета, тот вообще написал, что проект он завизировал потому только, что я его подло обманул, чуть ли не подпоил. Посему он не исключал, что такой мерзкий тип, как я, вполне мог внести искажения преднамеренно».
– Знаешь, Бородин, – задумчиво проговорил Петр Иванович, – на месте этого Федулова, я бы на этом этапе направил дело в суд, не дожидаясь никаких еще заключений. Видимо, были у него все же сомнения. Вероятнее всего, он не вполне еще уверен был, что ты преднамеренно тот мост из строя вывел, хотя…
– Вот-вот. Но меня ждал еще один, самый сильный удар. Моя дорогая женушка сама явилась в прокуратуру и заявила, что я неоднократно делал антисоветские заявления, а она, такая наивная, будто бы не понимала тогда, а то бы сразу сообщила куда следует. А теперь у нее раскрылись глаза, и она совершенно уверена, что мост я нарочно неправильно спроектировал. Поэтому она знать меня не желает и уже со мной официально развелась. Так-то. У меня, кроме нее, никого на свете не было, родители умерли давно.
– Да, брат, жены – они такие суки, – ухмыльнулся Петр Иванович, – иной ругнется по дурости или сболтнет что, не подумав, а она все слышит! Потом приревнует или еще что – и на́ тебе, заявление строчит по всей форме. У нас это очень распространенное явление. А что тут сделаешь? Сознательная гражданка доводит, значит, до сведения. Ты с ней и так и эдак – нет, стоит стерва на своем!
– А вы небось и рады, – ляпнул Евгений. Пить он не умел.
– Всяко бывает, честно тебе скажу. Иногда товарищи формально подходят. А некоторые принципиально считают: раз ты чего спьяну тявкнул, значит, действительно враг в глубине души.
– Так далеко можно зайти!
– Согласен, Жень, только заметь, в смысле морали люди у нас в органах НКВД самые чистые по сравнению с остальными. Кстати, пить тебе больше не надо.
– На-ка, погрызи, – Сергей Маркович подал Евгению соленый огурец, – а я, с вашего разрешения, продолжу.
Евгений мрачно грыз огурец и думал о жене. В голову лезла всякая дрянь. Он вспомнил, что много кого ругал, а она только успокаивала, но сама никогда… Прогнать эти мерзкие мысли никак не удавалось.
– Дошел я, можно сказать, до ручки. Спать совсем перестал, от собственной тени шарахаться начал. Тогда меня на некоторое время в Кресты перевели. Двадцать пять человек в камере. Духота. Никто друг с другом не разговаривает. Кто сидит, тупо уставясь в одну точку, кто – словно бы бредит. Да и я, верно, особо не выделялся. Просидел там два месяца почти. Остальной контингент за это время несколько раз сменился. Я уж думал, забыли обо мне. Но одним прекрасным утром вызывают с вещами и везут опять к Федулову.
– Жена тебе, что, и передач не носила?
– Нет. Небось вспоминать обо мне не хотела. Я так понимаю, своим заявлением она от конфискации имущества себя обезопасила.
– Ловкая дамочка, – объявил Евгений, наливая себе нарзану. Все-таки на его Наташку такие штучки были совершенно не похожи.
– Дал он мне прочесть новое экспертное заключение. На сей раз расчеты действительно имелись. Они там вполне грамотно предположили, что в результате применения новой марки бетона возникли резонансные эффекты на высоких частотах, которые и привели к разрушению конструкции. В конце было указано, что мне следовало оперативно изменить проект уже на стадии строительства. Это означало, что если я допустил ошибку, то по халатности, а никак не преднамеренно. Федулов тепло поздравил меня, сказав, что мнение экспертов совпало с его собственным, а мое дело передается теперь в суд, и, если я согласен с выводами, то должен подписать. Я подписал.
– Ну правильно! – обрадовался Евгений. – Конечно же, резонанс! Поэтому и бетон разрушился в самых неожиданных местах, как я сразу-то не догадался?
– Положим, в сварных железобетонных конструкциях некоторое изменение свойств бетона не могло настолько…
– Не уверен!
– Да ладно, я ведь не о том! Послушайте, что дальше было.
– Одно скажу, – Петр Иванович налил себе и Сергею Марковичу, – Федулов тебя за уши из-под расстрельной статьи вытащил. Ты теперь по гроб жизни за него молиться должен.
– Это точно!
Чокнулись, в том числе и Евгений своим нарзаном.
– Так, а что на суде?
– Был один эксперт, незнакомый. Несколько бывших моих подчиненных. Эти совершенно согласились с последними выводами, а на вопросы о прежних своих показаниях всячески юлили и отнекивались. Жены не было. Я не спорил и вину свою признал полностью. Так что на второй день зачитали мне приговор: семь лет строгого режима.
– Постой! – вскричал Петр Иванович. – В каком году это было?
– В позапрошлом ноябре.
– То есть меньше двух лет назад тебе дали семь лет и небось с хорошим прицепом, а ты тут с орденом на груди сидишь и коньячок попиваешь?
– Вот! – хлопнул ладонью по коленке Сергей Маркович, – то-то и оно. Отправили меня на канал Москва – Волга. По специальности, значит. И, что самое замечательное, поставили на бетонные работы. Наш отряд располагался под Дмитровом, в районе третьего шлюза. Фантастическое, между прочим, сооружение с инженерной точки зрения. На само́м шлюзе вольнонаемные трудились, а мы – в русле канала, оно там прямое, как стрела. О работе рассказывать неинтересно. Механизации – никакой. Таким манером и при Иване Грозном этот канал построить могли. То есть если бы у них оказался нынешний суперсовременный проект. Вот барак, куда меня определили, доложу вам, просто кошмарный был, особенно зимой.
– А ты чего хотел? Строгий режим – он и есть строгий режим, чай, не санаторий.
– Ну да, ну да. Главная беда – это бардак и неразбериха страшенная. Начальство пило без просыпу, а в инженерном деле разбиралось не очень. Зато среди заключенных инженер на инженере. Так они ведь, когда послушают, а когда и наоборот сделают, да нас же потом и обвинят. Сроки очень жесткие были, зато народу – с избытком. Я в декабре поступил, в самые трескучие морозы. Выдали мне ватничек драный, б/у, сапоги такие же. Денька через два я в канаву под лед и сверзился. Мороз уже невелик был – градусов десять. Обсушиться не позволили, пришлось до конца смены в мокром виде ходить. Может, оно и к лучшему – сушиться там все равно негде было. Наутро – горю весь, кашель сильнейший и на построении докладываю: так, мол, и так, заболел, а начальник отряда и слушать не стал. «Только, – говорит, – прибыл и уже симулируешь!» Делать нечего, потащился на работу. Гляжу – а рукавиц нету, выронил где-то. Значит – всё, пиши пропало. Взял лопату, разок-другой раствор ковырнул и в сугроб свалился. «Все, – думаю, – не повезло». По счастью, проходил мимо из охраны кто-то, в медчасть меня отправил, а оттуда с двусторонним воспалением легких в больницу свезли. Ничего, выкарабкался, врач один хороший попался. В отряд вернулся, вообще повезло несказанно – одежонку мне всю новую выдали. Летом повальная дизентерия была. Многие умерли, а меня, как говорится, бог миловал. Даже карьеру кой-какую сделал – в звеньевые выбился. К осени до того втянулся, что вся прежняя жизнь уже неправдоподобной казалась, странной даже. А «новая жизнь», простая и ясная, от побудки до отбоя, – правильной, чуть ли не единственно возможной. По собственному опыту могу вам, товарищи, доложить: система трудового перевоспитания – штука действенная!
И вот, это уже после Октябрьских праздников было, качу я себе по досочкам тачку с раствором. Знаете небось, на стройках тачки возят по таким узким длинным доскам, как по рельсам. Там только по этим досочкам и пройти можно было. Шаг в сторону – грязь по колено. Смена началась только, не развиднелось еще. Помню, подмораживало, тяжелый ледяной туман заполнил траншею канала и медленно тек вниз, в Москву. В двух шагах ничего не разобрать. А у меня почему-то бодрое настроение. Качу, значит, тачку, посвистываю, а передо мной фигура вырисовывается. В фуражке и шинели. Следом, гляжу, другие такие же пододвигаются. Я подумал, что из охраны кто-нибудь. Встал как положено, руки по швам. Человек подошел вплотную и спрашивает: «Товарищ рабочий, мы тут у вас заблудились немножко, покажите нам, где руководство помещается». Взглянул, а это – Сталин. Ну, стою спокойно, руки по швам держу, но понимаю, что быть такого никак не может. То есть – с ума я спятил. Думаю: «Я вот гадал, как это люди галлюцинации видят, считал, неясные они, как бы во сне. А оказывается, страшно реально все выглядит, просто до мельчайших деталей, заметно даже, что выбрит он с одной стороны не очень хорошо». А Иосиф Виссарионович спокойно стоит и ждет, только чуть-чуть улыбается в усы. Тут следующая фигура приблизилась. Гляжу – Ягода это, как есть Ягода, без вопросов. Ага, думаю, галлюцинация не галлюцинация, а действовать нужно так, будто на самом деле все происходит. Так что я тачку – в сторону, сам в грязь отступил, чтобы их мимо себя пропустить. Но он знаком показывает, чтобы я, значит, впереди шел. Привел их в контору. Начальство еще от праздников не отошло. Сидит за столом дежурный офицер, голову на руки положил – кемарит. На столе полное безобразие. Вот как у нас тут, примерно. За мной два офицера вошли, потом – товарищ Сталин, Ягода и другие, всего человек двадцать. Тут только дежурный голову поднял. Увидал Сталина, вскочил и трясется как припадочный, все воротничок застегнуть пытается. Иосиф Виссарионович его спрашивает: «Где ваш начальник?» А тот ни бе ни ме вымолвить не может, только рукой на дверь в соседнюю комнату тычет. Несколько офицеров сразу туда направились, потом – Сталин с Ягодой, за ними – все остальные, ну и аз грешный. Видим картину: начальник лагпункта с девкой на койке дрыхнет. Только зад его в розовых кальсонах из-под одеяла высовывается. Сталин подошел, за плечо его потряс. Тот со сна вскинулся, волосенки всклокочены, морда мятая, красная. Видит – сам товарищ Сталин над ним склонился. Он как-то дернулся и хлоп кувырком на пол. Скорчился, ногами босыми сучит. Ягода ему строго: «Встаньте немедленно и доложите, что на вверенном вам объекте происходит!» А тот только мычит, видимо, язык отнялся. Лужу под себя напустил. Сталин повернулся и вон вышел. «Слушай, Генрих, – говорит, – народ у тебя вконец разболтался».
А дежурного нет уже, только дверь входная настежь. Тогда Иосиф Виссарионович меня спросил: «Скажите, есть здесь еще кто-нибудь, чтобы мог нам обрисовать обстановку?» – «Я могу, товарищ Сталин», – отвечаю. Вышли на воздух. Туман почти растаял, и с горки уже вся стройка как на ладони видна была. Ну, я изложил вкратце, как дела шли, заверил, что в план уложимся обязательно, даже перевыполним немного. Прошли на шлюз – я и там все подробно разъяснил. Подъехали машины, они садиться стали, а Иосиф Виссарионович оборачивается ко мне и говорит: «Вас не затруднит и по другим участкам с нами проехать? Вы, я вижу, грамотный специалист. Сможете и там так же хорошо все нам объяснить?» – «Смогу, товарищ Сталин!» Ну, посадили меня в машину…
– С самим Сталиным?! – не выдержал Евгений. До сих пор он слушал с открытым ртом.
– Нет, в другую, конечно. Проехали по всему каналу, до самых Химок. Везде мне одного взгляда достаточно было, чтобы вникнуть в ситуацию. В конце товарищ Сталин руку мне пожал и говорит: «Спасибо, товарищ, вы нам очень хорошо всё рассказали». Тогда Ягода и все остальные тоже руку мне пожали, по машинам расселись и уехали. А я – назад в отряд отправился. Где на попутке, где пехом, к вечеру только добрался и через шлюз к своим пролез, были там лазейки. Едва к поверке успел. Там – словно разворошенный муравейник. Начальство как угорелое носилось. Соседи по бараку чего только не болтали. Один базарил даже, что утром на участок сам Сталин приезжал. Ему не поверили, конечно, на смех подняли, а я помалкивал.
– Это ты правильно, – похвалил Петр Иванович, – а что начальнику вашему было?
– Ничего ему не было. Недели две гонял нас в хвост и в гриву, а там все устаканилось. Только на меня долго еще искоса смотрел.
Весной, в связи с завершением работ, перебросили нас на Урал. И вот, ясным майским вечерком сидим мы в красном уголке и «Правду» читаем. А Борисыч, был там один такой, и спрашивает: «Серега, у тебя, случайно, нет родственничка, чтобы инициалы с твоими совпадали? Который тоже на нашем канале работал?» – «Нет вроде. А что?» – «Да, так, ничего, просто орденом Ленина его наградили. Вот, сам погляди, – рабочий Бородин С. М.». – «Вот, черт, – думаю, – забавное какое совпадение».
Через два месяца вызывает меня начальник лагеря и приказывает собираться. Мол, в Москву срочно затребовали. Через полчаса свезли под конвоем на станцию, посадили на первый проходящий поезд. А в Москве уже расконвоировали и сообщили, что дело мое пересмотрено, я награжден орденом Ленина и такого-то числа, в такое-то время должен явиться в Кремль. Паспорт новенький выдали, чистый, без судимости, деньжат немного. Ну, я первым делом – в Ленинград, к брату троюродному. На бывшую свою квартиру не смог. Черт с ней. Так, книг кое-каких жаль немного. А вот в мастерскую, товарищей дорогих повидать, зашел. Они все так рады были, так рады, поздравляли, обниматься лезли. Оказалось, что и в должности меня восстановили уже. А разработчиков того сверхпрочного бетона, всех, кто касательство к нему имел, забрали. Он и в метро посыпался, и еще где-то.
– Ясненько! – Петр Иванович плеснул всем по последней. – Все встало на свои места. Но рассказец, конечно, занятный. А теперь, значит, тебя к нам, на новое строительство направили?
– Точно. А я и рад до чертиков. Новые места – новая жизнь.
– Так что, мы с тобой теперь коллеги, некоторым образом?
– Выходит, что так.
«Удивительная история, – размышлял Евгений, – но, похоже, правда. Не стал бы он такое врать случайным попутчикам. Тем более таким попутчикам. Опять же – орден».
Он убрал кое-как со стола и, качаясь, направился за чаем. Петр Иванович и Сергей Маркович тоже ненадолго выходили.
– Так что, Петя? – прошамкал Бородин, прихлебывая. – Твоя теперь очередь. Мы с Женькой отдулись.
Петр Иванович сосредоточенно тянул чай, сжав горячий подстаканник всей ладонью. Наконец пробормотал:
– Даже не знаю. Я ведь для того все вчера и затеял. Понимаете, очень хотелось с кем-то этим поделиться, таким людям, с которыми не будешь потом каждый день нос к носу сталкиваться. То есть я, понимаете, кое в чем не совсем правильно поступил, у меня тогда, прямо скажем, башка не варила, а теперь вот думаю об этом все время. Ну ладно, хорош резину тянуть.
Я ведь, товарищи, тоже инженер-механик. ВТУЗ закончил. Учился – как в сече рубился, а потом исполнилась великая моя мечта – распределили меня на Тихоокеанский флот. Было там одно жаркое дело, о чем речь, сами догадывайтесь, болтать об этом я не имею права. После ранения полгода в госпитале провалялся, был комиссован и по комсомольскому призыву направлен в органы. Такие пироги. Родителей своих не помню, беспризорничал, потом – колония, общага студенческая, казарма. Как люди в обычной жизни живут, я ничего, можно сказать, не знал. Понимаете, здоровый мужик, двадцативосьмилетний, офицер, а в житейских делах – пацан просто.
Назначили меня на Урал, начальником первого отдела одного крупного завода. Там я повстречал своего старого знакомого – Тишкина. Он-то на завод пришел с институтской скамьи, стал уже начальником цеха, имел семью, хозяйство кое-какое и жил в прекрасном доме в самом центре поселка. А мне, поскольку холостяк, предоставили опять коечку в общежитии. Соседи по комнате, молодые специалисты, как это называется, жизнь вели разгульную, короче, не сошелся я с ними. Чего-то, может, я и сам тогда недопонимал, зато, как говорится, огонь и воду прошел, а в них еще молоко жеребячье не перебродило. Так что работал с утра до ночи, почти без выходных, а словом перекинуться, кроме как с Тишкиным, не с кем было. Он тоже вроде рад был возобновлению нашего знакомства и частенько после службы, если не поздно было, приглашал меня к себе домой. Жена его готовила вкусно, нравилось мне у них. Да. И вот как-то раз, я уже уходить собирался, хозяева переглянулись и предложили мне к ним переселиться. Мол, дом у них большой, одна комната вообще пустует, а я, бедный-несчастный, в общежитии маюсь. Проняло это меня до печенок – первый раз в жизни люди ко мне по-доброму отнеслись. От всего сердца их поблагодарил и сказал, что подумаю.
А чего тут думать? Комната своя, отдельная опять же, нравилось мне, что хозяйство у них: сад, огород, птица там всякая, корова. Жена Тишкина, Маринка, все крепко в своих маленьких ручках держала. Чистота кругом, уют, но, между прочим, никакого мещанства. Люди они, как мне тогда казалось, были простые и открытые. Так что уже на следующий день заявился к ним со всем своим скарбом в виде фибрового чемоданчика. Тишкин, на службе суровый, жесткий командир, член парткома, дома держал себя тише воды. Сын их Яшка, ученик первого класса, был полной копией отца – такой же толстощекий, рыжий и медлительный, только у одного имелись густые моржовые усы, а у другого – нет. Марина, та иною была. Все ее движения, взгляды, речь, выражения лица быстрые такие были, как течение ручейка.
– Та-ак, – изрек Сергей Маркович.
Петр Иванович отрывисто глянул на него и продолжил:
– Она была миниатюрной брюнеткой, но удивительно стройной и… пропорциональной, что ли. Красавицей ее, наверное, не назовешь, просто… она была очень… милой. Сама смуглая, глаза карие под густыми ресницами. Улыбалась все время. Улыбка у нее особенная была, такая… шаловливая.
Я теперь простить себе не могу, что улыбку ту вовремя не разглядел и вообще на нее как на женщину внимания не обратил. А то, может, хватило бы ума сбежать оттуда куда глаза глядят. Но я тогда настоящим дикарем был и, так уж вышло, с женщинами никаких дел еще не имел, немного даже побаивался их. Стеснялся, что ли. Для меня она была женой Тишкина, и точка. Да что теперь говорить, все мы задним умом сильны.
Зажил я у них, как у родных. Питаться стал хорошо, белье мое белым да свежим сделалось, все пуговицы пришитыми, а чулки заштопанными. Я, конечно, размяк и даже думать не хотел о возвращении к стылым столовским щам. Как и Тишкин, весь свой заработок начал ей отдавать, а уж Маринка сама заботилась, чего и когда мне купить.
В семь утра она будила меня одной и той же фразой: «Петенька, вставайте, на работу пора!». Рядом, на табуретке уже одёжа моя лежала: белье, рубаха и китель. Все чистое, выглаженное. Сколько раз ее просил, умолял даже, чтобы не делала этого! А она в ответ хмурила свои черные бровки и сердито так говорила, что, вместо того чтобы спасибо сказать, я все обидеть ее норовлю. А одежду мою она все равно стирать будет, потому, что не потерпит в своем доме грязи. Очень мне тогда не нравилось ее фамильярное обращение. «Марина Давыдовна, – говорил ей, – какой же я вам Петенька? Я ответственный пост занимаю, в конце концов, старше вас на два года. Я уже, извините, привык, чтобы меня Петром Иванычем называли». Она только смеялась. «Это вы там, на службе у себя, Петры Иванычи и Федоры Кузьмичи, а здесь я главная и зову вас, как мне хочется!»
Вечерами мы читали вслух газеты или книжку, какую-нибудь. Чтецом обычно назначали меня. Маринка обожала эти посиделки и слушала всегда очень внимательно, подперев щеку кулачком. Ей больше всего нравились такие книги, где не было путаных рассуждений и длинных описаний природы. Иногда мы брали пьесы: Ибсена, там, или Шекспира. Трагедия «Ромео и Джульетта» до того ее тронула, что она разрыдалась и убежала под издевательский смех мужа и сына. А следующим утром, за завтраком, все донимала меня насчет этого произведения. Только я ей ничего объяснить не сумел, сам в этих делах разбирался еще хуже нее.
Как-то она меня спрашивает: «Петя, а ты был влюблен в кого?» Я ответил в том смысле, что любовь это буржуазный предрассудок и настоящему коммунисту не пристало… Короче, чушь всякую, вспоминать теперь не хочется. Она внимательно выслушала, головой покачала и говорит: «Ерунду ты городишь, какой же это предрассудок, если из-за нее люди жизни решаются?» Я заявил, что это, мол, буржуи с жиру бесятся, а нам, рабочему классу, такие выкрутасы в принципе чужды. Маринка зажужжала, как рассерженная пчела, не в силах словами выразить мою глупость. «Петя, ты молодой интересный мужчина! Влюбится в тебя гарная дивчина, а ты ей, что, про буржуев своих рассказывать станешь?» Я ей на это: «Вы, Марина Давыдовна, горазды теоретически рассуждать, а сами-то, это самое, влюблялись когда-нибудь? Вот хоть в Федора Кузьмича своего?» Был он мне, конечно, приятель, но уж очень смешной выглядела одна только мысль, что в такого можно как-то там втюриться. Она резко отвернулась и ответила уже другим тоном: «Замужество, Петечка, это просто жизнь. А любовь – это совсем другое, она, наоборот, со смертью связана. Я еще полюблю, вот увидите!» – выкрикнула как-то по-детски и – вон из комнаты.
Через несколько месяцев перевели меня, с повышением, в райотдел, и не нужно стало рано просыпаться. На службу я теперь ходил часикам к десяти, зато и возвращаться домой стал намного позже. Когда утром вставал, Федора с Яшкой уже не было, а когда возвращался – оба они спали давно. И вышло, что видеться я стал с одной Маринкой. Относился я к ней с должным уважением. Даже сейчас, сурово допрашивая себя, уверен, что так оно и было. А она часто шалила, подшучивала надо мной, да все как-то несерьезно. Так и жили.
Признаться, я любитель поспать. Особенно если накануне был трудный день. Ей постоянно приходилось насильно меня будить, буквально за ноги с койки стаскивать. Войдет, распахнет окно, одеяло с меня сорвет и смеется, как я мучаюсь от холода, а глаза открывать все равно не желаю. Раз, во время подобного озорства, я, сам не знаю как, схватил ее, притянул к себе и поцеловал. Она не отстранилась и не рассердилась, только, когда я, осознав, что делаю, отпустил ее, погрозила пальчиком и сказала: «А ты, Петечка, целоваться умеешь, смотри…» Я ужасно растерялся, извиняться начал, но она засмеялась и убежала. С того самого дня словно стеклянная стена между нами выросла. Маринка посерьезнела, стала гораздо осторожнее себя со мной вести, а я, наоборот, заглядываться начал на ее фигурку, обнаружил вдруг, что у нее высокая грудь и прочее… Короче, возникло у меня желание, временами, нестерпимое просто. Домашняя с ней близость сделалась мучительной. Например, была у нее привычка: я, скажем, ужинаю, а она сядет напротив, подопрет голову руками и уставится на меня глазищами своими. Прежде это нисколько меня не беспокоило, а теперь кусок в горле застревал. «Марина Давыдовна, – просил ее, – не смотрите на меня так, я же есть не могу!» – «А чего ж мне, Петенька, и глядеть на тебя нельзя? Подумаешь, какой ненаглядный!» – и продолжала смотреть. Я боролся, мысленно себя прорабатывал, доказывал, что такое мелкобуржуазное вожделение к квартирной хозяйке – это типичное моральное разложение и недостойно меня как сотрудника органов. Но чем дальше, тем хуже мне делалось, а ночью так и совсем. Как-то Маринка спрашивает: «Чего это, Петя, ты теперь спишь плохо, все ворочаешься, влюбился, верно, в кого-нибудь?» – а сама смотрит и улыбается нестерпимым образом. Может, она тогда тоже боролась с влечением ко мне, не знаю. А мне, я теперь ясно понимаю, бороться уже поздно было. Но мы друг другу не открывались, даже напротив, почти совсем разговаривать перестали.
Решил все случай. Ей пришлось срочно уехать к больной тетке. Прихожу домой, а Маринки нет. Тут-то я и прочувствовал до конца, чем она для меня стала. Такая тоска навалилась, весь мир вокруг почернел. Дома не усидел, пошел в клуб, но и там долго не смог находиться, бродил по улицам. Под утро притащился к себе и, не сняв даже сапог, на койку повалился. На третий день я и на службу не пошел, неохота было с постели вставать. А у нас с этим строго, сами понимаете. Впрочем, наверное, любой врач признал бы меня тогда больным. И на четвертый день я все так же валялся и думал о ней. Вдруг дверь комнаты тихонько открылась. На пороге стоит Маринка и улыбается. Я кинулся к ней, подхватил на руки, целовал без конца. Она только плакала и прижималась. Ни слова мы друг другу не сказали, кажется, у меня даже мысли о чем-то большем тогда не возникло, так счастлив был, что она со мной и можно говорить с ней, целовать ее, дышать ею. С того дня мы, едва только оставались наедине, начинали целоваться или просто смотрели друг дружке в глаза, как бы в гляделки играли. Каждой ночью, пока муж ее и сын крепко спали, она проскальзывала в мою комнату, обнимала крепко, и так мы долго, без слов, сидели. Потом я шептал ей на ухо: «Поздно, Мариночка, уже спать пора» – и она нехотя уходила.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































