Текст книги "Поэзия и сверхпоэзия. О многообразии творческих миров"
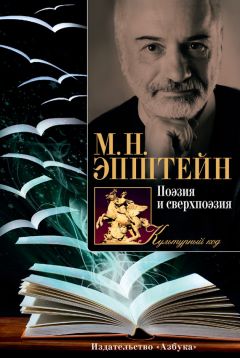
Автор книги: Михаил Эпштейн
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Три лика классики:
Державин – Пушкин – Блок
Русская классика – одна из самых молодых в мире. Но огромные социально – культурные перемены, произошедшие в революционном и катастрофическом XX веке, отодвинули XIX – век нашей классики – в легендарное прошлое, едва ли не более далекое, чем для Англии – век Шекспира, а для Франции – век Расина и Мольера. Если для западноевропейских литератур классика – это дорогое и памятное, но давно преодоленное, то для русской она таит в себе сладость будущих открытий. Это не только память, но и надежда. Это в буквальном смысле «легенда» (от лат. legere – читать) – то, что не просто читается, но подлежит прочтению, «читаемо-чтимое»[6]6
В частности, legenda называлось собрание житий или литургических отрывков для ежедневной службы. То, что становится легендой, приобретает статус священного текста.
[Закрыть].
Может быть, раньше всех это устремление послереволюционной действительности к классике, это зеркальное преломление времен, когда прошлое, под которым резко подведена черта, кажется наступающим из будущего, почувствовал О. Мандельштам, один из наиболее классически ориентированных поэтов советской эпохи. «Революция в искусстве неизбежно приводит к классицизму… Это свойство всякой поэзии, поскольку она классична. Она воспринимается как то, что должно быть, а не как то, что уже было. Итак, ни одного поэта еще не было. Мы свободны от груза воспоминаний. Зато сколько редкостных предчувствий: Пушкин, Овидий, Гомер»[7]7
Мандельштам О. Слово и культура. М., 1987. С. 40–41.
[Закрыть]. Мандельштам заостряет здесь ту мысль, что культурный переворот, освобождая от «груза воспоминаний», превращает классику из вчерашнего дня в завтрашний, наступающий.
Знаменательно, что в том же 1921 году, когда писались эти слова, другой поэт классической ориентации, В. Ходасевич, выступил с речью «Колеблемый треножник», в которой сетовал на упадок и пресечение пушкинской традиции: «Та близость к Пушкину, в которой выросли мы, уже не повторится никогда…»[8]8
Ходасевич В. Статьи о русской поэзии. Пб., 1922. С. 119.
[Закрыть] Если для Мандельштама Пушкин – редкостное предчувствие, то для Ходасевича – драгоценная память. С одного водораздела, проведенного революционной эпохой между прошлым и будущим, два поэта по-разному смотрят на классику: для Ходасевича она уже умерла, для Мандельштама еще по-настоящему не рождалась. Но по сути, между этими двумя точками зрения нет противоречия: только то, что умерло, может возродиться в новом и высшем своем качестве. Классика умерла как «то, что было», как историческая реальность, как бытовая и психологическая атмосфера, близкое веянье которой ощущал еще Ходасевич в старом Петербурге. Но классике предстояло возродиться как «тому, что должно быть», как легенде – сверхисторическому указанию на предназначение страны, средству собирания ее нравственных и художественных сил, пророчеству о духовном граде будущего.
В первые десятилетия после революции возрождение классики мыслилось в основном как появление «второго» Пушкина, рожденного пролетарской эпохой, – «нового Пушкина, Пушкина социализма, Пушкина всемирного света и пространства», как писал в 30-е годы Андрей Платонов[9]9
Платонов А. Размышления читателя. М., 1980. С. 57.
[Закрыть]. Этой простодушной мечтой о поэте, который возродит пушкинское художественное совершенство и только наполнит его более современным и прогрессивным содержанием, жило не одно поколение; еще в начале 1960-х годов вопрос о новом Пушкине всерьез обсуждался. Впоследствии никто уже не высказывал мечты о втором Пушкине, потому что стала очевидной неисчерпаемость первого.
В этом смысле нужно понимать слова Гоголя о Пушкине: «Это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится через двести лет»[10]10
Гоголь Н. Избранные статьи. М., 1980. С. 37.
[Закрыть]. В дополнение к традиционному мнению, что классика – это самая неподвижная и устоявшаяся часть национального наследия, можно утверждать, что классическое – это самое изменчивое в культуре, духовно растущее, поражающее новизной и сулящее много открытий. Во второй половине 1970-х годов возникает и начинает быстро развиваться новое направление литературоведческих исследований – историко-функциональное, задача которого – раскрыть непрерывное обновление литературных явлений прошлого, их связь с настоящим, их уверенное прорастание в сегодняшнем дне и устремленность в будущее[11]11
См.: Русская литература в историко-функциональном освещении. М., 1976; Время и судьбы русских писателей. М., 1981, и др. труды.
[Закрыть]. Если в генетическом своем аспекте литература изучается как итог всех предыдущих – жизненных и творческих процессов, то в функциональном – как предпосылка всех последующих: не как растение, развившееся из зерна, а как зерно, из которого еще предстоит развиться растению; как основа, на которую накладывается духовная жизнь многих поколений, образующая в единстве с произведением некое многослойное целое.
Однако и само историко-функциональное направление не остается неизменным – оно все более тяготеет к теоретическим обобщениям, к той области, которую можно обозначить как феноменологию творческой судьбы. Подобно тому как генетическое изучение литературы приходит в конце концов к реальности законченного произведения, которое должно быть уже изучено теоретической поэтикой, – так и функциональный метод, раскрывая становление литературы в сознании разных эпох, в итоге тоже приходит к некоей устойчивой и замкнутой целостности, условно говоря, «легенде», которая требует не эволюционно-эмпирического, а структурно-аналитического подхода. Конечно, это уже не данность отдельного произведения, а иерархически более высокая целостность поэтической судьбы как единства творческих и сотворческих, «выражающих» и «воспринимающих» начал, как итог взаимодействия индивидуальности художника с воображением народа. Существует огромная сфера «окололитературных», полувымышленных-полудействительных представлений, окружающая почти каждого значительного, популярного писателя и его творчество.
Ниже мы остановимся на трех поэтических легендах: Державин – Пушкин – Блок. Судьба лирика легче и нагляднее, чем судьба эпика или драматурга, поддается символическому, универсальному переосмыслению, – ибо сам поэт уже намечает и предлагает такое переосмысление в лице своего лирического героя. Выбор именно этих трех поэтов обусловлен тем, что каждый из них представляет целый век новой русской литературы: XVIII–XIX–XX – в их эстетическом своеобразии. Таким образом, говоря о восприятии этих поэтов, естественно иметь в виду и нечто более общее, что стоит за каждым из них, – судьбу русской классики в целом.
Вещее косноязычиеУ входа в классический XIX век высится могучая фигура Гавриила Романовича Державина (1743–1816). Признанный еще при жизни величайшим русским поэтом (даже Пушкин не удостаивался такого безусловного признания), он вскоре после смерти впал в немилость у литераторов, как до этого не раз впадал в немилость у царей за свою строптивость и необузданность. Причина здесь почти та же: крутой и тяжелый нрав его музы, которой претила сладкая изнеженность и легкокрылость новейших поэтов: Карамзина, Жуковского, Батюшкова и особенно молодого Пушкина. Муза Державина шагала вслед XVIII веку грузными стопами Российской державы, в ней слышался то грохот пушек при осаде Измаила, то львиный рык Потемкина, то петушиный крик Суворова, но сладкозвучной она не была. Уже Пушкин сетует в письме к Дельвигу на неуклюжесть и косноязычие своего наставника, чье вдохновение противно духу русского языка («его гений думал по-татарски», он «должен бесить всякое разборчивое ухо»)[12]12
Пушкин А. Собр. соч.: В 10 т. М., 1974–1978. Т. 9. С. 152. В дальнейшем все цитаты приводятся по этому изданию.
[Закрыть], а для Белинского Державин – совсем отжившая старина, причудливое порождение века вельмож и невежд, поэт «одного своего времени».
Если в XIX веке слава и значение Державина неуклонно падают, то в XX веке Державин оказался союзником в борьбе против опошленной гармонии и академического пушкинианства, преобладавших у поэтов-традиционалистов второй половины XIX – начала XX века (А. А. Голенищев-Кутузов, С. А. Андреевский и др.). Если пушкинианцы защищали традицию, то Державин тоже был традиция. Хаосом, еще не сложившимся в гармонию, стали разбивать гармонию, уже застывшую. Державин делается одним из любимых наставников целого поэтического поколения: Хлебникова, Маяковского, Вяч. Иванова, Цветаевой, Мандельштама, Ходасевича…
Державинские звуки в русской поэзии снова послышались в 1960–1970-е годы, причем у таких разных поэтов, как А. Вознесенский и Ю. Кузнецов. Если А. Вознесенский заимствует у Державина искусство диссонанса, стилевую неровность и гротеск, соединение высокого и низкого, высокопарного и просторечного[13]13
Такие строки А. Вознесенского, как «Мир храпу твоему, Великий Океан», «Всадим заступ в задницы пахотам и кручам», «Пляшет чан по-половецки. Солнце красной половешкой» и т. п., по своей бурлескной выразительности вполне сродни Державину, который так, например, обращается к Зиме: «Кати, кума драгая, в шубеночке атласной» и пр.
[Закрыть], позволяющее широко охватить всю современную жизнь и смешать воедино ее газетные штампы, уличный говор и религиозные прозрения, то Ю. Кузнецов наследует Державину более однопланово, но в большем, пожалуй, соответствии с наивно-монументальным духом самого Державина. Ю. Кузнецову свойственна тяга к гиперболе, размашистости словесного жеста, поэтике простора и вечности, к тому богатырскому разгулу, который еще Гоголь отметил как отличительное в Державине. «Через дом прошла разрыв-дорога, / Купол неба треснул до земли. / На распутье я не вижу Бога. / Славу или пыль метет вдали?..» – в этих строках Ю. Кузнецова чувствуется «исполинское и парящее», остаток того «темного пророчества», каким велик Державин.
Важны державинские уроки и для поэтов новейшей формации – метареалистов и презенталистов И. Жданова, А. Парщикова, А. Еременко, И. Кутика. Для них по сравнению с А. Вознесенским и с Ю. Кузнецовым характерна бо́льшая эмоциональная сдержанность, ведущая к предельному уплотнению вещественной субстанции образа. Значение слова не размывается лирическим порывом, не «отуманивается», но, напротив, обрисовывается как можно точнее, твердым контуром, как если бы оно обладало определенностью научного понятия. «Как замеряют рост идущим на войну, / как ходит взад-вперед рейсшина параллельно, / так этот длинный взгляд, приделанный к окну, / поддерживает мир по принципу кронштейна» (А. Еременко) – поэтический эффект здесь достигается соединением терминологической однозначности слов («рейсшина», «кронштейн») с переносностью, метафоричностью их употребления. Именно у Державина молодые поэты находят ту материальную крепость и терминологичность стиха, которая намного опередила не только XVIII век, но, пожалуй, и XIX. «Стук слышен млатов по ветрам, визг пил и стон мехов подъемных» – так смело вводит Державин технические подробности в изображение водопада, как будто это кузнечная мастерская. Строгость производственного термина привлекается для описания зыбкой, льющейся природы. Этой своей конкретностью, которая в то же время не эмпирична, не бытоописательна, но служит построению сложного метафорического образа, Державин весьма близок поэтическому сознанию метареалистов. Если А. Вознесенский воспринимает его главным образом в преломлении хлебниковско-маяковского авангарда, то для поэтов нового поколения таким посредником чаще выступает О. Мандельштам с его неоклассическим чувством оформленности вещей. Тут на первый план выходит не былинный, эпический размах и не стилевая разноголосица Державина, а точность его предметного мышления, не «зачем» и не «как», а «что» державинской поэзии.
Державин в значительной мере предопределил пути всей послепушкинской литературы, которая шла в направлении от золотой середины к чрезвычайным и все далее расходящимся крайностям. Таков закономерный ход художественного развития, которое разлагает гармоническую цельность на ее составляющие, придавая каждой все более самодовлеющий характер. Предшественник Пушкина, дисгармонический Державин оказался в этом смысле средоточием тех крайних тенденций, которые вполне обособились и обрели индивидуальных представителей лишь в послепушкинскую эпоху. В русском литературном процессе Державин противостоял Пушкину не как одна стилевая тенденция другой (точка зрения Ю. Тынянова), а как множество разнородных тенденций противостоит единому гармонизирующему центру.
Творчество Державина настолько многообразно по своим темам и интонациям, что из него можно вывести самые разные и даже противоположные направления русской литературы. Два самых грандиозных произведения Державина – ода «Бог» и послание «Евгению. Жизнь Званская» – представляют собой два крайних полюса его поэзии и одновременно величайшие, непревзойденные по размаху картины вселенского бытия и частного быта. В оде «Бог» все огромно и величественно – в русской поэзии, даже у Тютчева, нет более грандиозных картин космоса и его зиждительных начал:
Светил возженных миллионы
В неизмеримости текут,
Твои они творят законы,
Лучи животворящи льют.
Но огненны сии лампады,
Иль рдяных кристалей громады,
Иль волн златых кипящий сонм,
Или горящие эфиры,
Иль вкупе все светящи миры —
Перед тобой – как нощь пред днем.
(Бог)
И вместе с тем как детально и колоритно выписана картина сельской жизни в послании «Евгению…»! Вряд ли даже в бытописательской поэзии Некрасова найдутся столь сочные, густые краски, такое обилие вещественных подробностей: «Багряна ветчина, зелены щи с желтком, / Румяно-желт пирог, сыр белый, раки красны, / Что смоль, янтарь-икра, и с голубым пером / Там щука пестрая – прекрасны!»
Космизм Тютчева и бытовизм Некрасова не только предвосхищены Державиным, но и воплощены у него с большей последовательностью и «необузданностью», чем его последователями, над которыми уже тяготеет пушкинское чувство меры, необходимость сводить все громады и мелочи бытия к чему-то среднему, законченному и обозримому.
Точно так же, как Державиным заданы предметные масштабы и величины русской поэзии, ее мега– и микромиры, – так же задана им и ее эмоционально-экспрессивная тональность – от меланхолической скорби до бурного экстаза. И восторженный, хмельной, дифирамбический стиль Н. Языкова, и элегическая задумчивость Е. Баратынского, поглощенного мыслью о смерти, имеют в основе своей Державина с его крайностями жизнеприятия и скептического сомнения. Державина радует неистощимость материального бытия, но именно потому, что он обостренно чувствителен к плотской жизни, к ее хмельному пиршеству, его особенно угнетает и горестно отрезвляет мысль о смертности человека: «где стол был яств, там гроб стоит». Экклезиастическая тема «суеты сует», бренности всего живого, пожалуй, впервые вошла в новую русскую литературу именно через Державина. Здесь он является предшественником не только Баратынского, но и Л. Толстого, чья чувственная жажда бытия часто выливалась в страх неминуемой смерти.
Мысль о тленности бытия проходит через творчество Державина – от первого значительного произведения, «На смерть князя Мещерского», до предсмертного восьмистишия «Река времен в своем стремленьи уносит все дела людей…» И эта же мысль, омрачающая праздник жизни, вновь наполняет сердце радостью, когда Державин отдает себя в руки Творца, которым «содержится вселенна»: «„Всё суета сует!“ – я, воздыхая, мню. Но, бросив взор на блеск светила полудневна, – О, коль прекрасен мир! Что ж дух мой бременю? Творцом содержится вселенна». В этом – живоумие и живосердечие Державина, ставящие его выше многих его наследников. Он погружен в плоть бытия – но не так беззаботно, чтобы забыть о смерти; отягощен мыслью о смерти – но не так безысходно, чтобы забывать о бессмертии. Языков и Баратынский одинаково исходят из Державина, развивают его мотивы, но в какой-то мере утрачивают взаимосвязь оптимистических и пессимистических моментов его мировосприятия. Удалой и дерзкий слог Языкова, спотыкающийся, мучительный, тяжелый стих Баратынского – это как бы разделенное пополам державинское наследие, в котором элегия и дифирамб, гимн и эпитафия часто переходят друг в друга в пределах одного произведения. Так два поэта пушкинского времени уже восходят к предшественнику Пушкина – Державину, идут вперед от Пушкина, оглядываясь назад, на заслоненного им предка.
С современной точки зрения, влияние Державина на русскую литературу огромно. В оде «Бог» он предшественник философско-космической линии русской поэзии (Тютчев), в элегии «На смерть князя Мещерского» – философско-нравственной линии (Баратынский), в стихотворении «Властителям и судиям» – нравственно-социальной (Некрасов), в стихотворении «На победы в Италии» и др. – социально-патриотической (Маяковский). На Маяковского и многих других поэтов советской эпохи особенно сильное влияние оказала батально-патриотическая лирика Державина. «Бард народа, почти всегда стоявшего под ружьем» – так сказал о Державине Вяземский, и всюду, где русская поэзия обращалась к войне, где она вдохновляла и созывала на битву бойцов – в «Бородинской годовщине» и «Клеветникам России» Пушкина, в «Бородине» Лермонтова, в «Левом марше» Маяковского, – слышен отголосок воинской поэзии Державина, бодрой, звонкой, где лира звучит как труба или как удар меча о щит: «Ударь во сребряный, священный, / Далеко-звонкий, Валка! щит, / Да гром твой, эхом повторенный, / В жилище бардов восшумит». Стихотворение И. Бродского «На смерть Жукова» (1974) прямо вторит – темой, жанром, стилем – державинскому «Снигирю» (1800), написанному на смерть Суворова: «Бей, барабан, и военная флейта, / громко свисти, на манер снегиря».
Но есть у Державина наряду со строго однозначной, возвышающей героикой и всеснижающая, чреватая карнавальными превращениями стихия комического. Это скоморошески-смеховое начало его творчества особенно близко поколению, воспитанному на книге М. Бахтина о Ф. Рабле и народной карнавальной культуре. Смех Державина – грубый, простонародный, что называется, во всю глотку. Вот как обращается он с мифологическими персонажами. Эол (в стихотворении «Желание зимы») ударил Борея «в нюни», и тот, побледнев от увесистой «вяхи», замочил слюнями всю землю. Осень, «подняв пред ними юбку, / Дожди, как реки, прудит, / Плеща им в рожи грязь, / Как дуракам смеясь». Эта традиция балаганной, площадной поэзии, продолженная Блоком в поэме «Двенадцать», М. Цветаевой, С. Кирсановым, а впоследствии – Е. Евтушенко и А. Вознесенским, находит в Державине своего крупнейшего предшественника, точнее, центральное передаточное звено от древнерусского балагана и скоморошества в XX век.
Патетика войны и сельская идиллия, философия смерти и плотский экстаз, героика и балаган, живописные детали и метафизические универсалии – солнца в безднах и блюда на столе – все это совместилось в поэзии Державина, образовав не столько сплав, сколько калейдоскоп, поражающий своим многоцветьем.
Не только в поэзии, но и в прозе, в таких ее вершинах, как Гоголь и Толстой, отразился Державин…
Сопоставление Л. Толстого с Державиным кажется неожиданным, но есть нечто общее, национально-архетипическое в богатырских фигурах этих двух старцев, стоящих на рубежах веков, в начале и конце русской классической литературы, и придающих ей тот героический масштаб, ту тягу к великому и чрезмерному, которая менее ощутима в середине XIX века. Державин и Толстой – корневые явления русской литературы, самые мощные и жизнеспособные выходы в нее из народной почвы. Недаром оба они дожили до глубокой старости, превзойдя в этом отношении почти всех именитых соратников по литературе, – их жизнь поистине вековая, подводящая итог тем столетиям (18-го и 19-го), опыт и смысл которых они вобрали, успев перешагнуть в следующие века, чтобы передать им наследие и завет предыдущих. Все сполна испытали они в жизни: бранные тревоги и мирный, обильный плодами труд, заботы большого хозяйства, радости и горести семейного очага, энтузиазм общественно-устроительных дел, гнев сильных мира сего и всенародную славу. Ничем не обделила их судьба, но именно поэтому оба остро ощущают скоротечность и тщету жизни как таковой, неполноту в ее полноте, недостаточность своего достатка и изобилия. Оба глядят прямо в глаза небытию и не могут отвести завороженного взора. Впервые в русской литературе именно у Державина появляется двойная острота материального ви́дения: того, что есть, и того, что уходит, исчезает. Эта двойственность преследует и Толстого: тут общий комплекс барского благополучия и усиленного им трагизма небытия. «У нас за столом редиска розовая, желтое масло, подрумяненный мягкий хлеб на чистой скатерти… а там этот злой черт голод делает уже свое дело… так, что и нам под тенистыми липами в кисейных платьях и с желтым сливочным маслом на расписном блюде – достанется»[14]14
Толстой Л. Письмо А. Фету. 16 мая 1865 г. // Толстой Л. Собр. соч.: В 20 т. М., 1965. Т. 17. С. 288–289.
[Закрыть]. Здесь у Толстого тот же румяно-желтый колорит помещичьей трапезы, что и у Державина («румяно-желт пирог»), те же нежные, сочные краски, передающие как бы таяние пищи во рту («багряна ветчина, зелены щи с желтком»), и одновременно – чувство нарастающей катастрофы, с той, однако, разницей, что для Державина это личная смерть, а для Толстого – всеобщий голод («предстоящее народное бедствие голода»).
Еще одно сходство Толстого с Державиным, обусловленное коренной демократичностью их миросозерцания, – это стилевая громоздкость, кряжистость, которая «оземляет» и фонетику и синтаксис, лишая их воздушной легкости, напевности. Нагромождение сталкивающихся и неблагозвучных согласных у Державина, длинных причастных оборотов и придаточных предложений у Толстого – все это «бесит разборчивое ухо» (Пушкин), но и властно приковывает к себе: затрудняя восприятие, усиливает воздействие. Знаменательно, что критика упрекала Толстого, как и Державина, в тяжеловесности и неповоротливости стиля. И в самом деле, Державин стоит на исходном рубеже русской классики, когда литературно-художественный язык еще не образовался, не сложился в гармонию; Толстой же идет на разрыв с этой классической гармонией, она кажется ему искусственной, призрачной, и он дробит ее, как стекло, «тяжким млатом» своего стиля. Вход в классику и выход из нее – вот откуда сходство стилевой походки у двух писателей, казалось бы имеющих мало общего: это походка – неровная, спотыкающаяся – через порог веков. Перефразируя Толстого, сказавшего о Чехове, что это «Пушкин в прозе», про самого Толстого можно сказать, что это Державин в прозе.
Отсюда явствует, что реальное значение Державина в русской литературе неизмеримо больше его номинального признания. Поразительно, что Державин упоминается Толстым лишь несколько раз, причем, как правило, в перечислительном контексте. Сознательно Толстой не выделял для себя Державина, интересовался им ничуть не больше, чем любым другим устаревшим автором, хотя бессознательно формировался в том же русле богатырски чрезмерной, кряжисто-патриархальной русской художественной традиции, у истока которой стоял Державин.
Такова вообще судьба этого грандиозного поэта: он усваивался русской литературой настолько органически, растворяясь в ней без остатка, что терялось особое значение сделанного им, забывалось само имя. Если от Пушкина перешли в русскую литературу образы и герои, проблемы и настроения – духовное содержание словесности и ее прозрачно-одухотворенная форма, то от Державина в гораздо большей мере – ее материально-телесная субстанция, лексика, словесная фактура. Можно сказать, что Державин – родоначальник русской литературы по ее национально-языковой субстанции, отец ее во плоти, тогда как Пушкин – отец ее по духу.
Если обратиться к понятиям античной мифологии, то Пушкин – олимпийское, светло-ясное, а Державин – хтоническое, земляное божество русской поэзии, которое позднейшим поколениям часто представляется как чудовище, ибо напоминает «про древний хаос, про родимый». Именем Пушкина освящена и осветлена вся русская литература, каждая ее страница: все взывают к Пушкину, заклинают его легким, веселым именем. О Державине – долгое молчание, провалы в памяти. Это не значит, что Державин дальше от нас, чем Пушкин: быть может, наоборот, он ближе. Труднее заметить землю, на которой стоишь, тогда как недоступное солнце приковывает взор. Пушкин – в недостижимости, к нему обращены помыслы и устремления; Державин – в сокровенном существе каждого, как кровинка. Державин разошелся на множество стилей и направлений – и стал неприметен; Пушкин же остался символом целого в русской литературе, того, к чему тяготеют и в чем объединяются все стили и направления.
Исторически это понятно и объяснимо: в поэзии Державина разные стилевые возможности еще не пришли в согласие, они в изломах и на пересечениях являют свою красоту. Так же и в послепушкинской литературе, когда образовалось множество односторонних, расколотых стилей: эпические и камерные, философские и бытописательные, патетические и балаганные… В каждом из них можно обнаружить Державина, который заключает в себе все богатство русской литературы, только в рассыпанном, многоцветно-сверкающем виде. Державин – рассеивающая, а Пушкин – собирающая призма русской словесности: что в первом предстает как разнообразие, то во втором – как единство. Белый цвет Пушкина раскололся на все цвета радуги в последующей литературе, и каждый поэт взял себе по оттенку: сиренево-нежный – Фет, фиолетово-таинственный – Тютчев, коричнево-землистый – Некрасов, мглисто-розовый (как тревожный закат или ненастный рассвет) – Блок, красно-кровавый – Маяковский… Почти все эти цвета были и у Державина, только не слитно, в светящейся пушкинской белизне, а разбросанно, в брызгах пестро-богатой палитры. Вот почему русская поэзия в отдельных ее представителях больше взяла у Державина, больше похожа на него, чем на Пушкина. К Пушкину сознательно стремятся, Державина бессознательно повторяют. Пушкин всегда в будущем времени, он «будет»; Державин же есть. Если Пушкин – вечная задача, то Державин – неотменимая данность русской поэзии.
«Пушкин – наше всё», – утверждал Ап. Григорьев. Державин не во всем, но он в каждом. В отдельности, самобытности каждого индивидуального стиля можно обнаружить отпечаток державинского своеобразия, точнее, одного из многих его «своеобразий». Чем дальше отходит тот или иной поэт от некоей общей нормы стиля, от универсального к оригинальному, чем больше он экспериментирует, стремясь к какой-то последовательной односторонности, тем он ближе к Державину. Если Пушкин – центр, то в Державине есть нечто эксцентрическое, он весь состоит из крайностей, сопряженных непосредственно, без связующей середины. В каждом поэтическом явлении Державин и Пушкин образуют две необходимые, взаимно дополняющие стороны: резкую особость, причудливость, непохожесть – похожесть на все, всеохватность, целостность. И когда в литературном процессе торжество центростремительной тенденции приводило к опасной нивелировке стилей, к потускнению и опошлению гармонии, к серому вместо белого, тогда Державин опять становился надеждой и творческой силой русской поэзии.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































