Текст книги "Поэзия и сверхпоэзия. О многообразии творческих миров"
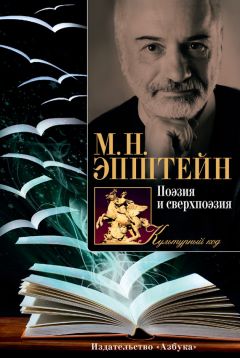
Автор книги: Михаил Эпштейн
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Да вот беда: сойдешь с ума
И страшен будешь, как чума,
Как раз тебя запрут…
Расстаться с разумом – но расстаться не навсегда, сходить с ума в пределах самого разума, отпускать его далеко – но держать на привязи: таков спасительный исход, предлагаемый пушкинской «диалектикой» творческого ино-умия.
Сходным образом Мишель Фуко различает «неразумие» и «безумие»: первое неотделимо от творчества, второе несовместимо с ним. «…Со времен Гёльдерлина и Нерваля число писателей, художников, музыкантов, „впавших“ во мрак безумия, постоянно множилось; но это не должно ввести нас в заблуждение; безумие и творчество не приспособились друг к другу, не наладили взаимосвязь, не нашли общего языка; их противостояние гораздо более опасно, чем прежде; их взаимное опровержение не знает пощады; игра идет не на жизнь, а на смерть… Безумие есть абсолютный обрыв творчества…»[51]51
Фуко М. История безумия в классическую эпоху. СПб., 1997. С. 522–523.
[Закрыть] Молчание безумных поэтов полнится смыслом по отношению к их прежним речам, но само по себе выдает душераздирающую пустоту.
У Пастернака есть стихотворение (1931), где слава, вопреки обычному представлению о ней, определяется не как возвышение, а как укоренение, «почвенная тяга» и соответственно поэты приравниваются к природным стихиям, с которыми как бы рифмуются их имена:
Теперь не сверстники поэтов,
Вся ширь проселков, меж и лех
Рифмует с Лермонтовым лето
И с Пушкиным гусей и снег.
(Любимая, молвы слащавой…)
Вот эта строка про лето издавна тревожила меня своей правотой и загадкой. С Пушкиным все проще, никакой рифмы на самом деле нет, зато есть конкретная, все объясняющая отсылка к «Евгению Онегину»: «на красных лапках гусь тяжелый, задумав плыть по лону вод, ступает бережно на лед». С Лермонтовым – наоборот: есть обусловленная начальной рифмой («ле-ле») возможность сближения, но повисает она в пустоте, куда не откликается ни один конкретный образ. При чем тут лето? где оно у Лермонтова?
Действительно, ни одного стихотворения с летним названием или зачином (типа «Летний день» или «Летняя прогулка», как «Зимнее утро», «Зимняя дорога» – пять «зим» у Пушкина) нет у Лермонтова. Но, изменив благодаря пастернаковской строчке фокус взгляда, вдруг видишь, что лето у Лермонтова – везде, что оно и не замечалось-то раньше лишь потому, что больше конкретной темы: не одно из пейзажных времен, а несменяемый фон, на котором развертывается вся жизнь лирического героя, и даже внутренняя атмосфера его души. Жар, зной, страсть, жгучие слезы, раскаленный взгляд, полуденное небо, пустыня духа… Что пейзаж, когда портрет у Лермонтова и тот исполнен летнего колорита: «Прозрачны и сини, / Как небо тех стран, ее глазки; / Как ветер пустыни, / И нежат и жгут ее ласки. / И зреющей сливы / Румянец на щечках пушистых, / И солнца отливы / Играют в кудрях золотистых». «Нарядна, как бабочка летом». «Как небеса, твой взор сверкает / Эмалью голубой». Лето привходит в человеческую плоть и кровь.
Да и пейзажи лермонтовские – не бытописательны, в них лето – категория мистическая и символическая. «В полдневный жар в долине Дагестана…», «Когда волнуется желтеющая нива…» Тут лето – не время действия, а вечность пребывания: то ли рай, сияющий, как летний день, то ли ад, пекущий, как летний зной, но пейзаж метафизический, потусторонний, данный как постоянное место и удел для души. Все проходит – остается только вечный полдень, тот час, на котором замерли часы в недрах мироздания. Иногда – выжженная пустыня, иногда – волнующаяся нива, но всегда – солнце над головой, полдень дня и полдень года.
Поразительно, что у этого русского поэта – ни одного зимнего стихотворения, ни намека на снежную негу или призывную вьюгу, никаких морозных утр или метельных вечеров. Одна только одинокая сосна, одетая ризой сыпучего снега, да и та – в переводе из Гейне, да и та – тоскующая по «далекой пустыне», «горючему утесу» и «прекрасной пальме».
Из всех русских поэтов Лермонтов, по природному мироощущению, самый «инородный» и воистину «заброшенный к нам по воле рока», только гибельного для него самого. «Смеясь, он дерзко презирал / Земли чужой язык и нравы, / Не мог понять он нашей славы…» («Смерть Поэта»). Да ведь это гневное обращение к убийце Пушкина выстрадано о самом себе: «Ни слава, купленная кровью, / Ни полный гордого доверия покой, / Ни темной старины заветные преданья / Не шевелят во мне отрадного мечтанья» («Родина»). И любит он Родину «странною любовью» – любит лето, дымок спаленной жнивы, в степи кочующий обоз, южный край России – не «суровую зиму», не «смиренную осень». Конечно, по-другому, не так, как Дантес, Лермонтов был чужим этой стране – он не убивал русского, он был убит русским. Но эта несовместимость, выразившаяся в смертельном поединке, была не случайна: как Пушкин убит иноземцем, так Лермонтов – своим, словно в нем самом было что-то иноземное: «смех», «дерзость», «презрение», в которых Лермонтов обвиняет Дантеса, – ведь это мотивы мартыновского мщения самому Лермонтову.
Как писал о Лермонтове Дмитрий Мережковский, это единственный «несмирившийся» поэт в России, не склонившийся перед снегом, печалью, равниной, не впавший в «светлую грусть» и умиротворенную хандру – но оставшийся несвершенным порывом и несмиренным вызовом. Отсюда и пожизненная, да и посмертная верность его лету. Он и погиб в полдень года, 15 июля, в разгар грозы, под зубцами гор, вписав навеки в свою судьбу те огненные разряды, которые рвались в нем, рвались вокруг, разорвали его.
Так что не только созвучием первых слогов, но и жизнью, творчеством, смертью Лермонтов зарифмован с летом. В русской поэзии он остается неостуженным жаром, и жизнь его была так коротка, как только лето бывает в России. Но даже и несмиренность – еще не вся глубина летнего в Лермонтове. Порою в своих стихах он достигал высшего умиротворенья, но не ценой угасанья, зимнего протрезвленья, а мерой небывалого, непревзойденного накала. Образ умиротворенья Лермонтов тоже находил в лете – в летнем сне, колыхании, покое, том замирании, которое не тождественно зимней смерти, ибо исходит не из небытия, «холодного сна могилы», но из полноты жизненных сил, того летнего изобилия, которое уже не может перелиться само через себя – настолько оно чрезмерно и всеохватно. Это покой Абсолюта, постигнутого как вселенский зной, мировой огонь, не «вспыхивающий и угасающий мерами» (Гераклит), но достигающий белого, божественного накала, в котором расплавляются и сливаются все цвета жизни. Не белизна охладелого снега, но белизна раскаленного полдня – вот «мудрость Лермонтова», противостоящая «мудрости Пушкина», как понял ее Михаил Гершензон[52]52
Гершензон М. Мудрость Пушкина. М., 1919.
[Закрыть]. Не остывание изначального огня, дабы в льющейся и охлаждаемой речи добывалась постепенно красота кристаллических оледенелых форм, – но всесжигающий, не оставляющий даже пепла огонь: «из пламя и света рожденное слово».
Однако, как ни ссылаться на творческую судьбу, зарифмовавшую Лермонтова с летом, сделал это все-таки Пастернак. И тут вопрос теряет прежнюю наивность, требуя и автора рифмы ввести в метафорический треугольник: «Лермонтов – лето – Пастернак».
А ведь в самом деле, кто наследник Лермонтова в русской поэзии XX века? Если подразумевать романтизм и демонизм, то, кажется, Блок? Но у него стихи взвихрялись вослед пушкинским – то разгульной бесовской метелью, то «снежной россыпью жемчужной». Ровный накал лета, движенье жизни, данное не в туманной мгле, не во вьюжном неистовстве, не в слепящей пороше, а в летнем шелесте, произрастании, теплыни, овсяных запахах и звучных ливнях, – у Блока, за редкими исключениями, этого нет. Есть у Пастернака, который после Лермонтова – самый летний русский поэт, чуявший прелесть тепла, дождя, сада, всех пряных запахов, несущихся из духовки, прелесть даже прогорклости, забурелости, репейника, бурьяна, летней пыли – всего, в чем проскальзывают живые искорки непотухшего огня, всего, что чуточку жжется, припекает, чадит.
Правда, только чуточку. Огонь, рассыпавшийся на искры. Зной, расслоенный на духовые веянья. Не лето до конца, до раскаленной пустыни и полдневного жара, но – промельки, набеги, касания лета; не из «пламя и света», но из мерцаний, вспышек, зарниц, отблесков рожденное слово. Пастернак – поэт не огня, но искорок, которые могут вспыхнуть и промерцать от чего угодно, и от солнца, и от снежинок. «На тротуарах истолку / С стеклом и солнцем пополам, / Зимой открою потолку / И дам читать сырым углам» («Про эти стихи»). Зима к Пастернаку врывается столь же часто, как и лето, они у него ничуть не враги, но водят хоровод, как это подобает в кругу времен года, устраивают чехарду, перебегают дорогу, играют в прятки. Что бы ни вспыхнуло взгляду – светлячок или снежинка, что бы ни скользнуло под ноги – лужица или ледышка, что бы ни коснулось щеки – листья сада или хлопья снега, – Пастернаку все дорого свойством подробного, мелькающего движенья.
И все-таки лучшую свою книгу «Сестра моя – жизнь», со вторым заголовком «Лето 1917 года», Пастернак посвятил Лермонтову. Так – как заглавие и посвящение – лето и Лермонтов сошлись в поэзии Пастернака еще прежде, чем он сам придал этому созвучию рифменный чекан в стихотворении 1931 года.
«Сестра моя – жизнь» – самая летняя, самая лермонтовская и самая пастернаковская из всех книг Пастернака, и по одной этой превосходной степени все три понятия можно соединить. Самое короткое и, по сути, единственное в русской истории лето – пыл и жар, почти лихорадка между двумя долгими зимами. В эту самую «лермонтовскую», грозовую и гибельную, по-настоящему «несмиренную» пору Пастернак и написал книгу, замечательную хотя бы одним своим посвящением, именем Лермонтова, означившим поэтическую сущность мелькнувшей эпохи, ее «из пламя и света» рожденный звук. А за Лермонтовым в этой книге появляются Байрон, с которым курит автор, Эдгар По, с которым он пьет, – вся международная романтическая плеяда, папиросный чад и винный хмель, окутавший высшие сферы воображения, – вот какие далекие призраки вышли на угар и упоенье того лета…
Но оно промелькнуло – как все мелькает в стихах Пастернака, по тому закону летней краткости, которому в России подчиняется почти все: природа, история, поэзия. И потом не раз еще у Пастернака пробивался оттаявший лермонтовский ручеек, приносил из прошлого века тот звонкий лепет, которым не меньше, чем вьюжным завываньем, живет творческое слово.
…Когда студеный ключ играет по оврагу
И, погружая мысль в какой-то смутный сон,
Лепечет мне таинственную сагу
Про мирный край, откуда мчится он…
М. Лермонтов.Когда волнуется желтеющая нива…
Во всем лесу один ручей
В овраге, полном благозвучья,
Твердит то тише, то звончей
Про этот небывалый случай.
Б. Пастернак. Тишина
Кажется, вариация на лермонтовскую тему… Но «сладостная тень», «душистая роса», «серебристый ландыш», «золотой час», «смутный сон», «мирный край», «счастье на земле», «Бог в небесах» – все то вечное и бескрайнее, чем было лето в лермонтовских стихах, даже к самому летнему – Пастернаку уже не вернулось. Мировой полдень превратился в редкий просвет, стремительный промельк, «небывалый случай»…
Под занавес. Театральность у А. Пушкина и О. Мандельштама
1
Закончился ли уже XX век? Понятно, что речь идет не о календаре, но об исторической эпохе. Многие считают, что XX век завершился не 31 декабря 2000 года, а 11 сентября 2001 года, когда рухнули башни-близнецы в Нью-Йорке и началась война западной цивилизации и исламистского терроризма. Но может быть, это слишком поспешные выводы и XXI век во всей своей умопомрачающей реальности еще не наступил? Может быть, он придет сегодня или завтра?
Ведь и XX век, как считают многие, начался сто лет назад, 28 июля 1914 года, вместе с Первой мировой войной, о чем писала Ахматова:
И всегда в темноте морозной,
Предвоенной, блудной и грозной,
Жил какой-то будущий гул,
Но тогда он был слышен глуше,
Он почти не тревожил души
И в сугробах невских тонул.
Словно в зеркале страшной ночи
И беснуется и не хочет
Узнавать себя человек,
А по набережной легендарной
Приближался не календарный —
Настоящий Двадцатый Век.
(Поэма без героя)
Видимо, есть что-то вещее (не хочется говорить «зловещее») в исторических рифмах с интервалом в столетие. Вот почему у меня вырвалось такое пожелание к Новому, 2014 году – друзьям в Фейсбуке:
«С Новым годом! И пусть события в нем пишутся белым стихом, т. е. без рифмы к 1914 году. То же пожелание и к последующим годам, в т. ч. 2017. Пожалуйста, без рифм!»
Боюсь, однако, это пожелание не было услышано Тем или теми, от кого зависит их исполнение. Белый стих – это для Запада, а в России все еще преобладает рифмованный. Боюсь, что настоящий Двадцать Первый Век еще только на пороге – и нам мало что известно о нем, кроме того, что он обещает быть жестоким.
О том, как это происходит, как ломают позвонки столетиям, мы узнаём не только из программного стихотворения О. Мандельштама «Век мой, зверь мой…» (1922), но и из его же малоприметного восьмистишия «Летают валькирии…», написанного в 1914 году, незадолго до Первой мировой. В нем нет ни слова о войне, но оно поразительно верно передает тот слом культуры, который обнажила война. Вдруг почти мгновенно завершилась эпоха эстетства, декадентства, оперности, вагнерианства, всего это блистательного «fin de siècle», которому век спустя стали соответствовать постмодерн, симулякр, гламур, интертекстуальность, игра означающих, исчезновение реальности… Я не буду прибегать к дальнейшим аллюзиям и параллелям – пусть стихотворение Мандельштама говорит само за себя.
2
Летают валькирии, поют смычки.
Громоздкая опера к концу идет.
С тяжелыми шубами гайдуки
На мраморных лестницах ждут господ.
Уж занавес наглухо упасть готов.
Еще рукоплещет в райке глупец,
Извозчики пляшут вокруг костров.
Карету такого-то! Разъезд. Конец.
(Летают валькирии…)
Это стихотворение кажется эпизодической «зарисовкой с натуры», лишенной художественных обобщений. Оно, действительно, фрагментарно, однако лишь в том смысле, что его «начала» и «концы» погружены в плоть истории и культуры. Мандельштамовское восьмистишие – короткая реплика в гигантском диалоге эпох и культур.
Прежде всего очевидно, что это стихотворение ближайшим образом соотносится с известной XXII строфой первой главы «Евгения Онегина», где тоже описано театральное представление на фоне околотеатрального быта[53]53
Приоритет в сопоставлении этих двух текстов принадлежит Левинской О. Л., которой автор глубоко благодарен за возможность воспользоваться рядом ее ценных наблюдений (затем самостоятельно обобщенных в ее курсовой работе «Театр в поэзии Мандельштама». Филфак МГУ, 1977 г.).
[Закрыть]. Многие реалии: гайдуки, стерегущие господские шубы, извозчики, греющиеся вокруг костров, – прямо заимствованы Мандельштамом у Пушкина; а главное – использована та же композиция: сначала сцена, потом зрительный зал, наконец, площадь перед театром. Эти совпадения заставляют предположить, что восьмистишие Мандельштама – сознательная вариация на пушкинскую тему.
Еще амуры, черти, змеи
На сцене скачут и шумят;
Еще усталые лакеи
На шубах у подъезда спят;
Еще не перестали топать,
Сморкаться, кашлять, шикать, хлопать;
Еще снаружи и внутри
Везде блистают фонари;
Еще, прозябнув, бьются кони,
Наскуча упряжью своей,
И кучера, вокруг огней,
Бранят господ и бьют в ладони,
А уж Онегин вышел вон;
Домой одеться едет он.
(Евгений Онегин, I, XXII)
Что привлекло внимание Мандельштама к этому пушкинскому отрывку и заставило переосмыслить его? Очевидно, здесь у Пушкина ненавязчиво, как бы вскользь, затронута принципиальная тема соотношения искусства и действительности, которая впоследствии стала чрезвычайно значимой в художественном и теоретическом сознании Серебряного века. Вопрос об эстетизации жизни, о претворении ее в произведение искусства с равной остротой стоял во всех сферах творческой деятельности. Так было в поэзии, где «младшие» символисты – Вяч. Иванов, А. Белый и другие – проповедовали внедрение искусства в толщу действительности, соборное действо, преобразующее мир по законам красоты, выводящее символ из словесной ткани – в живое сплетение человеческих душ и судеб. Так было в живописи, где возник «Мир искусства», имеющий дело с эстетизированной реальностью – театральной, архитектурной и пр. Так было и в театре, где Н. Евреинов предлагал и проводил опыты по внесению игровых начал в повседневную действительность («театр для себя» – программа превращения каждого человека в актера, каждого поступка – в сценическое действо); и в музыке, где А. Скрябин развивал грандиозные идеи о звуковом «управлении» мирозданием, о синтезе звуков и красок, жестов и слов в единое произведение – регулятор вселенской жизни; наконец, и в философии, где Д. Мережковский и особенно Н. Бердяев («Смысл творчества», 1916) усматривали в эстетической обособленности искусства признак его греховной неполноты, которую следует преодолеть выходом в реальное творчество.
Вся эта атмосфера эстетических ожиданий и пророчеств, сгустившаяся в России как раз к началу Первой мировой войны, плотно окружала и Мандельштама. Пушкинская строфа была им воспринята как некий аналог или, вернее, корректив современных ему умонастроений, как живое слово, требующее отклика.
В пушкинском фрагменте поражает прежде всего последовательная деэстетизация театрального зрелища и всей сопутствующей ему торжественной обстановки «храма искусств». Уже в первой строке дано невозможное, нелепое с точки зрения жанра и стиля смешение разнородных существ: амуров – персонажей античной мифологии, чертей – христианской демонологии, змей – китайского фольклора[54]54
Действие балета «Хензи и Тао», впечатление от которого отразилось в XXII строфе, происходит в Китае. См.: Слонимский Ю. Балетные строки Пушкина. Л., 1974. С. 79–87.
[Закрыть]. Причем они ведут себя одинаково – «на сцене скачут и шумят». И в движеньях, и в звуках – беспорядочность, суматошность, отсутствие эстетически организованной формы. Скачут и шумят – в естественной, неритмизованной жизни, а на сцене – пляшут и поют. Художественная иллюзия разрушается, уступая место будничному, безыскусному.
Но точно так же «нетеатрально», как персонажи на сцене, ведут себя и зрители в зале, – они не внимают, не восторгаются, не предаются высокому созерцанию, но ведут себя в соответствии с собственными прозаическими нуждами: сморкаются, кашляют… Эта обыденность, отступление от условных форм поведения, захватывает и мир за пределами театра. Лакеи спят на господских шубах; кучера, не стесняясь, бранят своих господ. Даже кони выходят из предназначенной им роли: бьются, вырываются из наскучившей им упряжи.
Наконец, Онегин, покидая театр во время представления, особенно резко демонстрирует нарушение эстетической условности – внутренней замкнутости художественного времени и пространства. Границы между театром и не-театром, между искусственным и естественным оказываются легкопреодолимыми. Театр еще не превратился в некое мирское святилище, где должны замереть все звуки обыденной жизни и воцариться благоговейная тишина. Жизнь безбоязненно вторгается в театр и плещется по его рядам, захватывая и алтарь – сцену. Весь пафос пушкинского описания – в той легкости и непринужденности, с какой театральный мир (в широком смысле – мир всяческих ролей, в том числе и социальных) выходит из равенства себе и размыкается в неупорядоченную, живую действительность.
Мандельштам исходит из мироощущения другой эпохи – это заметно уже в первой строке. «Летают валькирии, поют смычки» – тут эстетический порядок соблюден в высшей мере. И движения, и звуки – возвышенные, парящие.
Соответственно в зале – столь же приподнятая атмосфера. Из всех возможных зрительских реакций, перечисленных у Пушкина, Мандельштам оставляет только последнюю, выражающую прямое одобрение, соучастие в эстетической условности. Причем там, где у Пушкина непринужденно-бытовое «хлопать», у Мандельштама высокоторжественное «рукоплескать» (соотношение примерно такое же, как между «скакать» и «летать»). Знаменательно и то, что если у Пушкина топают, хлопают, сморкаются в непосредственной близости от сцены, в партере, то у Мандельштама рукоплескание раздается из самого далекого, периферийного уголка, с райка (галерки). У Пушкина на самой сцене – бытовая непринужденность, у Мандельштама даже в райке – театральная экзальтация.
Напряженность «ролевого» поведения пронизывает все вокруг, захватывая не только исполнителей, зрителей, но и их слуг. Гайдуки, в отличие от пушкинских утомленных лакеев, исправно несут свою службу, в ожидании господ стоят наготове с шубами, а не спят на них. Да и сама фигура гайдука колоритна, не в пример простому лакею: рослый, осанистый молодец в венгерской или казачьей одежде – чем не театральный статист? Гайдук – лакей парадный, декоративный. Стоит на мраморной лестнице, держит тяжелую шубу; во всех вещах подчеркнута высшая степень качества, доходящая до роскоши, изысканности, – чем не театральный реквизит? Театр выходит за пределы зрительного зала: все эти гайдуки, мраморные лестницы, тяжелые шубы – как бы продолжение сцены. Будничное возводится в ранг искусства. Даже извозчики, которые у Пушкина «бранят господ и бьют в ладони», у Мандельштама «пляшут вокруг костров», то есть включаются в сценическое действо, – их захватывает кружение валькирий.
Тут не театр приобщен к жизни, но жизнь насквозь театральна. Не эстетическая иллюзия нарушается в пользу житейского, безыскусного, но действительность эстетизируется и превращается в факт искусства. Вот откуда «громоздкая опера»: она разбухла, захватив в себя и то, что к ней не относится: и лестницы, и лакеев, и извозчиков. Все, что просто живет, наделяется ролью, мир превращается в сцену.
3
Далеко не случайно, что опера, описанная в этом стихотворении, принадлежит Вагнеру («Валькирия» – вторая часть грандиозного «Кольца нибелунгов»). Трудно было бы найти лучший пример «захватнического» отношения искусства к жизни. Вагнер задумал свой театр как синтез искусств (поэзии, музыки, танца, живописи…), призванных в своей сплоченности к полному преобразованию общества. «Искусство и его учреждения… могут… сделаться предвестниками и моделью всех будущих коммунальных учреждений… вся наша будущая социальная организация, если мы достигнем истинной цели, будет и не сможет не носить художественный характер…»[55]55
Вагнер Р. Искусство и революция // Избранные работы. М., 1978. С. 141.
[Закрыть]
Вся культурная атмосфера России начала XX века была насыщена идеями Вагнера, он был кумир и предшественник младших символистов с их пониманием искусства как теургии – богослужения и преображения жизни. О том, насколько прочно запечатлелась в сознании русских символистов вагнеровская утопия «художественной революции», свидетельствует статья А. Блока, записанная в 1918 году, в эпоху, мало оправдывавшую любые эстетические притязания. Не только заголовком своим, но и основным содержанием эта статья воспроизводит вагнеровскую идею революции как торжества искусства, как победительного и завоевательного действия «человека-артиста» (вагнеровский термин, часто звучащий в послереволюционной публицистике Блока). «Вагнер все так же жив и все так же нов, – пишет Блок 12 марта 1918 года, – когда начинает звучать в воздухе Революция, звучит ответно и Искусство Вагнера… ибо искусство, столь „отдаленное от жизни“ (и потому – любезное сердцу иных), в наши дни ведет непосредственно к практике, к делу…»[56]56
Блок А. Искусство и революция // Блок А. Сочинения: В 2 т. М., 1955. Т. 2. С. 232.
[Закрыть]
Вот почему упоминание валькирий в первой строке мандельштамовского стихотворения сразу влечет за собой дальнейшую цепь ассоциаций, связанных с идеей победного шествия искусства по жизни. Несколькими штрихами Мандельштам набрасывает эскиз того мира, который рисовался утопическому воображению Вагнера и русских символистов. Но сам Мандельштам – вовсе не символист и не поклонник немецкой мечтательности. Акмеизм как искусство «прекрасной ясности» имеет отчетливую романскую направленность, противоположную символизму с его ориентацией на германский спиритуализм, отвлеченность, метафизику. Полемика с вагнерианством (так же, как с гегелианством) – составная часть акмеистской программы возвращения искусства к самому себе.
Мандельштам обладает трезвостью предметного мышления, ясным видением вещей в их чуждости и неподатливости всемирно-преобразовательным устремлениям духа. Все его стихотворение – о том, что опера, переросшая свои законные границы, посягнувшая на суверенитет жизни, стала чересчур громоздкой и идет к концу. «Уж занавес наглухо упасть готов…» Готов – и ничто его не остановит: в конце стихотворения прозвучит это веское слово «конец», за которым уже действительно ничего не последует. Между начальными строками первого и второго четверостишия есть подчеркнуто контрастное соответствие: ведь слова «летать» – «падать», «петь» – «наглухо» – это почти строгие семантические антонимы. На полет валькирий и пенье смычков занавес готовится ответить действием прямо антитетическим – глухим падением. Он подобен гильотине, отрубающей голову громоздкому чудовищу – вагнеровской опере, а редкие рукоплесканья в пустеющем зале – последние судороги ее остывающего, обезглавленного тела.
По сравнению с пушкинской строфой у Мандельштама подчеркнуто и характерное для эпохи наступление искусства на жизнь, и характерное для самого автора осознание такого «агрессивного» искусства, «симулякра» как обреченного, доживающего свои последние дни. Смысловая переакцентировка, внесенная Мандельштамом в пушкинскую тему, особенно рельефно выступает в новом использовании частиц «еще» – «уже», составляющих стержень обоих поэтических текстов. У Пушкина «еще» предпослано каждой фразе, рисующей обстановку внутри и вне театра, – это слово повторяется пять раз через каждую строку; и лишь в последнем двустишии, относящемся к герою, Онегину, появляется «уже». Смысл в том, что представление еще продолжается, еще в полном разгаре, и только для одного Онегина оно уже закончено. У Мандельштама все наоборот: представление уже кончается и только один зритель еще продолжает рукоплескать. Потому он и назван «глупцом», что не замечает изменившейся реальности. Это глупец в высоком смысле слова – преданный до конца тому прекрасному и возвышенному зрелищу, которое доживает свои последние минуты перед падением неумолимого занавеса. И ведь он, сидящий в райке, на самой периферии этого блестящего театрального царства, должен, казалось бы, острее других чувствовать начало всеобщего разъезда. Но он остается дольше других, верный своему театральному пристрастию, – тогда как Онегин, быстро разочаровавшийся в театре, как и в прочих дарах аристократической культуры, уходит раньше других. Причем уходит из партера[57]57
Точнее, из кресел перед партером – самого привилегированного места в иерархически организованном зрительном зале той эпохи.
[Закрыть], покидает притягательный центр этого театрального мира.
Эта обратная симметрия пространств (партер – раек) и времен (еще – уже) у Пушкина и Мандельштама отражает, очевидно, какой-то колоссальный сдвиг между духовными ситуациями двух эпох. Онегин и «глупец» ведут себя «наоборотно» по отношению к окружающим. Оба, если угодно, «лишние» люди, умные «глупцы», живущие вразрез с обычаями своего времени. Но поступки их противоположны, отражая тем самым противоположность времен. В эпоху Онегина опера или балет – в широком смысле вся высокотеатрализованная, проникнутая почти сценическими условностями жизнь аристократического сословия была еще в полном разгаре, и Онегин был одним из первых и немногих, кто покинул ее, «уж… вышел вон»; это «уж» – первый признак начинающегося распада.
Уход Онегина из театра как бы знаменует последующий его разрыв с «театрализованной» культурой великосветского сословия, начало дробления этой культуры, отпадения от нее «лишних» людей. Показательно, что в заключение романа, как итог его, звучит тот же мотив преждевременного ухода, что и в конце XXII строфы: «Блажен, кто праздник жизни рано / Оставил, не допив до дна / Бокала полного вина, / Кто не дочел ее романа…»
Мандельштамовская вариация предполагает, что лишними и глупыми кажутся уже не те, которые уходят, а те, которые остаются, – очевидно, то, что в эпоху Онегина было исключением, стало теперь правилом, само время требует опустить занавес. Онегин в одиночестве едет домой, а мандельштамовское стихотворение заканчивается картиной всеобщего разъезда. «Карету такого-то! Разъезд. Конец». Здесь безлично и «массово» изображены именно отъезжающие («такие-то»), у Пушкина – остающиеся («не перестали топать…» – само предложение неопределенно-личное). Театральность в пушкинскую эпоху еще захватывает широчайшие пласты реальности, еще определяет запросы общества; а в мандельштамовскую эпоху сохраняет лишь одиноких приверженцев, и к ней обращено горестное «уже».
4
Вспомним, что под стихотворением Мандельштама стоит дата: «1914 год». Перед нами нечастый случай, когда дата не просто указывает год создания произведения, но входит в глубинную систему его образов, развивает его художественную концепцию. 1914 год, как известно, нанес решающий удар по всяческим проектам эстетического переустроения жизни. Эти проекты питались и вынашивались долгим периодом относительного мира и спокойствия в Европе, когда верилось – вслед за Достоевским, Вагнером и Ницше, – что «красота спасет мир». Первая мировая война убила эту надежду. Любопытно, что общее одичание жизни, вызванное войной, осмысляется Мандельштамом в антивоенном стихотворении «Зверинец» (1916) как возвращение к предыстории театра, когда трагедия была еще только воспроизведением похотливых и необузданных козлиных действ («трагедия» по-гречески буквально означает «козлопение»): «Козлиным голосом опять / Поют косматые свирели». Война – полная десублимация культуры, деэстетизация жизни, возвращение от театра и трагедии – к косматости и «козлиности».
Опера по силе своего трагического напряжения не шла ни в какое сравнение с операциями на театре военных действий. «Уж занавес наглухо упасть готов» – эта строчка, сопряженная с датой ее написания, свидетельствует о чем-то гораздо большем, чем конец одной затянувшейся оперы. Занавес готов опуститься над целой эпохой русской культуры, одним из высших выражений которой была опера. Действие первой главы «Евгения Онегина» относится к 1819 году – это середина всей «петровской» эпохи, если – условно – считать от провозглашения Петра императором в 1721 году до революций 1917 года. Для Мандельштама пушкинская строфа – идеальная точка отсчета. От нее искусство и действительность начнут двигаться к разрыву. В стихотворении Мандельштама обозначены и наступление театра на жизнь, и его обреченность перед лицом жизни, срывающей с себя навязанную ей оперную маску. Именно в этот миг, когда эстетизация жизни в театре и за его пределами (пляшущие извозчики и т. д.) достигает апогея, обнаруживается неуместность всего этого затянувшегося действа и провозглашается грозное слово «Конец».
Это восьмистишие оказалось достаточно емким, чтобы вобрать сложившийся в русской культуре XIX века образ театральности – и стать эпитафией ей. Если у Пушкина «взвившись, занавес шумит», то у Мандельштама он «наглухо упасть готов». А между ними – все великолепное, многоактное зрелище русской культуры от 1810-х годов XIX до 1910-х годов XX века. Падение занавеса Мандельштам предрек в тот миг, когда его уже начала опускать история.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































