Текст книги "Поэзия и сверхпоэзия. О многообразии творческих миров"
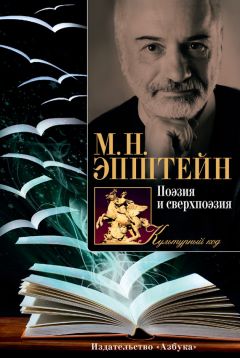
Автор книги: Михаил Эпштейн
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
В 1949 году А. Твардовский так определил основное в Пушкине для своего времени: «Пушкин – певец свободы, обличитель тирании, великий патриот и провозвестник светлого будущего для своего народа…»[15]15
Дань признательной любви. Русские писатели о Пушкине. Л., 1979. С. 138.
[Закрыть] Конечно, такое восприятие Пушкина не отошло в прошлое, так как покоится на прочных социально-психологических основаниях. Но прошедшие десятилетия прибавили много нового к нашему восприятию Пушкина. Уже в 1960–1970-е годы Пушкин стал восприниматься как провозвестник свободы, но в более глубоком смысле, чем это предполагалось раньше. Певцами свободы были и Рылеев, и Кюхельбекер, но теперь отчетливее видно, насколько пушкинская концепция свободы шире того политического вольнодумства, которым исчерпывались многие стихи поэтов-декабристов, да и самого раннего Пушкина. По мысли Н. Эйдельмана, «…в некоторых существенных отношениях Пушкин проницал глубже, шире, дальше декабристов. Можно сказать, что от восторженного отношения к революционным потрясениям он переходил к вдохновенному проникновению в смысл истории»[16]16
Эйдельман Н. Пушкин и декабристы. М., 1979. С. 404–405.
[Закрыть].
Историзм зрелого Пушкина тесно сопряжен с более углубленным этическим пониманием свободы. Принято думать, что историзм, придавая каждому явлению конкретно-временной смысл, упраздняет абсолютные и сверхвременные цели бытия. Пушкин – поучительный пример обратного хода мышления. Да, история не подчиняется нравственности и в отличие от того, что думали о ней декабристы, оставляет мало места человеческой свободе, она есть царство суровой необходимости. Но это лишь углубляет этический долг человека перед самим собой: быть свободным не благодаря обстоятельствам, а вопреки им. Подлинный историзм повышает запросы человека к своей внутренней жизни, ибо сокрушает ложные, романтические надежды на «благость» истории, тот политический романтизм, который ищет добра от объективного порядка вещей. Быть может, никто в русской словесности и даже в общественной мысли не выразил этих этических выводов подлинного историзма лучше, чем Пушкин. В таких его зрелых произведениях, как «Из Пиндемонти» («Не дорого ценю я громкие права…»), свобода трактуется не как политический принцип, a как состояние духа. «По прихоти своей скитаться здесь и там, / Дивясь божественным природы красотам, / И пред созданьями искусств и вдохновенья / Трепеща радостно в восторгах умиленья… / Вот счастье, вот права…» – эти строки звучат как лозунг неотчуждаемой свободы человека в его отношениях к природе и искусству, к самому себе. Напомним, что именно это углубленное понимание свободы ценил у Пушкина А. Блок, писавший в 1921 году в стихотворении «Пушкинскому Дому»: «Пушкин, тайную свободу / Пели мы вослед тебе. / Дай нам руку в непогоду. / Помоги в немой борьбе». Слова «тайную» и «немой» выделил сам Блок, подчеркивая, что речь идет не о политическом, а об этическом понимании свободы и борьбы – как внутреннем деле личности.
В стихотворении «Болдинская осень» Д. Самойлов так воплощает исторически более зрелое представление о Пушкине: «И за полночь пиши, и спи за полдень, / И будь счастлив, и бормочи во сне! / Благодаренье богу – ты свободен – / В России, в Болдине, в карантине…» (1961). Тут дана сужающаяся, смыкающаяся вокруг Пушкина цепь зависимостей: крепостная Россия, сельская глушь, карантинный кордон; и вот внутри этой многостенной тюрьмы Пушкин свободен. Он не борется за свободу, ибо ее нельзя получить извне, она изначально присуща самой личности как совокупность естественных ее проявлений; свобода – это не то, что можно взять (завоевать, присвоить), а то, чего нельзя отдать. Это не отчуждаемая вещь, внешняя человеку, а его собственное дыхание, зрение, слух, состояние открытости мирозданию.
С 1970-х годов стал расти интерес к позднему периоду творчества Пушкина. Какой памятник поэту нам ближе: петербургский, аникушинский, где поэт, простирая руку вперед, восторженно приветствует будущее, или московский, опекушинский, где Пушкин стоит опустив голову, погруженный в свои мысли? Пушкин-юноша прекрасен в своих порывах, но еще прекраснее мужественная печаль и выстраданная мудрость зрелого Пушкина.
Известно, что переход Пушкина от романтически восторженного к реалистически трезвому мировосприятию состоялся в поэме «Цыганы». Достоевский в своей речи о Пушкине так истолковал смысл этой поэмы, ее нравственный урок: «Смирись, гордый человек…» В советское время преобладало резко отрицательное отношение к подобной религиозно-этической трактовке. Сошлемся опять на А. Т. Твардовского, суждения которого имеют особую ценность как безусловно искреннее и убежденное выражение вкусов и взглядов целой эпохи. «Совсем далек, даже чужд нам тот образ Пушкина, который был нарисован Ф. М. Достоевским… В непостижимом ослеплении… Достоевский навязывал Пушкину „пророческую“ роль провозвестника рабского смирения и покорности» (1961)[17]17
Твардовский А. О литературе. М., 1973. С. 30.
[Закрыть].
С тех пор как Твардовский произнес эти слова, образ Пушкина, нарисованный Достоевским, стал намного ближе нам. Ясно, что пушкинское «смирение» в понимании Достоевского вовсе не раболепно, напротив, оно-то и ведет к истинной свободе («усмиришь себя – и станешь свободен»). Как писала А. Ахматова, «в отличие от Байрона… Пушкин, исходя из личного опыта, не отрекается от мира, а идет к миру»[18]18
Ахматова А. Избранное. Л., 1977. С. 542–543.
[Закрыть]. Рядом с Пушкиным романтических поэм, декабристской лирики и сатиры все выше вырастает в нашем сознании поздний Пушкин, для которого главенствующим становится пафос мироприятия. Взглянем только на самые характерные лирические стихотворения Пушкина 1830-х годов – в них можно выделить один варьирующийся, по сути, центральный мотив – стыда, смирения, раскаяния, самоограничения. «Эхо» – о всеотзывчивости, всевосприимчивости поэта, не требующего воздаяния своему «я» в виде встречного отклика. «Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем…» – с пронзительным признанием: «О, как милее ты, смиренница моя!» – даже в любви смирение предпочитается исступленному требованию, чувственному неистовству. «Красавица» – тут красота достигает такого ослепительного совершенства, что стыдится самое себя: «Она покоится стыдливо в красе торжественной своей». «Осень», где Пушкин признается в любви ко всему вянущему, угасающему, «прощальному», к тишайшей и стыдливейшей поре года с ее «красою тихою, блистающей смиренно». «Не дай мне бог сойти с ума…», где безудержная романтическая воля, «пламенный бред» отождествляется с сумасшествием. «Пора, мой друг, пора…» – здесь горделивая мечта о счастье уступает место скромной потребности покоя. «Полководец», где Пушкин делает своим героем не Кутузова – победителя Наполеона, а Барклая-де-Толли, кому выпала участь руководить отступлением русской армии и сносить ропот и недовольство окружающих, смиряясь с роковым жребием. «Странник», герой которого «подавлен и согбен» предчувствием тяжкой кары и необходимостью раскаяния. «Вновь я посетил…», где Пушкин приветствует «племя младое», приходящее ему на смену, и находит сладость в своей «покорности общему закону» расцвета и увядания. «Отцы пустынники и жены непорочны…», в котором поэт молитвенно призывает к себе «дух смирения, терпения, любви…». Наконец, стихотворение «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» Пушкин завершает призывом к Музе быть послушной веленью Божьему.
Со времени официозного, «государственного» празднования столетнего юбилея «без Пушкина» в 1937 году сменилось несколько этапов его восприятия. В 1930–1950-е годы Пушкин – бессмертный классик, золотой монумент русской поэзии, образец гармонии и нерушимая норма эстетического совершенства. Поэт был прочно закован в монумент собственной славы и сверхчеловеческого величия.
Затем его образ стал «очеловечиваться», распространилось новое, более живое, доходящее порой до «свойскости», фамильярности отношение к Пушкину[19]19
По терминологии В. Непомнящего, это «сентиментальная» модель подхода к Пушкину, сменившая «мемориальную». Образец такого «вольного» подхода: «Мне дорог Пушкин, каким он был, – грешный, лохматый, веселый, трагичный, злой, несгибаемый… верный, влюбчивый, непостоянный». (Новый мир. 1974. № 6. С. 251).
[Закрыть]. Поэт представал этаким озорным повесой, символом внешней раскрепощенности – в духе молодежных повестей и стихов 1960-х годов. Это был «оттепельный» идеал раскованности, непринужденности, снятия всяких церемониальных зажимов. Вот как писал тогда Е. Евтушенко: «О, баловень балов / и баловень боли. / Тулупчик с бабы – / как шубу соболью». Дальше там – «звон и азарт», Пушкин вина, кутежей, вольной жизни. Молодой Пушкин, не благостно-чинный и неприступный певец вольности в лавровом венке, а свободный, шутливый, разгульный, карнавальный, народный, в окружении пирующих друзей, среди цыган, на ярмарке и т. д. – примерно таково было восприятие Пушкина в 1960-е годы (второй этап).
Но вот наступили 1970-е, и образ Пушкина окрасился в новые, менее яркие, но более глубокие и сдержанные тона. Не столько политическое вольномыслие и жизненное эпикурейство, сколько своеобразный нравственный стоицизм стал привлекать в Пушкине. Умение переносить тоску и тяготу жизни, одолевать долгие приступы хандры[20]20
«Скучно, моя радость! вот припев моей жизни», – пишет Пушкин А. Дельвигу в 1823 году (Т. 9. С. 75). И таких признаний, особенно в последние годы, у него много.
[Закрыть], смиряться с неизбежным – и тем самым возвышаться над ним… Если перенести на самого поэта сказанное им о двойственности русской песни, то в восприятии Пушкина на рубеже 1960–1970-х произошел перепад от одного полюса к другому: от «разгулья удалого» – «к сердечной тоске». Пушкин воспринимается как пример не столько раскрепощения всех жизненных сил, сколько сохранения их на том пределе, где жизнь становится тягостной и невыносимой и все-таки требует: живи! Пушкин – то, что остается после всех утрат, то, чего нельзя отнять, последнее утешение. «Есть еще опушки, где грибов не счесть. / Есть Россия, Пушкин, / наши дети есть», – пишет Е. Евтушенко, для которого Пушкин – уже не хлопанье пробок и брызжущая пена молодого вина, а то, что остается на самом дне жизни, последняя, уже не пьянящая, но отрезвляющая после праздника капля. «Осенняя ясность ума и печальная трезвость рассудка» – вот чему в первую очередь сопереживает у Пушкина и О. Дмитриев. То же – у Гл. Горбовского: «Чуть подтаяли силы, / не ропщу, не корю: / „Пушкин есть у России!“ – / как молитву творю». Тут имя Пушкина знаменует не избыток сил, хлещущих через край, но нижний предел, первооснову жизни как терпения и надежды.
Четвертый этап был ознаменован «Прогулками с Пушкиным» Андрея Синявского / Абрама Терца. Написанная в 1966–1968 годах в Дубровлаге, книга была опубликована на Западе в 1975 году, а в России в 1989-м и вызвала скандал и в кругах русской эмиграции, и на родине. Если до того России был известен Пушкин – «дитя гармонии» (А. Блок), «обличитель тирании и провозвестник светлого будущего» (А. Твардовский), «христианин, познавший мудрость смирения» (В. Непомнящий), то в истолковании Синявского Пушкин – пустейший малый, циник и ветрогон, который с самим Хлестаковым на дружеской ноге. Если роман «Евгений Онегин» и есть «энциклопедия русской жизни», то лишь в том смысле, что энциклопедия, как правило, состоит из общепринятых мнений, сокращенных выжимок и цитат – ничего оригинального, своего, «лексикон прописных истин» и «салонное пустословие». Весь роман – попытка уклониться от написания романа, система уверток и «отступлений», где автор, по его собственному признанию (в письме к А. Бестужеву), «забалтывается донельзя». Как образно доказывает Синявский, «роман утекает у нас сквозь пальцы… он неуловим, как воздух, грозя истаять в сплошной подмалевок и, расплывшись, сойти на нет – в ясную чистопись бумаги»[21]21
Абрам Терц (Синявский А.). Собр. соч.: В 2 т. М., 1992. Т. 1. С. 383.
[Закрыть].
И – совсем уже грозное обобщение, где национальная святыня и «наше всё» приравнивается к упырю: «Пустота – содержимое Пушкина. Без нее он был бы не полон, его бы не было… Любя всех, он никого не любил, и „никого“ давало свободу кивать налево и направо… <…> В столь повышенной восприимчивости таилось что-то вампирическое. Потому-то пушкинский образ так лоснится вечной молодостью, свежей кровью, крепким румянцем… вся полнота бытия вместилась в момент переливания крови встречных жертв в порожнюю тару того, кто, в сущности, никем не является, ничего не помнит, не любит…»[22]22
Там же. С. 372–373.
[Закрыть] Очень жутко и ново – хотя и вспоминается, что Достоевского восторгала именно «всемирная отзывчивость» Пушкина, который, как никто из мировых поэтов – не сравнимо с Шекспиром и Шиллером, – умеет перевоплощаться в характеры и атмосферу других народов. «Ведь мог же он вместить чужие гении в своей душе, как родные» – призрак вампира уже витает над этой благоговейной фразой. То, что у Достоевского звучит беспримерной хвалой, у Синявского – разоблачение гения российской переимчивости, который ухитрился обчистить все закрома европейской словесности, до отвала насытиться чужой кровью. Это ли не творческий вампиризм? И если Пушкин есть откровение о всемирном призвании и отзывчивости русской души, то вывод Синявского отдает еще большим кощунством: как разоблачение кровососной, «подражательной» сущности целой культуры-упыря, разметнувшейся на шестую часть света.
Итак, в восприятии и по поручению своих благодарных потомков Пушкин легко входил в любую роль: певца русского государства и провозвестника русской свободы, друга царя и друга бунтовщиков, мятежного вольнолюбца и смиренного христианина, народного пророка и сторонника чистого искусства, пылкого любовника и заботливого семьянина, мечтательного романтика и трезвого реалиста. Крылатую фразу Аполлона Григорьева Синявский мог бы переиначить: «Пушкин – наше ничто».
Творимая легендаК сожалению, пока нет науки, изучающей реальные исторические личности как героев национальных легенд. Речь идет о своеобразной мифологии, только не пришедшей к нам в готовом виде из доисторических времен, а той, которая складывается на исторической почве и в создании которой мы сами принимаем непосредственное участие – как звенья в цепи национальной памяти, дополненной идеализирующим воображением. Тот факт, что в России не сложилась (или была рано утрачена, дошла в крайне разрозненных фрагментах) система дохристианской мифологии (в отличие от древнегреческой, индийской, германской), активно влияет на процесс образования новой, современной мифологии, включающей в свой сакральный контекст много исторических фигур. Писателям и в особенности лирическим поэтам суждено занимать в этом национальном пантеоне исключительно важное место.
Почему же именно о лирических поэтах складываются легенды – гораздо чаще, чем о прозаиках или драматургах? Миф, по определению, – это неразличимый сплав фантазии и реальности, это образ, переживаемый как факт. Но именно таков и лирический поэт, которого трудно бывает отделить от героя его стихов. В лирике авторское «я» и «я» персонажа причудливо совмещаются и переливаются друг в друга, тогда как у эпика или драматурга они четко разделены самой манерой повествования или изображения в третьем лице.
Сближение в первом лице реального автора и вымышленного героя свойственно именно лирике, поэтому лирическая личность потенциально мифологична, принадлежит одновременно и миру действительности, и миру воображения. Эпик может рассказывать мифологические сюжеты (Гомер), лирик же сам становится мифологическим персонажем (Орфей). Любовник, бродяга, пророк, мятежник – лирик сам есть все то, о чем эпик только повествует. Поэтому образы поэтов в сознании потомства неотделимы от образов их поэзии. Они творят не только стихи, но и самих себя как некое целостное, мифо-синкретическое единство. И чем крупнее поэтическая судьба, тем менее принадлежит она одной лишь истории и тем более универсальный и символический образ ее складывается в сознании народа.
Необходимость такого «мифологического» подхода к истории литературы особенно остро ощущается в пушкиноведении[23]23
Отсюда и такое явление, как «народное пушкиноведение», фольклорное начало, вносимое в саму науку о Пушкине. См.: Непомнящий В. Поэзия и судьба. М., 1983. С. 38–42. Вообще в этой книге, особенно в главе «Народная тропа», глубоко осмыслены многие решающие черты пушкинского мифа.
[Закрыть]. Каждым поворотом своей судьбы и каждой гранью мироощущения Пушкин надолго предопределил те формы, в которые отливается субстанция национальной души. Пушкин и море[24]24
См.: Цветаева М. Мой Пушкин. М., 1967. С. 98–104.
[Закрыть] – это русское, тоскующе-взволнованное отношение к стихии. Пушкин и Михайловское – образ творческого уединения, пустынность, смирение перед лицом смиренной природы. Пушкин и Петербург – восторг и смятение перед лицом великодержавного города, красота и холод царственного гранита. Пушкин и Лицей – навсегда вошедший в нас образ пожизненной дружбы, веселого и нежного братства. Пушкин и Булгарин – образ заклятой вражды. Пушкин и царь – дух в его осторожно-уклончивом, вольно-обходительном отношении к власти (свобода без бунта). Пушкин и няня – дух в его ласково-благодарном, приязненно-льнущем отношении к естественности и простоте народной жизни (любовь без идолопоклонства). Пушкин и декабристы – образец того, как поэзия относится к политической борьбе: нераздельно и неслиянно. Так можно было бы перечислять еще долго: Пушкин в дорожной кибитке, Пушкин у домашнего очага, Пушкин и первая русская красавица, Пушкин и русское отношение к смерти… – все, что из биографии конкретного человека выросло в ранг национального мировоззрения.
Особая тема – пушкинское окружение, его друзья. Подробности их конкретного облика стираются в обобщающей памяти потомков, и остаются лишь четко очерченные индивидуальности, которые по отношению к центральности самого Пушкина выглядят односторонними. Он глава пантеона, все прочие участники которого воплощают отдельные качества Пушкина, оттеняя в то же время его многосторонность. Прекраснодушный, благожелательный, чистосердечный Жуковский – и циничный, коварный, искусительный А. П. Раевский. Безмятежный, ленивый Дельвиг – и предприимчивый, пламенный Рылеев. Рассеянный, чудаковатый Кюхельбекер – и хищный, ловкий Ф. Толстой-«американец». Высокоумный наставник, идеальный, философический друг Чаадаев – и услужливый помощник, преданный, «чернорабочий» друг Плетнев[25]25
Еще раз подчеркнем, что характеристики, данные в этой главе русским поэтам и их современникам, относятся не к историческим лицам, а к их мифологическим образам, которые реконструируются из самых распространенных, общепринятых представлений, почти как элементы фольклорного сознания.
[Закрыть]. Элегический Баратынский, эпиграмматический Вяземский, идиллический Дельвиг, одический Рылеев – все они в пушкинской легенде контрастны друг другу, оттеняя своим своеобразием жанровое, психологическое, биографическое многообразие главного героя, высшего божества русского Олимпа.
Тут мы имеем дело с весьма целенаправленной, познавательно-творческой сущностью легенды, которая отбирает только то, что входит в систему логических противопоставлений, «оппозиций». С точки зрения конкретно-исторической, тот или иной человек (лицо из пушкинского окружения) замечателен своей неповторимостью, индивидуальностью, но эта же самая особенность с точки зрения мифологической есть лишь персонифицированное проявление общих качеств, олицетворенное понятие. Жуковский – сама «ангеличность», Раевский – «демоничность» и т. п.: общее в форме единичного. Именно эта обобщенность данных фигур помогает им сохраниться в памяти, не затеряться в массе индивидуальностей, которые беспрестанно порождает и поглощает история. Миф – строгая логика, только вживленная в лица и от них неотъемлемая: мыслительные универсалии, обретшие плоть конкретных личностей. По сравнению с историей мифология абстрактна, по сравнению с логикой – конкретна, она есть нерасчлененность того и другого или опыт их соединения. Древний миф зарождается до того, как общее в мышлении обособляется от единичного, – и возрождается затем уже как попытка их примирить, логически переработать историю, сохраняя в то же время за обобщениями живую наглядность, олицетворяя их в образах. Индивидуальность данного лица в легендарном сознании потомков сводится к выражению некоего общечеловеческого свойства, олицетворению нравственной или психологической категории. Конечно, при таком подходе история должна многим жертвовать легенде, упрощающей сложность и богатство конкретных личностей, ведь даже Булгарин – отнюдь не только продажность и доносительство, это еще и дружба с Грибоедовым, и остроумие, и нравоучительство, и занимательность, и деловитость; но такова неизбежная дань, которую историческая реальность должна платить мифологизирующему сознанию, чтобы ценою многих утрат донести до потомков самые резкие и однозначные свои черты. Личности, не поддающиеся такой обедняющей схематизации, часто, увы, обречены на забвение.
Дело, конечно, не в том, что сами по себе люди, окружавшие Пушкина, были односторонними, – нет, в своей собственной сфере они тоже могли бы рассматриваться как центры, от которых отходят многочисленные «односторонние» радиусы. Все дело – в степени, и «центрирующая» способность Пушкина оказалась, по-видимому, наибольшей, так же как и его наклонность мифологизировать окружающих, то есть усиливать и доводить до резкости те или иные стороны их характеров. Исследователи пушкинской переписки давно обратили внимание на то, что поэт обычно перенимает тон и манеры своего адресата, как бы фильтрует и концентрирует своеобразные черты, присущие собеседнику, и преподносит их ему самому в сгущенном виде. «Письма к Нащокину отличаются простодушием, даже наивностью; к Чаадаеву – сложностью, изощренной интеллектуальностью; к К. Собаньской – романтическим мистицизмом, кстати, больше нигде у Пушкина не встречающимся; к Мансурову, Алексею Вульфу – циническим легкомыслием; к Алексееву – меланхолическим дружелюбием и т. д.», – пишет И. Семенко в комментарии к пушкинской переписке[26]26
Пушкин А. Собр. соч. Т. 9. С. 373.
[Закрыть]. Следовательно, сам Пушкин в какой-то мере создавал вокруг себя систему легендарных образов, впоследствии все глубже укоренявшуюся в исторической памяти. В письмах Гоголя, Достоевского, Л. Толстого нет этой концентрации образа адресата, здесь автор остается прежде всего самим собой, в отдельности и мощной «самостности» своего мировоззрения. Все одушевлялось вокруг Пушкина, получало от него свою меру и определенность и, в свою очередь, очерчивало грани его универсально-подвижного, гармонического облика.
Только с одним из своих друзей, пожалуй, Пушкин «соразмерен» – с Пущиным, который в нашем сознании – такая же всесторонняя, точнее, не наделенная заметной крайностью личность, как и сам Пушкин. Пущин – это наиболее полное и чистое воплощение самой идеи дружбы. Недаром к нему обращено пушкинское «Мой первый друг, мой друг бесценный», и Пушкин никогда, насколько известно, не опредмечивал Пущина, не подмечал каких-либо его отдельных выделяющихся свойств, как это делал в отношении даже таких близких друзей, как «ленивец» Дельвиг или «кюхельбекерный» Кюхельбекер. Пущин в нашем восприятии – второе «я» Пушкина, его близнец и почти что однофамилец. Сходство фамилий, безусловно, сильно стимулирует сближение Пущина с Пушкиным в нашем восприятии; идея дружбы, духовного родства обретает здесь адекватное звуковое воплощение. В мифе не может быть ничего случайного: каждая конкретность получает смысловое объяснение как закономерность. В случае с Пушкиным и Пущиным происходит тот же процесс корневого сближения имен – так требует логика легенды.
Хрестоматийными стали для нас с раннего детства образ Арины Родионовны и пушкинское отношение к ней. Во многом это центральный образ всей пушкинской биографии[27]27
Эта тема подробно и глубоко раскрыта в упомянутой книге В. Непомнящего. С. 76–86.
[Закрыть], хотя сам поэт, любивший няню, все-таки вряд ли придавал ей такое принципиальное значение в своей жизни, какое обрела она в нашем восприятии. В чем же причина такого гигантского возрастания этого образа? Все связи Пушкина, как и любого другого человека, можно разделить на дружеские, официальные, эротические, родственные, профессиональные, сословные… Но няня не укладывается в эти «рубрики»: она ни в каком отношении не была Пушкину ровней. То, что испытывал к ней Пушкин, что их связывало, – внеэротическая нежность, внеидейная дружба, внесоциальная общность, внекровное родство. Вот почему так значимо отношение к ней поэта – образ чистейшей человечности, свободной от всего, что делит ее на части, распределяет людей по группам – биологическим, идейным, социальным и т. д. В пушкинском отношении к няне менее всего сказалась та специализация, которая разделяет мир взрослых. Поэтому закономерно, что эта целостность была взята поэтом из детства и удивительно надолго им сохранена. Няня у 26-летнего Пушкина – та самая няня, которая убаюкивала его в колыбели: тут какая-то поразительная преемственность, сбереженная поэтом со времен младенчества. Целостность Пушкина, о которой мы говорили выше, целостность, контрастно выступающая на фоне односторонности его друзей, – здесь, в образе няни, положительно обнаруживает себя как продленное детство.
Даже гибель Пушкина, трагически безвременная, стала легендарной, осветив своим смыслом раннюю обреченность других русских поэтов – Лермонтова, Блока, Гумилева, Хлебникова, Есенина, Маяковского… Обрыв, недовершенность – вот что такое русский поэт, который пришел в мир, чтобы показать несовместимость поэзии и мира в таком обостренном противоречии, как у Пушкина, которого мир принимал тем меньше, чем больше поэзия его принимала и вбирала мир. Пушкин – первый, кто стихами своими, а главное – судьбой своей предопределил эту участь русской поэзии[28]28
Подробнее см. в главе «Возраст поэта».
[Закрыть].
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































