Текст книги "Поэзия и сверхпоэзия. О многообразии творческих миров"
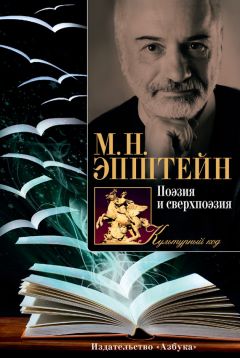
Автор книги: Михаил Эпштейн
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Творчество Мандельштама может быть понято как противоположное пастернаковскому, но в том же объеме и измерении культуры. Это интуитивно угадывалось современниками. Например, обоих поэтов сравнивали с экзотическими животными – обитателями того же ближневосточного мира, где расположена их общая историческая родина. У Мандельштама находили внешнее сходство с задравшим голову верблюдом. По наблюдению М. Цветаевой, «глаза опущены, а голова отброшена. Учитывая длину шеи, головная посадка верблюда. Трехлетний Андрюша – ему: „Дядя Ося, кто тебе так голову отвернул?“[70]70
Цветаева М. История одного посвящения // Цветаева М. Проза. Нью-Йорк, 1953. С. 173.
[Закрыть]. Таким же предстает Мандельштам в воспоминаниях Э. Л. Миндлина: «с тонким, крупным горбатым носом и очень независимо, почти вызывающе гордо поднятой головой»[71]71
Мандельштам О. Т. 2. С. 511.
[Закрыть]. Пастернака уподобляли арабскому коню – удлиненное лицо и стремительность в походке, жестах, словах. Опять Цветаева: «Внешнее осуществление Пастернака прекрасно: что-то в лице зараз и от араба и от его коня: настороженность, вслушивание, – и вот-вот… Полнейшая готовность к бегу. – Громадная, тоже конская, дикая и робкая роскось глаз»[72]72
Цветаева М. Световой ливень. Там же. С. 354.
[Закрыть].
Это не только физиогномические сравнения, хотя они подходят к облику обоих поэтов. Быть может, сами поэты являются символами прежде, чем они начинают создавать символы. По словам Пастернака, «человек достигает предела величия, когда он сам, все его существо, его жизнь, его деятельность становятся образцом, символом» («Что такое человек?», 4, 671). «Верблюд и арабский конь» – так эмблематически можно было бы передать соотношение поэтических походок Мандельштама и Пастернака: тяжелая, мерная, торжественная поступь верблюда – и порывистый, легкий бег арабского скакуна. Насколько Пастернак стремителен и непоседлив в строении всего своего поэтического существа, настолько Мандельштам размерен и усидчив.
Сходство с верблюдом распространяется дальше: у Мандельштама есть собственный горб, наработанный всей его позицией в мировой культуре, – горб человека, который всю свою жизнь сгибается над миром как над книгой, перелистывает и перечитывает ее без конца. Эта согбенная позиция талмудиста присуща всему поэтическому мышлению Мандельштама.
Как мы знаем из его довольно язвительных воспоминаний («Шум времени», глава «Хаос иудейский»), отец будущего поэта готовился к поприщу раввина, учился в высшей талмудической школе в Берлине. Потом он изменил своему наследственному призванию в пользу светской профессии и забросил все религиозные интересы, сохранив лишь в сухой своей русской речи, этом «косноязычии и безъязычии» – «причудливый синтаксис талмудиста» (2, 66, 67). Однако ирония крови, месть культурного бессознательного сказалась в том, что его сын стал величайшим талмудистом именно на светском поприще, превратив поэзию в своеобразную талмудическую дисциплину, кропотливое и законопослушное истолкование знаков мировой культуры. Культура выступает как священная книга, требующая все новых добросовестных комментариев и расшифровок.
В отличие от предыдущих русских поэтов, или пристальнее, чем кто-либо из них, Мандельштам смотрит на мир сквозь призму прежних истолкований. «Литературная грамотность», «поэтическая грамотность» – не просто часто повторяемые Мандельштамом выражения, но и основные его требования к таланту. В Данте он чтит «образованность – школу быстрейших ассоциаций», а также «клавишную прогулку по всему кругозору античности» и «цитатную оргию» («Разговор о Данте», 2, 367, 368). В цитатах, пронизывающих всю великую поэзию, Мандельштаму чудятся не простые заимствования, а воздух, дрожащий от гулкого диалога времен и культур. «Цитата не есть выписка. Цитата есть цикада. Неумолкаемость ей свойственна. Вцепившись в воздух, она его не отпускает» (2, 368). Цитата не чуждое вкрапление в текст, а состояние самого текста, гулко резонирующего со всей письменной реальностью, с миром всеобъемлющей Книги.
Писатель для Мандельштама – не столько оригинальный создатель, что вряд ли совмещалось бы с традиционным иудейским взглядом на Господа как Первотворца всего, – но скорее переводчик и толкователь некоего первичного текста. И своего любимого Данте, само имя которого символизирует безграничную мощь воображения, Мандельштам зачисляет всего лишь в ученики и переписчики какого-то изначального текста. «Им движет все, что угодно, только не выдумка, только не изобретательство. Дант и фантазия – да ведь это несовместимо! <…> Какая у него фантазия? Он пишет под диктовку, он переписчик, он переводчик… Он весь изогнулся в позе писца, испуганно косящегося на иллюминованный подлинник, одолженный ему из библиотеки приора» (2, 406).
Не в меньшей степени, чем характеристика Данте, это самохарактеристика Мандельштама, который сам «изогнулся в позе писца» над страницами мировой культуры. Разумеется, можно говорить о воздействии средневекового, монастырского письменного этикета на представление Мандельштама о творчестве, но сам этот этикет имеет ветхозаветное происхождение. По мысли Сергея Аверинцева, ранневизантийская метафорика «записи» восходит к древнееврейской и, шире, ближневосточной культуре, произведения которой «создавались писцами и книжниками для писцов и книжников». В этом отличие восточной традиции от собственно европейской, античной, в центре которой – свободный гражданин. «Пластический символ всей его жизни – никак не согбенная поза писца, осторожно и прилежно записывающего царево слово или переписывающего текст священного предания, но свободная осанка и оживленная жестикуляция оратора»[73]73
Аверинцев С. Поэтика ранневизантийской литературы. М., 1977. С. 188, 190–191.
[Закрыть]. У Мандельштама – именно «согбенная поза писца». Почти каждая его строка так или иначе соотносится с некоей главой и страницей в литературной антологии. Каждое стихотворение – надпись на полях Книги, род комментария: к Гомеру, Овидию, Данте, Оссиану, Эдгару По, Батюшкову, Пушкину, Баратынскому, Тютчеву или какому-то еще неизвестному, неразысканному, но предсуществующему источнику.
Мандельштам вообще изменил иерархию ценностей в русской поэзии. Если раньше для автора было почетно считаться первым, то теперь скорее последним – не открыть, а закрыть тему, предложив самую емкую ее интерпретацию, переложив ее на разные культурные языки. Мандельштам первым узаконил сознательную позицию вторичности в такой традиционной области высокого вдохновенья, как поэзия, «божественный глагол». Глагол и должен остаться божественным, а поэту важно провести его через все смысловые регистры, приспособить к чутью своей эпохи, ввести в очередной осязаемый пласт культуры. Искусство – это скорее цепкость восприятия, чем причуда самовыражения. «…Он учит: красота – не прихоть полубога, а хищный глазомер простого столяра» («Адмиралтейство»).
Среди авторов и течений, которые приобрели известность в 1980–1990-е годы, – метареалисты, концептуалисты, презенталисты, полистилисты – преобладает все та же установка на сознательную вторичность. Отсюда постоянный упрек в «книжности» – но должно ли это слово звучать как упрек? Это все то же мандельштамовское понимание творчества как самосознания культуры, как исследовательской и составительской работы с ее языком: с языком советской идеологии – у концептуалистов, с языками прошедших художественных эпох – у метареалистов, с языками новых наук и техник – у презенталистов и т. д. Цитатность, или то, что теперь называется интертекстуальностью, – способ существования текста среди других текстов, точнее, способ вобрать их в себя, воссоздать в микрокосме одного произведения. Это все та же губчатость поэтического вещества, которое не фонтанирует из собственных водоносных недр, как в «нутряном» творчестве, а «всасывает и насыщается» всей системой мировой культуры.
Таково заметное влияние Мандельштама, его врожденного талмудического ума на последующую русскую словесность: образование в ней растущих зон экзегетики и саморефлексии. «…Письмо под диктовку, списыванье, копированье» (2, 406). Стоит ли при этом оговаривать, что вторичность такого рода не только не исключает оригинальности, но яснее оттеняет ее на фоне уже сделанного в культуре? Когда художника призывают творить «из нутра», как бы «впервые», результатом чаще всего оказывается вопиющая банальность, первое попавшееся клише, что тонко отмечено, кстати, Пастернаком, в одной из записей Юрия Живаго: «Пастушеской простоте неоткуда взяться в этих условиях. Ее ложная безыскусственность – литературная подделка, неестественное манерничанье, явление книжного порядка, занесенное не из деревни, а с библиотечных полок академических книгохранилищ» (3, 481)[74]74
Значительно раньше эту вторичность «наива» подметил Тынянов в связи с некоторыми стихами Есенина: «Поэт, который так дорог почитателям „нутра“, жалующимся, что литература стала мастерством (т. е. искусством, – как будто она им не была всегда), обнаруживает, что „нутро“ много литературнее „мастерства“». Тынянов Ю. Промежуток // Архаисты и новаторы. Берлин, 1929. С. 546.
[Закрыть]. Когда же художник создает всего только «вариацию на тему» и отдает себе отчет в предыдущих ее трактовках, тогда-то новое истолкование имеет шанс стать подлинным открытием – в отношении к прежде созданному, в отталкивании от него: повторение – путь к неповторимому.
Не только культура, но и природа оказывается для Мандельштама особым языком и открытой страницей, испещренной надписями ручьев и скал. Вспомним «Грифельную оду» – это своего рода космогония, космография, представляющая мир в процессе его написания «свинцовой палочкой молочной». Мир сотворен Словом и пишется как Книга. Все стихии переданы в терминах учения, вся природа состоит в учениках, прилежно выводит громоздкие каракули, склонившись над тетрадкой обнаженных пород, врезая в нее глубокие письмена-морщины. Скалы – «ученики воды проточной», «им проповедует отвёс, вода их учит, точит время», «твои ли, память, голоса, учительствуют, ночь ломая», «ломаю ночь, горящий мел, для твердой записи мгновенной» и т. д. Разные стихии учатся друг у друга, и мироздание в целом учится у высшего закона, тяжесть которого ощущается в малейшей былинке. «Наважденья причин» нельзя миновать даже в случайных событиях, неизбежно цепляемых крючьями причин и следствий: «В игольчатых, чумных бокалах / Мы пьем наважденье причин, / Касаемся крючьями малых, / Как легкая смерть, величин…»
Все творчество Мандельштама, по собственному его выражению, есть «ученичество миров». Это типично раввинистический взгляд на мир, в котором все создано для учения, и поэт – самый прилежный и кропотливый из учеников: «И я теперь учу дневник / Царапин грифельного лета…» Вселенная оказывается родом ешибота, местом наибольшего усердия, погруженности в изучение закона. «И твой, бесконечность, учебник / Читаю один, без людей…»
Цветаева вопрошает: «Чего нет в Пастернаке? <…> Вслушиваюсь – и: духа тяжести! Тяжесть для него только новый вид действенности: сбросить. Его скорее видишь сбрасывающим лавину – нежели где-нибудь в заваленной снегом землянке стерегущим ее смертный топот»[75]75
Цветаева М. Световой ливень // Цветаева М. Цит. изд. С. 357.
[Закрыть].
Но именно то главное, чего нет у Пастернака, – это и есть Мандельштам:
Кому зима – арак и пунш голубоглазый,
Кому – душистое с корицею вино,
Кому – жестоких звезд соленые приказы
В избушку дымную перенести дано.
(Кому зима – арак и пунш голубоглазый…)
Или:
В плетенку рогожи глядели колючие звезды,
И били вразрядку копыта по клавишам мерзлым.
(Я буду метаться по табору улицы темной…)
Или:
Да, я лежу в земле, губами шевеля,
Но то, что я скажу, запомнит каждый школьник…
(Да, я лежу в земле, губами шевеля…)
Мандельштам – именно в «заваленной снегом землянке», именно «под смертным топотом», втаптывающим его в землю: под тяжестью закона, которым человек осужден и запечатан – и который он передает другим, как урок.
Если Пастернак постигает мир в образах свободной игры, то Мандельштам – строгого закона и тяжкого учения. Поэтому и космос Мандельштама полон «недобрых тяжестей», застывших стихий. Мир у него не рассыпается на искры, а залегает твердым, слежавшимся пластом. Здесь преобладает земля и камень, любимая стихия поэта, потому что самая исполнительная, послушная закону, нерушимо блюдущая волю Создателя. И все у Мандельштама становится камнеобразным или землеобразным: «песок остывает согретый», «роза землею была», стихии сгущаются – «словно темную воду я пью помутившийся воздух», «тяжелый валит пар», «известковый слой в крови больного сына твердеет», осы сосут вместо капель нектара – «ось земную»…
Это отяжеление стихий, переход их в иное состояние вещества, оплотнение, отемнение, перегрузка – едва ли не основной закон поэтики Мандельштама. Особенно примечательно, что воздух, самая легкая и подвижная из стихий, оказывается у Мандельштама статуарным, похож более на дерево или на башню, чем на воздух. «Воздуха прозрачный лес», «в прозрачном воздухе, как в цирке голубом» и т. д. Воздух не движется, не переходит в ветер или в бурю. Кажется, ни разу у Мандельштама не взыграла вьюга, метель, что так свойственно русской пейзажной образности.
Кстати, если мы обратимся к образам зимы у Пастернака и у Мандельштама, то контраст станет особенно наглядным. Зима, естественно, выходит за пределы и хасидского, и талмудического воззрения, поскольку это явление другой национальной природы, но и здесь мы обнаруживаем ясную разницу двух поэтических мироощущений. Зима у Мандельштама, как правило, предстает твердой, словно алмаз, тяжелым настом ложится на землю, издавая короткий и страшный хруст: «…Все космато – люди и предметы, / И горячий снег хрустит» («Чуть мерцает призрачная сцена…»); «Пусть люди темные торопятся по снегу / Отарою овец, и хрупкий наст скрипит…». «Белый, белый снег до боли очи ест» – этот снег пропитан белизной судьбоносных звезд, неподвижных и жестоких, как закон («Кому зима – арак и пунш голубоглазый…»). И в другом стихотворении, «1 января 1924», Мандельштам связывает зиму с законом: «…По старине я уважаю братство / Мороза крепкого и щучьего суда». Крепкий мороз – иск и приговор: законническое представление о природе как о суде над человеком.
У Пастернака, наоборот, зима – это холодные искорки, кружащиеся хлопья, «белые звездочки в буране». «Как летом роем мошкара / Летит на пламя, / Слетались хлопья со двора / К оконной раме» – стремительное мельтешение мельчайших воздушных частиц, образующих мягкие, тканые узоры. Зима то «вяжет из хлопьев чулок», то «в заплатанном салопе» спускается с небес, то свисает «занавеса бахромой» – одним словом, входит в разряд «материй, из которых хлопья шьют».
…Снег идет, и все в смятеньи,
Все пускается в полет:
Черной лестницы ступени,
Перекрестка поворот.
(Снег идет)
В этом движении зимы чувствуется бесшабашный жест и прыгающая походка веселого чудака из еврейского фольклора. Наконец, если у Мандельштама «в ледяных алмазах струится вечности мороз» («Медлительнее снежный улей…»), то у Пастернака снегопад уподобляется бегу мгновений: «с той же быстротой, может быть, проходит время» («Снег идет»). Повсюду в образах зимы явственно различие закона и причуды, вечности и времени, наста и хлопьев как метафор талмудического и хасидского мироощущения.
Обоих поэтов влечет Закавказье – та часть их географической родины, Российской империи, которая расположена ближе всего к их исторической родине, Иудее. Не поднебесной стеной встающий Кавказ, греза романтиков, но обитаемая, обжитая земля на нем и за ним, чуть-чуть доступная весть о немыслимой Палестине. «…Земля армянская, эта младшая сестра земли иудейской» («Четвертая проза», 2, 183). И опять – две поэтические родины, как две религиозные традиции. Неоднократно уже отмечалось, что Пастернак всем складом своего дарования тяготеет к Грузии, а Мандельштам – к Армении. Одна страна «куролесит», курчавится лесной мелочью, среди которой «дышал и карабкался воздух, грабов головы кверху задрав». Другая – «орущих камней государство», «книжная земля», «пустотелая книга черной кровью запекшихся глин». Грузия зеленеет, легко искрится и пенится, как радость хасида. Армения желтеет, втоптанная в свои мертвые глины, как скорбь и тяжесть закона.
Мандельштам, в отличие от импрессионистически возбудимого и возбуждающего Пастернака, обращается главным образом к интеллектуальному уровню восприятия. Но это не означает, что он философский поэт в том смысле, в каком философскими поэтами были Баратынский, или Тютчев, или Заболоцкий. Обычно мы уравниваем интеллектуальность и философичность в литературе, не замечая существенной разницы. Библейско-талмудическая традиция знает мудрецов и утонченнейших интеллектуалов – но не философов в античном смысле слова. Философский род познания, как известно, восходит к греческой языческой мудрости, тогда как Мандельштам, несмотря на многократно заявленную любовь к эллинизму, все-таки внутренне ближе иудейской духовной традиции.
Что же это такое: интеллектуализм, чуждый философичности? Это интеллектуализм не обобщающего суждения, а уточняющего истолкования. Поэтический ум Мандельштама далек от обобщений того философского типа, какие мы встречаем у Баратынского или Тютчева, – далек от медитации, афоризма, максимы, типа «Мысль изреченная есть ложь» или «Природа знать не знает о былом…» (Тютчев). Даже там, где Мандельштам внешне произносит общее суждение, он дает лишь частную, сужающую интерпретацию более широкого явления.
Сопоставим два очень похожих четверостишия о природе.
У Тютчева:
Природа – Сфинкс. И тем она верней
Своим искусом губит человека,
Что, может статься, никакой от век
Загадки нет и не было у ней.
(Природа – Сфинкс. И тем она верней…)
У Мандельштама:
Природа – тот же Рим, и отразилась в нем.
Мы видим образы его гражданской мощи
В прозрачном воздухе, как в цирке голубом,
На форуме полей и в колоннаде рощи.
(Природа – тот же Рим, и отразилась в нем…)
Казалось бы, эти высказывания сходятся во всем: не только по теме «природа», но и по структуре – «природа есть то-то…», и по топике – подбору античных имен собственных. «Природа – Сфинкс…», «Природа – тот же Рим…» Но здесь и заметна тонкая разница. Тютчев пытается решить глубинную загадку природы, Мандельштам описывает ее в образах римской цивилизации. У Тютчева – размышление философского порядка: что есть природа, какова ее сущность? У Мандельштама – никакого обобщения, только перевод с одного языка на другой, с языка природы на язык культуры. Он интерпретатор природы как текста, а не философ природы как сущности.
Такова разница между философским разумом и талмудическим интеллектом: оба концентрируются на процессе понимания, но если философское устремляется от конкретного к общему («это есть то»), то талмудическое – от общего к конкретному («то проявляется через это»). Сущность открыта только Господу, поэтому объяснение должно быть не более общим, чем поясняемое, а более частным. У Тютчева – натурфилософское умозрение, указание на общие свойства природы: «губит человека», «загадки нет и не было у ней». У Мандельштама, наоборот, римская цивилизация более конкретна, чем природа, которая переводится на язык «гражданской мощи» – «цирка», «форума», «колоннады»… По той же самой причине Талмуд более детален, чем Тора, которая в нем толкуется. Задача – не высказывать истину, а толковать сказанное о ней.
* * *
Напрашивается вывод. Как пастернаковская поэзия является не столько христианской, сколько хасидской, – так и мандельштамовская поэзия является не столь философской, сколь талмудической. Безусловно, и христианско-этическая, и антично-философская традиции привходят в творчество Пастернака и Мандельштама, но при этом контрастно выявляется их несоответствие этим традициям, их близость – чаще всего неосознанная – традициям еврейской духовности.
Сергей Аверинцев в статье «Судьба и весть Осипа Мандельштама» проводит краткое сопоставление его с Пастернаком по линии «абстрактное – конкретное»: «Если мы вспомним аристотелевское деление признаков на сущностные и случайные («субстанциальные» и «акцидентальные»), то поэзия Пастернака – убежденное уравнивание случайного с сущностным и постольку апофеоз конкретности… напротив, поэзия Мандельштама идет путем поступательного очищения субстанции от случайных признаков, продолжая в этом отношении импульс символизма, хотя сильно его модифицируя»[76]76
Аверинцев С. Поэты. М., 1996. С. 213.
[Закрыть]. Представляется, однако, что «аристотелевское» да и какое-либо иное бинарно-логическое противопоставление двух поэтов в рамках философских универсалий или «типов мировоззрения» само по себе недостаточно, поскольку проходит мимо того языкового и культурно-религиозного наследия, внутри которого они и становятся конкретно и исторически различимы.
Каково же конкретно-жизненное, биографическое основание этих двух творческих интуиций, внесенных через Пастернака и Мандельштама в судьбу русского языка, русской культуры?
По словам крупнейшего историка С. М. Дубнова, «на Северо-Западе царила раввинистическая схоластика и общественную жизнь определяла каста ученых, застывшая в понятиях талмудического Вавилона… Иначе обстояло дело в Подолии, Галиции, Волыни, на Юго-Западе вообще. Здесь еврейские массы находились гораздо дальше от источников раввинистической науки и освободились от влияния ученого-талмудиста. Если в Литве сухая книжная ученость была неотделима от набожности и благочестия, то в Подолии и Волыни она не удовлетворяла религиозных стремлений простых людей. Они нуждались в таких верованиях, которые были легче для понимания и обращались больше к сердцу, чем к разуму»[77]77
Simon Dubnow. History of Jews in Russia and Poland from the Earliest Times until the Present Day. Philadelphia // The Jewish Publication Society of America. Vol. 1. 1916. Р. 221–222.
[Закрыть].
Возможно, сказалось и общее влияние южного, более стихийного и открытого уклада жизни, с одной стороны, – северного, более замкнутого и созерцательного, с другой. Так или иначе, эти два движения, приходящие с Севера и с Юга, обнаруживают историческую подоплеку двух видов еврейской духовности, проникшей через «северянина» Мандельштама и «южанина» Пастернака в русское словотворчество.
В конце концов, как передаются все эти влияния рода и прародины, даже если они минуют сознательную жизнь и воспитательное окружение? Почему «графинечка» Наташа Ростова, обученная французским танцам, вдруг, оказавшись в деревне у своего дядюшки, неожиданно для всех и даже для себя поплыла в русском танце? Как усваивается эта особая пластика, жест или речевая манера?
Вопрос столь же ясен, сколь и неразрешим. В рассуждении о родовых корнях поэзии вряд ли нам дано пойти дальше, чем свидетельство самого поэта. «Как крошка мускуса наполнит весь дом, так малейшее влияние юдаизма переполняет целую жизнь. О, какой это сильный запах!» – передает Мандельштам раннее, почти безотчетное, обонятельное впечатление от своего «настоящего еврейского дома» («Шум времени», 2, 56). И особо – о родном языке, которому учился, не обучился, но зато наслушался вдосталь: «Речь отца и речь матери – не слиянием ли этих двух речей питается всю долгую жизнь наш язык, не они ли слагают его характер?» («Шум времени», 2, 66).
…Так образовались эти два феномена русской поэзии: ее величайший хасид Пастернак и ее величайший талмудист Мандельштам.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































