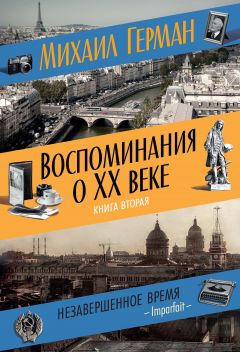
Автор книги: Михаил Герман
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Сколько угодно мог я тешить свое мелкое честолюбие, но полгода потрачено зря, книжка приказала долго жить, денег в доме не стало. Все, что чудилось моим богатством и преимуществом, – две толстенькие книжки, поездка в Париж – сделало меня слишком самодовольным и еще более беспомощным. Писать по-старому не получалось, новой, своей интонации – не было. Я бросился исполнять другое свое обязательство, которое подсознательно откладывал, – с московским «Искусством» у меня был договор на книжку о Ватто. Там недавно открыли новую серию «Жизнь в искусстве», и добрейший Александр Абрамович Каменский меня порекомендовал, благо книжки мои ему нравились.
Вот тут-то вся моя детская самонадеянность вкупе с непереваренным опытом первых двух книг и любовью к изящному слогу жестоко мне отомстили.
Так невыносимо красиво я не писал еще никогда.
«Итак, читатель, зажжем восковые свечи перед картинами Антуана Ватто. Пусть их огни, вздрогнув в старом лаке…»
Этой фразой я начал первую главу еще одной моей несостоявшейся книжки: Булгаков совершенно овладел моим воображением.
Еще в 1962-м, когда «Домье» был в типографии, в серии «ЖЗЛ» вышла его книга «Жизнь господина де Мольера».
Были, конечно, ученые, знавшие о Мольере больше, чем Булгаков, не все книги и тем паче архивы были ему доступны. Но он умел отовсюду – и из собственного воображения, конечно, – извлекать такие фейерверки живых подробностей жизни Мольера и его времени, которых ни в одном архиве сыскать было немыслимо. Могучая интуиция придавала его перу некую отважную грацию: его догадки порой убедительней исторических фактов.
«Жизнь господина де Мольера» привела меня в восторг и погрузила в тоску – впервые я почувствовал, что жизнеописание может быть гениальной литературой. Свободной, виртуозно написанной, с собственной неповторимой интонацией. Понял, что вовсе не степень эрудиции, знакомство с архивами или даже путешествие во Францию определяют удачу автора – Булгакова за границу так и не пустили, – а талант, только талант, интуиция, блеск пера и опять-таки свобода, способность писать, ни на что не оглядываясь, доверяя лишь собственному божественному дару. Понял не до конца, но ощущение собственной малости стало меня мучить.
Когда я увидел, насколько моя книжка с первых строк (оказывается!) стилизуется под булгаковскую «Жизнь господина де Мольера», я впал в смятение. В оправдание я взял оттуда эпиграф, так сказать, «открыл прием»: «Передо мной горят восковые свечи, и мозг мой воспален». Ничего не помогло. Какие-то мысли, суждения, даже обороты получались, я чувствовал: раньше я так писать не умел. Но я еще не мог написать так большой текст, это были только проблески, догадки. Я словно бы подпрыгивал высоко, но удерживаться на высоте не мог. Случай, тогда воспринятый мною трагически, мне помог: я затянул работу, со мной расторгли договор, хотя рукопись, буде я напишу ее, готовы были рассматривать и публиковать. Без договора я писать не решился, но, вероятно, в глубине души успокоился, хотя все это в рассуждении моих материальных дел грозило настоящей бедой.
В сущности, мне повезло. В тридцать три года писать о Ватто мне было рано, напиши я, поднатужившись, книжку, получились бы такие розовые сопли, что стыда бы не обобрался. Книгу о Ватто написал я через десять лет, может быть, одну из своих лучших книжек, скорее всего, и потому, что помог первый скорбный опыт.
Тогда же – полный крах. Две книги не состоялись, сильные сомнения касательно собственной одаренности и удачливости зрели в сознании, денег нет, большие долги. А тут еще, понадеявшись на грядущие гонорары и воспользовавшись случаем, в июне 1967-го я съездил в Англию.
Лондон’67. После путешествия во Францию миновало два года, и меня «пустили», хотя я уже был разведен с женою: «компетентные органы», как на ухо рассказали мне в нашем иностранном отделе, долго кряхтели и интересовались подробностями. Но добрые тетки из Союза художников объяснили «куратору», что я разошелся с женою, поскольку был «кабинетным ученым» и жена со мною скучала. Легенда понравилась, и меня амнистировали.
Ощущение Запада и цивилизации уже не было таким ошеломляющим, как два года назад, да и интерес к Англии был хоть и восторженный, но не столь заповедный и мучительный, как парижский – детский и мушкетерский. Я видел больше обыденных подробностей, смотрел на них чуть более спокойно.
И Диккенс, и Артур Конан Дойл, и ожидаемые страстно музеи отступили как-то перед иным, но пронзительно важным: надменная чистота пустоватых вечерами аристократических «клубных» улиц, разлитый в Вест-Энде неотделимый от богатства комфорт, отличная, веками отшлифованная цивилизация, устойчивый и почему-то печальный порядок, открытость города миру – вероятно, из-за непрерывно пролетавших над Лондоном самолетов и бесчисленных, подавляюще роскошных витрин невиданных авиакомпаний.
Даже пожарные, корректно курившие в густеющих синих сумерках перед чистой своей казармой, в которой поблескивали могучие темно-красные машины, казались интеллигентными, изысканными, а они просто были отменно выбриты, спокойны, их черно-лазоревая, с непривычным синтетическим блеском униформа была скроена с особой функциональной элегантностью, высокие вороненые каски почти походили на шелковые цилиндры. Да что пожарные, мне кажется, если бы города брились, как люди, про весь тогдашний Лондон (Вест-Энд, разумеется), с его холеностью и лоском, можно было бы сказать, что он выбрит до шелкового блеска и пахнет дорогим афтершейвом фирмы «Yardley».
И даже тихие, сияющие в гигантских светлых витринах автомагазинов машины – выбирай любую – с ценами в диккенсовских гинеях[8]8
До начала 1970-х в Англии сохранялась старинная денежная система: в фунте – 20 шиллингов, в шиллинге – 12 пенсов; были еще кроны – 5 пенсов и полукроны – 2,5 пенса. Гинеи (21 шиллинг) существовали лишь теоретически: в них исчислялись гонорары и цены дорогих вещей. Соверены – золотые монеты достоинством в один фунт – практически уже вышли из обращения.
[Закрыть] чудились умытыми и надушенными на ночь.Двухэтажные огромные красные автобусы, тяжелые, бесшумно-стремительные; такси марки «Остин», чем-то неуловимо напоминавшие кебы; невиданного прозрачно-изумрудного оттенка трава, кустарники, листва деревьев в парках, зеленые изгороди вдоль узких и гладких загородных шоссе, нежные округлости невысоких холмов, небо бледное и высокое (какие там туманы!); в нашем отеле «Норфолк» в Южном Кенсингтоне, рядом с Музеем Виктории и Альберта, даже в ванных комнатах (они для советских туристов были только в коридоре) по два крана – горячая и холодная вода без смесителя, над раковиной тоже, душа не было вовсе. Тоже – Англия. И респектабельный ресторан «гриллхауз» при гостинице, с открытой глазам посетителей плитой, невероятно большими, чистыми и празднично-алыми кусками мяса и веселыми поварами в огромных, словно тоже двухэтажных, как автобусы, колпаках.

Лондон. Стрэнд. 1967

Часовой лейб-гвардииКоролевского конного полка. Фотография автора.1967
А особенное, только английское чувство собственного достоинства, возникающее в стране, где к каждому обращаются «сэр», а в третьем лице называют «джентльменом»! Не могу сказать, что англичане в принципе вежливее французов, но есть в них некая изначальная гордость, право на которую они переносят и на собеседника. Их расположение к другому – в умении оставить его в покое. Знаменитый «habeas corpus (неприкосновенность личности)» проник в стилистику общения. Лондонец, говорящий на невнятном для иностранного уха кокни, узнав, что его не понимают, извинится и повторит сказанное медленно и по мере сил литературно. Если два молчаливых драчуна не бьют стекла и не мешают прохожим, полицейский медлит, ожидая, пока его не позовет один из участников происшествия. А лондонская толпа! Был, кажется, день рождения принца-консорта, королева в мундире полковника гвардии ехала верхом во главе процессии. Мы, советские туристы, по привычке стали протискиваться поближе, англичане расступались удивленно и брезгливо. Только оказавшись в первом ряду у края тротуара, в вожделенной близости к зрелищу, мы смутились. Не все, впрочем.
И эта вековая, не слишком понятная иностранцам театральность военных и прочих церемоний, где за меховыми шапками гвардейцев и серыми цилиндрами дворцовых гостей, за всеми этими пышными и прекрасными ненужностями угадывается еще какая-то горделивая тайна, в которую небританцам проникнуть не дано.
В каждом кинотеатре в конце последнего сеанса непременно показывали королеву – полуминутный киноролик с ликом Елизаветы II и гимном «God save the Queen».
Было две короткие встречи с соотечественниками. Со знаменитым известинцем Мэлором Стуруа, приятелем моего спутника – грузина Зураба Лежавы, поразившим меня своей вписанностью в Лондон, старой шерстяной рубашкой, в которой вылез из пыльного «остина» (гонял за сотню миль в Плимут встречать знаменитого мореплавателя Френсиса Чичестера, который в одиночку совершил кругосветное плавание на яхте «Джипси Мот IV»), нежностью к Англии. Он писал талантливо, и если и угождал нашей власти, то с какой-то даже элегантностью и несомненной эрудицией. Но он любил Лондон, Англию и не скрывал этого, он понимал страну. Зато другой наш собеседник – консульский чиновник, наряженный в дорогие лондонские тряпки на советский, впрочем, манер, матерясь, поносил Англию: «Страна педерастов и наркоманов!»
Одна наша туристка оказалась то ли родственницей, то ли доброй знакомой советского, служившего в Лондоне дипломата, и вечером он заехал за ней, чтобы показать город. И тут один из членов нашей группы, доселе незаметный и в числе руководства ею не значившийся, бросился на защиту порядка. Он страшно орал, не пускал бедную даму в машину «незнакомца», нес какую-то верноподданную чушь о провокации. Словом, рассекретился. Произошел конфуз, дипломат с дамой отбыли кататься, но стукач сохранил на лице выражение непонятого «безымянного героя»…
В программе у нас был «вечер встречи» с «прогрессивными английскими художниками». Пришел на нее в числе прочих и мистер Бредшоу, скульптор, в СССР известный. Его надгробие Карлу Марксу (1956) мы «проходили» в институте, к подножию его на Хайгейтском кладбище еще вчера, давясь от жадности, клали купленные на последние шиллинги цветочки. Интрига же заключалась в том, что как раз в тот день мы побывали в «Скульптурном саду» знаменитого Мура, скульптора всемирно известного, но уж никак не «реалиста». Сэр Генри Мур потряс даже тех моих спутников, что были настроены решительно против «абстракционизма». Его огромные, словно растущие из земли, будто плавящиеся под бледным июньским солнцем создания, грозные своей первобытной простотой, странно соединенной с тончайшим интеллектуализмом, – как не похоже было это на расхожее представление о беспредметном искусстве! Помня, однако, вполне «реалистический» памятник Бредшоу, я полагал, что автор его должен относиться к Муру плохо. И, упомянув о нашем визите в поместье сэра Генри, несколько смешался.

Скульптуры Генри Мура в Цюрихе, Швейцария. Современная фотография

Дети в английской столице. Фотография автора. 1967

Кадр из фильма «Blow up». 1966
Мистер Лоренс Бредшоу – толстый, на коротких тонких ножках, бородатый господин, одетый с ног до головы во все по-английски клетчатое, – с удовольствием, мелкими глотками попивал привезенную нами водку с брошенным туда ломтиком лимона – занятие для русских противоестественное. Услышав имя Мура, он разволновался. Он просто пришел в восторг, сказал, что Мур – гений, что он творит, «как сама природа».
Как это было непонятно! Мы ведь знали, привыкли знать, что ежели художник «предан реализму», то все иное для него ненавистно. Терпимость и уважение к этому иному, умение восхищаться тем, что тебе оппозиционно, – как далеко было это от нашего образа мыслей. Мы могли еще предположить, что можно предпочесть абстракционизм реализму. Но что можно спокойно и восхищенно любить разное!..
Лондонские музеи – особый сюжет. И дело не только в их сказочном богатстве, в знаменитых мировых шедеврах. В них – особая атмосфера, они тогда все были бесплатными (многие и остались), туда приводили маленьких детей, даже младенцев в колясках, они подолгу таращились на картины и рельефы, – вероятно, это имело какой-то воспитательный смысл. И мраморы Элджина (скульптура Парфенона) в Британском музее, и розоволикая грешная мадонна – героиня картины Мане «Бар в „ФолиБержер“» в Институте Курто, и великолепно-странные современные вещи в галерее Тейт, и Хогарт, прежде в оригинале невиданный, художник, который позднее надолго стал моим героем…
Открыл я для себя Лондон и благодаря фильму Антониони «Blow up»: кирпичные красные стены, остановившиеся глаза наркоманов, неспокойная красота почти безликих улиц, тьма вечерних туманных и даже грозных парков, горячее телесное обаяние живого, неспокойного города, которому дела нет до Вестминстера и даже до Института Курто с красавицей Мане. Это было сродни тому, как писали Дос Пассос или Хемингуэй о Париже, – взгляд со стороны и обостренно-современный. Только у Антониони вовсе не было интереса к былому, он открывал пугающее настоящее.
Безошибочно найденное название – точное, метафорическое и многозначное – придавало фильму оправданный пафос открытия (Blow up – по-английски означает и «фотоувеличение», и «взрывать»), но взрыв, он только в сознании героя картины. Томас, преуспевающий и богатый модный фотограф (Дэвид Хеммингс), столкнувшийся с убийством, разглядевший труп на собственном, многократно увеличенном снимке, сделанном в Марион-парке, оказывается наедине со своим открытием, его никто не слышит и слышать не хочет. Фильм был «художественным диагнозом» времени, когда люди переставали понимать друг друга, наступал адский холод одиночества, торжествовали призрачность реальности и подлинность мнимого.
После этого фильма я и Лондон, и современную жизнь в нем увидел по-иному. Меня уже не поразила кинобудка в Вестминстерском дворце, как и серые цилиндры и визитки джентльменов, и огромные шляпы их дам на лондонских улицах в день рождения принца-консорта. Здесь все соединялось естественно, но везде чувствовал я нынешнюю горечь.
И все же литературные эмоции царили в моем сознании. Все через книги. По счастливой случайности я попал в изысканнейшее кафе около Сент-Джеймсского дворца, устроенное в бывшей квартире Оскара Уайльда. Впервые пригубил виски, и тут уж литературные герои сделали свое дело: мог ли не полюбить я этот диковинный и по первому разу вовсе не вкусный напиток!
Поездка была неслыханно дешевой – девять дней в Лондоне за 330 рублей, одна доцентская зарплата. Но отдавать долг было нечем. Гонорары за киносценарий по разным причинам задерживались, новыми договорами не пахло. В «Молодой гвардии» я со своими кружевными изысками, видимо, тоже поднадоел, переговоры о новом заказе едва теплились. Как в своей авторской юности, я бродил по редакциям, что-то предлагал. Отказов не было, просто вяло отмалчивались, а я-то возомнил, что востребованный, именитый автор!
Опять стало страшно жить. Рассчитывать не на кого. Каждый день калькулировал: «Прочел лекцию – 10 рублей, может быть, получу творческую помощь – 150 (такое случалось в лучшем случае раз в год), на телевидении заплатят рублей 80, на радио, может, 40. Мамина пенсия – 25. А в следующем месяце – вообще ничего». Мама была решительно спокойна, заставляла меня смеяться над наступившей, как в юности, нищетой, говорила: «Все образуется», но проводила в магазинах не час, а три – искала что подешевле.
И в самом деле, с безденежьем возвращалось и романтическое ощущение и ее, нищеты, и самой жизни. Немногие деньги легко и весело тратились, мучительный брак уступил место ситуациям более поэтическим, я даже немножко путешествовал.
Владимир. Никто не знал тогда выражения «Золотое кольцо», в гостинице можно было спокойно снять номер; там, где нынче теснятся туристические автобусы, проезжали телеги и булыжные мостовые желтели потеками навоза. «Белокаменные» грозные соборы и церкви невинно стояли в торжественной тишине, окруженные майской светлой и яркой листвой, в темных пустых магазинах штабелями громоздились банки с морской капустой. Зато в ресторане гостиницы «Владимир» подавали экзотические блюда из медвежатины и даже из зубра, недорогие и невкусные. Там кутили приехавшие «в область» военные и статские командированные. За неимением одноместных номеров я поселился в роскошном трехкомнатном люксе: спальня, кабинет, столовая, где в запертом буфете стояли богатые сервизы. К удивлению соседа по номеру – шофера-горца, я ушел спать на диван в кабинет. Ванная была с мрамором, в уборной, однако, вода не спускалась, а угрожающе поднималась до краев унитаза.
Неподалеку от гостиницы на заборе висела потрескавшаяся и выцветшая на раннем весеннем солнце афиша «Вечера поэзии» – местные актеры читали стихи знаменитых поэтов. Нижняя строчка была стыдливо набрана самым мелким шрифтом: «Стихи Макарочкиной читает автор».
К сожалению, в ту пору любая, даже самая романтическая, поездка приносила человеку непрактичному и боящемуся жизни, сиречь мне, тьму волнений и унижений, в которых таяли немудреные радости путешествий. Гостиница! Чтобы найти ночлег в Риге, послали из нашего союза официальную телеграмму в Союз художников Латвии, несколько часов томился я там в приемной – мне «выбивали» (так и рижская тонная референтша тогда выражалась) место. И наконец поселили в номере с дюжиной веселых футболистов из абхазской глубинки, которые весело прыгали через кровати и вовсе не смущались отсутствием удобств не то что в комнате, но и на этаже. А билет обратно, в Ленинград! Эта темная, бесконечная и совершенно неподвижная очередь на вокзале… Но я от отчаяния, вовсе не надеясь на успех, оттуда же, с вокзала, почти из самой очереди, позвонил из автомата в ту же кассу. У меня приняли заказ и принесли билет в гостиницу. Единственный раз темный абсурдизм советской жизни меня выручил! Но такие приключения были чрезмерны для моей утомленной и впечатлительной души.
Прежде я не бывал ни в одной из прибалтийских столиц, куда так любила ездить советская интеллигенция и просто наша мелкая знать. Там были кафе, симпатичные ресторанчики, провинциальное подобие европейской жизни, какие-то – поприличнее российских – тряпочки. Наши охотно мирились с открытым недоброжелательством осатаневших от русских гостей прибалтов – все же это было нечто иное, чем дремучее советское хамство. На меня же Рига произвела удручающее впечатление (как потом Таллин и Вильнюс). Советское нищее запустение вкупе с руинами окраинного умирающего европеизма, судорожное желание латышей сохранить свои обычаи, латышские вывески и названия улиц, которые и сами рижане уже не замечали, жалкая грубость по отношению к приезжим русским, злобная вражда, рожденная давним политическим преступлением, в котором нынешнее поколение вовсе не было повинно (о чем думать не хотелось), безысходность вечного раздражения «скованных одной цепью» людей – как все это было грустно, неприятно, унизительно для всех, кроме отпетых хамов, находившихся, к сожалению, и среди латышей. Но их – не нам судить.
Дома было спокойнее, хотя условия жизни в нашей коммуналке порой казались мне не многим лучшими, чем в провинциальной гостинице.
Кто поверит – мне ведь предлагали кооператив! И как раз в пору, когда у меня уже появились первые огромные (по моим представлениям!) гонорары. Кооперативы стоили тогда (относительно) недорого и были такой диковинкой, что – в Ленинграде, во всяком случае, – ажиотажа не возникало. Союз предложил купить трехкомнатную квартиру на Пушкарской, в известном теперь кооперативе ВТО, – видно, именитых желающих не оказалось. И естественно, никто не хотел покупать то, что можно было (во что свято верили) получить даром, пусть хотя бы в туманной перспективе. Даже люди весьма денежные в кооперативы не торопились. Знать ждала (и получала) роскошные апартаменты от распределительной системы, подпольных миллионеров в кооперативы не звали, у большинства не то чтобы совсем не было денег, но не было и психологической готовности к покупке того, что должны дать даром, пусть через сто лет. Точно так же рассуждал и я. Наивно полагая, что вскорости (мы стояли на очереди) нам «дадут».
Не стану рассказывать, что предшествовало получению квартиры, – этот ад известен многим. Скажу лишь, что для нас с мамой все закончилось сказочно хорошо.
Перед этим я долго мыкался по разным инстанциям, мало надеясь на благополучный исход. Было много хождений, разговоров, встреч с начальниками, маленькими и большими, и все – почти или вовсе безрезультатные. И все же чудо случилось. Был октябрьский очень ветреный вечер, после недавнего наводнения в воздухе оставалась тревога, холодное низкое солнце высвечивало малиновую кайму на черных тяжелых тучах. Мама, старавшаяся провожать меня на «решающие встречи», ждала в аптеке. Я вышел с решающей резолюцией: мы получили квартиру на Среднем, на том самом Васильевском, с которого я никогда не хотел и не хочу уезжать, и в том доме, о котором и мечтать не смели. Маме было шестьдесят три – последний раз она жила в отдельной квартире двадцать шесть лет назад.
Мы со «смотровым ордером» вошли в наш новый дом таким же примерно вечером, только уже шел ноябрь, небо было не грозным – печальным. Но оно, небо, было видно и за нашими окнами. Не стены двора-колодца, не тьма, не бранчливая духота старого двора, а простор: жухлая зелень, здание кинотеатра «Прибой», за ним снова деревья, дома и крыши, трамвай в отдалении, где-то у горизонта трубы ТЭЦ с красными огоньками; это был вид, это был пейзаж, там прогуливался и метался взгляд. А за спиной – собственный дом, где будем жить только мы с мамой, только мы. И дело даже не в том, что было просторно, что – впервые – «скрытая проводка» (до тех пор я жил в комнатах, по стенам которых тянулись толстые витые грязно-белые шнуры на отвисших фаянсовых изоляторах), даже не в том, что была ванная, о которой я мечтал всегда, собственная моя комната, о которой я мечтал не меньше. А что все было только свое. «Я могу плюнуть на пол, – сказала мама, то ли смеясь, то ли плача. – И вытереть, когда я захочу!»
Каждый, кто переезжал из коммуналки в отдельную квартиру, кто обладает «памятью сердца» (Батюшков) касательно и сюжетов вполне земных (впрочем, полагаю, в советской действительности квартира – вещь космическая и жизнеопределяющая, только в нашей реальности могла быть написана Юрием Трифоновым повесть «Обмен» – подлинная «трагедия о квартирном вопросе»!), знает и помнит: получившие квартиру избранники судьбы в течение месяцев, а то и лет живут только ею.
Нынче нередко говорят и пишут с некоторым даже томлением и нежностью о коммунальных квартирах, о милой дружбе с соседями, исчезнувшей доверительности между людьми, будто некогда крепнувшей на коммунальных кухнях.
Думаю, это либо привычное заблуждение людей, путающих радость молодости с радостью от обстоятельств, в которых молодость протекала, либо наглое вранье, либо – самое скверное – привычка к скотской жизни и порожденное ею недоверие к цивилизации. Кому приходило в голову удивляться и тем более печалиться, что в гостинице приходится делить номер с кем-то посторонним (а то и посторонними)? «Поселили, спасибо большое!»
Большевики возвели нищету и скученность (в которой до революции жили лишь совершенно падшие, неимущие и жалкие люди) в ранг добровольного царства социального равенства. Людей заставили верить, что если двадцать жильцов пользуются единственным унитазом и для этой цели стоят в очередях, то это естественно и хорошо, что недействующая, отсутствующая ванна или ванна, в которой чаще стирают, чем моются, – в порядке вещей, что восемь хозяек в одной кухне вовсе не нонсенс, что неизбежные при такой тесноте злоба и мерзостные скандалы, превращающие людей в голытьбу, – нормальный быт. Только в тюрьме человек принужден видеть одни и те же, и притом чужие, лица.
И эта невольная скученность – разве не она поспешествовала тому, что люди отвыкали быть личностями, ощущали себя именно стадом, где от каждого по отдельности решительно ничего не зависит! Не верьте в поэзию и тепло коммуналок, в миф, так отточенный фильмами, снятыми чаще всего теми, кто в коммунальных квартирах сроду не жил. Коммунальная квартира – одно из самых унизительных созданий советской власти, а любовь к ним – следствие разрушенного большевиками сознания людей, которых заставили незаметно потерять чувство собственного достоинства. А если кто и вспоминает коммунальную квартиру добром, что же, ведь и о годах войны и даже неволи порой рассказывают без печали – там выковывалось мужество, проходила юность. Но ведь это не значит, что война или неволя сами по себе хороши. Ганс Фаллада назвал свой знаменитый роман – «Кто раз отведал тюремной похлебки». Людей с испуганным, репрессированным сознанием тянет назад – в привычную неволю. Народу-богоносцу все время навязывают «соборность», а не проще ли вспомнить название пьесы Льва Толстого «Власть тьмы»? И этот дремучий, обращающий людей в затравленное стадо кошмар не ведавшие коммуналок писатели и режиссеры позволяют себе поэтизировать!
В новой квартире была одна беда – отсутствие телефона. Мне случалось уходить достаточно надолго, и я привык постоянно звонить маме, чтобы всегда знать, все ли с ней в порядке. Что говорить, чувствовала она себя плоховато, я смертельно боялся, да и она постоянно беспокоилась обо мне. Эта «телефонная пуповина» нас так долго спасала, а теперь – долгие часы без меня и в абсолютном одиночестве! Телефон поставили только через год, и это, пожалуй, было не меньшим счастьем, чем квартира.
Но есть и своя прелесть в квартире без телефона. Когда мы с мамой дома, никуда уже не надо идти, можно безмятежно жить до завтра. Ничего не произойдет, новостей не будет. Какая-то средневековая защищенность. Спокойно можно работать, читать, смотреть телевизор или ковырять в носу – на телефонную болтовню не уходит времени. К тому же я стал получать и писать письма – забытое состояние души!
Правда, вскорости я нашел в почтовом ящике новую повестку в военкомат: это замечательное учреждение пылко и оперативно реагировало на перемещение своих клиентов в пространстве. Мне было тридцать пять, но я трусил, как в семнадцать, – боялся, призовут на какие-нибудь ужасные сборы. Опять заставили таскаться по врачам. Самое удивительное, на этот раз я снова получил «белый билет» – стал «полностью негодным» при тех же хворях, при которых какое-то время считался «ограниченно годным». Видимо, разнарядки менялись. Это я сейчас пишу, стараясь иронизировать, тогда был липкий отроческий страх. И когда меня после пятидесяти вызвали в военкомат, естественно, для окончательного снятия с учета, я так и не пошел: было страшно вновь переступать этот порог. Так и не снялся с учета по возрасту.
Почти каждый день мы с матушкой ходили в магазины. Тогда это не требовало больших средств, покупать большей частью было нечего, но доставляло наслаждение болтаться по хозяйственным лавкам, присматривать занавески, полочки, всякую домашнюю дребедень, а иногда и возвращаться с добычей – чаще всего с пластмассовым флаконом «Бодузана» – единственной иногда продававшейся у нас пенки для ванн, поставлявшейся из ГДР. К ванне не мог привыкнуть: даже торопясь к первой утренней лекции, в лютый мороз, успевал полежать в ванне и чувствовал себя на улице хоть и мерзнущим, но все же «аглицким» джентльменом.
Отдельная квартира глубоко переменила жизнь. Прожив двадцать два года в послевоенных коммуналках, понял: самое в них страшное то, что их считают нормой. До войны даже в Москве строились дома, заранее рассчитанные на «коммунальное заселение», не говоря об идиотских «домах-коммунах» с общими кухнями и прочим бредом, прозванных «слезами социализма». И чувство собственного достоинства, которое (нередко и впервые) возникало у человека в отдельном жилье, мешалось с ощущением вечной неловкости перед теми, кто еще оставался в коммуналках, и тем более перед теми, кто так и умер в них.
Осенью 1967 года я вернулся на службу в институт Герцена – на этот раз уже в штат.
Выбора не было: гонорары и договоры иссякли, новые только начинали проклевываться, я устал от нужды, и предложение вновь читать лекции, получать ежемесячную зарплату оказалось кстати. Я потерпел поражение: вместо желанной жизни «вольного стрелка» с большими гонорарами меня ожидала служба старшего преподавателя с окладом вдвое меньшим, чем у любого кандидата, не опубликовавшего ни одной книжки. Тогда так желчно я не рассуждал, был рад, что выкарабкиваюсь из совершенной ямы.
В институте я проработал почти десять лет. За это время я писал и публиковал статьи и даже книги, защитил наконец диссертацию, стал доцентом (юношеская мечта) и незаметно для себя начал приобретать душевные повадки советского вузовского служащего.
Герценовский институт мнится мне едва ли не метафорой неизменности. Даже запахи в нем не изменились: где смердело в пятидесятых – смердит по сию пору. Сколько было ремонтов, перемен, а не меняется, по сути, ничего. Огромные или странно крохотные аудитории, стылый запах навсегда промерзших стен, мела и мастики, которой до сих пор бессмысленно натирают неровные полы, кривые переходы, неожиданные остатки благородной лепки на потолках. Лакированная фанера (под деревянные панели) в ректорском корпусе, в середине семидесятых обновленном в модном стиле советского аскетического «модерна», родившего, между прочим, и особый агрегат – гигантский письменный стол с приставкой, официально называвшийся «стол руководящий» (сам видел на бумажной этикетке!).
Преподаватели истории искусства – Марк Григорьевич Эткинд, о котором уже шла и будет еще идти речь, и я – числились почему-то по кафедре рисунка. Ею заведовал Михаил Александрович Канеев, известный в свое время и, боюсь, подзабытый ныне художник. Он рисовал и писал и старые церкви, и современные городские пейзажи со странным, несколько американским шиком: лихая перспектива, резкие линии, взгляд часто сверху, остро ограненные дома, даже у древних соборов стлались низкие, ловко нарисованные машины – в духе модных тогда иллюстраций к журналу «Огонек». В нем странно уживались спасительное равнодушие пьющего, не слишком преуспевшего художника и суетная любовь к замшевым курточкам с безусловным нравственным приличием и поразительным чутьем на непорядочность. Мог, ничем не аргументируя, отказаться работать со студентом, казавшимся ему человеком недостойным. Не ошибся, помнится, ни разу. И ведь сумел остаться беспартийным! Эти качества патрона определяли и атмосферу на кафедре: не слишком всерьез, равнодушно, прилично, без подлости. Тем более нам, «теоретикам» (так называли нас с Марком), жить не мешали, да и не интересовались нашими делами.









































