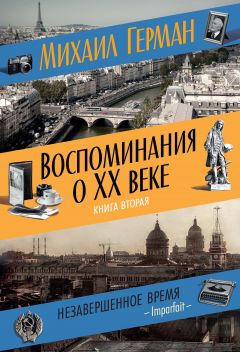
Автор книги: Михаил Герман
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Ликующая пестрота Парижа – это было не только красиво, но странно, удивительно!

Отель «Франсиа». Фотография автора. 1965

Вид из окна гостиницы. Фотография автора. 1965
Конечно, где-то на картинах, картинках, в уже не редких цветных фильмах я видел многоцветный Париж. Но в сознании он оставался непреклонно черно-белым, наш взгляд был настоян на старых фотографиях, а главное, на фильмах, классических и недавних черно-белых кинокартинах – от незабвенного «Под крышами Парижа» до только что виденного фильма «Дьявол и десять заповедей». Черно-белым был и Париж иллюстраций Лелуара, и кинохроники, и знаменитых фотографий Атже, Дуано или Картье-Брессона.
А тут – так все ярко, весело, прозрачно и разноцветно!
Фландрская улица, потом налево мимо ротонды Ля Виллетт, дальше – мой первый в жизни парижский адрес: гостиница «Франсиа», улица Лафайет, 100.
Сколько раз в другие свои приезды – и случайно, и специально – проходил я мимо первого своего парижского пристанища. Уже в 1972 году гостиницы там не было, какие-то учреждения, и все же, глядя на это высокое здание в гимаровском стиле на углу улицы Шаброль, я чувствую, как перехватывает дыхание, словно не прошло с тех пор более полувека. Но долго еще оставалась та же «Parfumerie» рядом с гостиницей, откуда и тогда тек извечный парижский аромат – горький и надменно-праздничный, и время тогда замерло в этом еще чуть провинциальном уголке Парижа близ Гар-дю-Нор.
В вестибюле непривычные тогда лакированной своей яркостью проспекты и – какое искушение – диапозитивы «ФолиБержер» – стриптиз! Бледные, усталые, но старательно улыбающиеся мальчики таскали чемоданы (сейчас это осталось только в очень дорогих отелях). А наша гостиница, что и говорить, была плохонькая. Впрочем, тогда я, давний обитатель коммуналки, не был озабочен отсутствием душа и наличием вместо него мало необходимого биде. Когда я вошел в комнату номер 705 (которую делил с литовцем Ионасом Шважасом), в окно сразу же вплыло, словно точный макет самого себя, нелепое и вместе грациозное, такое знакомое, такое пронзительно парижское здание Сакре-Кёр. И вплыл откуда-то колокольный звон, и я поверил наконец, что Париж есть, что я – приехал сюда.
Показалось, в розетке нет тока: «С’est votre rasoir qui ne marche pas! (Это у вас бритва не работает!)» – ответил мне с любезным небрежением и чисто парижским грассированием коридорный отрок при галстуке-бабочке, и прохладная его развязность показалась мне пленительной.
Шутили приветливые официанты в скверном, по парижским понятиям, ресторане. У нас дома люди не улыбались, и Париж сразу же показался мне веселым и счастливым городом. Все чудилось милым: средний обед, огурцы с вычищенной почему-то серединкой, зеленые стручки в качестве гарнира, дешевое вино в темных бутылках без наклеек, оранжад «Pchitt!!!» – в бутылках крошечных, ледяных и пузатых, пепельницы с вечной надписью «Ricard».
Господин в перчатках выдал нам билетики на метро (автобуса в этот день почему-то нам не полагалось). Париж нас ожидал. Мы ехали в Лувр.
Еще не было автоматических турникетов, усталая контролерша в голубом халате щипцами компостировала билеты и закрывала решетчатой калиткой вход на платформу, когда подходил поезд. По-трамвайному подвывали и грохотали вагоны, по-моему еще начала века, – четыре зеленых, второй класс, в середине красный – первый. В нем ездили преимущественно темнокожие парижане, вероятно для самоутверждения.
В эти первые часы книжное знание Парижа плавилось в раскаленном потоке реальности; в смятенном мозгу еще ревели самолетные моторы, я то и дело терял понимание того, где и что. ПалеРуаяль, заросшая кустами пушка, что стояла здесь и в 1789 году, призраки времен Сен-Жюста и Камилла Демулена среди стройных каменных колоннад, я вспоминал своего Давида – героя только что вышедшей книжки. В реальности были вокруг спокойные люди, много хорошо вымытых старичков в беретах, умело подкрашенных старушек – таких французы называют «coccinelle – коксинель» (божья коровка) – с вязаньем или книжками в руках, бегали чистенькие дети, казавшиеся очень вежливыми, поскольку все (как странно!) трещали по-французски. Впрочем, иногда они, красиво грассируя, переругивались и даже дрались.

Парижанка Клэр. Фотография автора. 1965
У дверей Лувра (тогда в музей входили со двора, через павильон Денон, правее нынешних пирамид) пофыркивали черно-красные маленькие таксомоторы (на дверцах радиофицированных «Пежо-404» надпись: «Allô, taxi!» Тяжелые зеленые автобусы непринужденно пересекали двор. Прямо на траве лежали молодые люди и даже обнимались – неприличная сенсация, по нашим тогдашним понятиям.
Там у меня состоялось первое парижское знакомство: я поговорил с четырехлетней парижанкой Клэр и ее бабушкой. Зная французский еще очень приблизительно, я ощущал его своим, забытым в другой жизни. И потому так запомнилось ощущение – я в Париже говорю с парижанками по-французски…
Какими все они мнились прелестными тогда, парижане лета 1965-го! В ответ на обращение улыбались; думал, смеются над моим произношением. А они просто улыбались – мне. Ухоженные, приветливые дети, у малышки Клэр, кажется, был даже педикюр. Дряхлая старушка с пожилой шелудивой болонкой на коленях так приветливо мне улыбнулась в вагоне метро, что я не нашел ничего лучшего, чем задать банальнейший вопрос: «мадам или мсье» ее собачка? Какой был устроен спектакль! Старушка закатила глаза, сделала хитрющую мину: «Видимо, мсье не слишком хорошо разбирается в женщинах (многозначительная пауза), собачка не то и не другое, а мадемуазель». Полицейский у ворот сената, сочувственно наблюдающий, как справляет свои дела другая престарелая собачка, вовсе не склонный (чего я ожидал) арестовывать ее хозяйку за «нарушение» у въезда в правительственное здание… И еще один, вовсе не грозный ажан у подъезда на Кэ-дез-Орфевр весело и привычно отвечал, видимо, на типовые вопросы туристов: «Да, мсье Мегрэ работает здесь, но сейчас он в отпуске». Был август, объяснение звучало как бы правдоподобно.
Да, стоял южный парижский августовский зной: жара с каким-то даже легким туманом от этого зноя, здания, которые начинали чистить пескоструйными аппаратами, светились теплым серебром. Я стоял на мосту Искусств, смотрел на Сите, на башни собора Нотр-Дам, на дома, уходившие назад к набережной Малаке, где гулял Анатоль Франс, к которому тогда я испытывал первую влюбленность, и его Пьер Нозьер, и его Сильвестр Боннар. Высокие железные крыши с тонкими трубами, даже ржавчина на которых чудилась благородной, нежные решетки балконов, блеск и красные тенты нижних этажей.
Ажаны в пелеринах и каскетках, старомодные автобусы с открытыми площадками и трамвайными звонками, очаровательная, не богато, но изысканно одетая, совсем дряхлая старушка-коксинель в черных кружевных митенках, с ухоженной собачкой на поводке, круглые столики (guéridons) перед кафе (в рюмках, кружках, бокалах, стаканах – разноцветные искрящиеся напитки), очертания зданий, знакомых настолько, что казались декорацией самих себя, театральная элегантность парижской речи, солнечные зайчики в великолепных витринах, запахи кофе, непривычных духов, сладкого табака, хорошей еды, множество улыбающихся, веселых лиц (в Советском Союзе людей отучили улыбаться, и странными казались приветливость и улыбки!), невиданной красоты автомобили – драгоценные молекулы реальности, смешанные с книжными образами и кинокадрами, кружили голову.

Ажаны. Фотография автора. 1965
Конечно, глаза, натренированные мудрой кистью Марке, память, напитанная пейзажами Парижа, выписанными перьями Бальзака и Золя, помогали не совсем растеряться в жгучих, кружащих голову мелочах… Я словно бы гулял с Клодом Лантье – героем «Творчества» Золя: «Видел однажды Сите в нежном тумане, словно бы уходящим, растворяющимся, легким и мерцающим, как дворец видений (palais des songes) ‹…›. В другой раз, когда солнце рассыпалось мельчайшими пылинками в подымающемся от Сены тумане, остров купался в этом рассеянном свете без теней, со всех сторон окутанный лучами, и напоминал тонкой точностью форм прелестную золотую безделушку».
Но все же он был чужой, этот Париж, он властно и безжалостно наступал на мои детские миражи, плоды мечтаний, воображения, наконец, на страницы собственных моих книжек. Совершенная, иная, чем у нас, красота, прежде всего камня, одновременно хрупкого и воздушного, на вид даже «пушистого», словно пепел. В Париже практически нет штукатуренных домов, он как бы изваян из старого камня, будто не зодчие его строили, а лепили и вытесывали скульпторы рыцарских веков, а потом само Время то пудрило его стены «пылью столетий» (в Париже это выражение не кажется банальным, будто здесь оно родилось), то отмывало потом дождями карнизы, капители, водостоки, статуи, горельефы, уподобляя город гравюрам. А теперь, спустя столетия, темный город вновь становился белым, как в Средние века.
И сколько бы потом ни приезжал я в Париж, те далекие жаркие дни не уходят из моей памяти, как не уходит детство.
Вечером я шел из гостиницы вниз, по бесконечной улице Фобур-Пуассоньер к центру. Я шел по вечернему Парижу куда хотел, и на запреты ходить в одиночку мне, к счастью, было, неловко признаться, плевать (и отнюдь не из храбрости): из всей нашей группы я единственный как-то знал по-французски и неплохо ориентировался в Париже, так что свита на все время поездки была мне обеспечена. И в самом деле, человек десять плелись за мною, им все равно было, куда идти, лишь бы не заблудиться. Оказался среди них и знаменитый художник, председатель одного из среднеазиатских союзов, который, по словам моего парижского соседа, литовца Шважаса, которого черт догадал, кажется, в Ницце поселиться с ним в номере, «ничего себе не мыл и ночью ничего с себя не снимал».
Компания, что естественно для нищих советских туристов, тряслась над своими жалкими франками, я же, в романтическом амоке Парижа, надменно не жалел денег на кафе и привез себе в подарок только маленькую шпагу с гербом Парижа – пустую безделушку, которую все равно люблю без памяти и на которую в эту самую минуту смотрю с нежностью и благодарностью (она и спустя более полувека лежит на моем письменном столе). В первый же вечер мои спутники, не слушая моих предупреждений о том, что чай дорог, от жадности и невежества выпили в кафе именно чая и истратили втрое более денег, чем я – гордясь собою – на бокал красного (ballon de rouge).

Будничная парижская жизнь. Фотография автора. 1965
Дикая – чисто советская! – ситуация: тридцатидвухлетний автор книги о Домье идет – впервые! – смотреть на дом, который он подробно описывал, частью по воображению, частью по комплексу всего того приблизительного, что у сочинителей исторических книжек называется «материалами». А мог бы и вообще никогда не попасть в Париж, но вот – повезло, «пустили».

Дом Домье на набережной Анжу. Фотография автора. 1965
Остров Сен-Луи. Набережная Анжу, стали убывать номера домов, и вот он – номер 9, дом среди домов, о котором я писал в вышедшем «Домье» три года назад. Тогда на темнеющей, пахнущей водой и бензином набережной я был почти счастлив. Реальностью, разговором с молодой кокетливой консьержкой, рассказавшей, что в мансарде Домье живет супружеская пара – архитектор и художница, «почитающие эту квартиру», что вижу эти окна, набережную Селестен напротив, что все похоже на мою книжку, что я говорю по-французски. Я жадно смаковал напыщенное «я в Париже», советское ощущение пошлого избранничества и вместе с тем понимание, что я-то все же это заслужил.
Эта встреча августовским вечером с домом Домье на набережной Анжу – олицетворение моей книжной, литературной, человеческой и профессиональной судьбы. Сначала воображать, потом читать, додумывать, описывать даже – а потом видеть воочию. Воображаемая, придуманная жизнь со своего рода «путешествиями в реальность».
Первая прогулка по набережной Анжу стала началом открытия набережных Сены, этих «поэтических шедевров Парижа» (Л.-П. Фарг). Сколько раз потом – в каждый свой приезд – я проходил вдоль ее берегов, вспоминая Золя и Марке. На Сен-Луи и поныне сохранилась провинциальная тишина, надменное богатство затаилось за потемневшими стенами особняков, дорогие неброские машины вдоль тротуаров, роскошный отель «Ламбер», построенный Ле Во в конце набережной Анжу, в нем жила и Мишель Морган, а тогда он был тих, пуст, а по вечерам пугающе темен. В особняке Пимодан квартировал Бодлер, простоте его комнат дивились современники: «…ни словарей, ни кабинета, ни стола с письменными принадлежностями, ни буфета или столовой, ничего, что напоминало бы убранство (le décor) комнат буржуазной квартиры» (Теодор де Банвиль).
Остров Сен-Луи полон сумеречных и торжественных воспоминаний, скрытых судеб и печалей. На Бурбонской набережной Золя поселил юную Рене – будущую жену Аристида Саккара, из окон старого особняка тоскующая девочка со своей сестрой Кристиной любовались Парижем:
«По утрам, в погожие дни, когда небо было голубое, они восхищались красивыми одеждами Сены; эти одежды то голубого, то зеленого цвета переливались тысячью нежнейших оттенков (d’une délicatesse infinie); казалось, река была из шелка с искрящимися белыми крапинками и атласными рюшами, а лодки, укрывшиеся в тени, у обоих берегов, окаймляли ее черной бархатной лентой. Чем дальше, тем ткань становилась прекрасней и драгоценней, словно волшебное газовое покрывало сказочной феи; зеленая матовая полоса – тень от мостов – сменялась золотыми вставками, складками шелка солнечного цвета» («Добыча»).
Здесь же, в крошечной мастерской под крышей, писал свой «Пленэр» Клод Лантье. А его прогулки с женой по берегам Сены и эти поразительные, будто не чернилами, но кистью написанные пейзажи в «Творчестве» (возможно, лучшие, созданные Золя парижские виды) оживали в моей памяти, когда я сам шагал вдоль этих набережных…
Сумерки рухнули на Париж. Это ведь южный город, и легенды о пепельных, лиловых и прочих долгих сумерках ушли навсегда из моего воображения. Потом-то, и в радости, и в размышлениях, и в пронзительной до слез тоске, я знал, что в Париже день гаснет стремительно, знал, что надо спешить, чтобы поймать эти полчаса меркнущего неба и города. А тогда – не знал. И словно бы навсегда таял в этих сумерках книжный Париж.
Обмен тысячи воображенных, представляемых, живущих лишь в собственной душе Парижей на непреклонную реальность единственного подлинного города – печальный обмен. А от Парижа-то не отвернуться. Это он – настоящий. А наши представления – не более чем фантом. Впрочем, миф порой реальнее действительности, тем более – миф о Париже.
Ночью под окнами гостиницы не смолкал шипящий, шлепающий свист покрышек по брусчатке – машины неслись вверх по улице Лафайет и Гар-дю-Нор (Северному вокзалу). Оглушительно и резко сигналили полицейские машины и кареты «скорой помощи». Для нас все это было в диковинку, и тревога пробивалась в тяжелый непрочный парижский сон.

На набережной Сены. Фотография автора. 1965
Утро до завтрака – единственное время, когда почему-то не считалось особенно зазорным выходить в одиночку. Зной притихал за ночь, нежный пар подымался над свежеполитыми и вымытыми мостовыми и тротуарами. Парижане шли и ехали на службу по-утреннему нарядные, в корректной деловой одежде, дамы в по-французски кокетливых костюмах, мужчины в строгих «тройках». Показное презрение к элегантности наступило лишь в конце 1960-х, а тогда изящество недорогих нарядов, туфли в тон перчаткам и сумочке у дам, отличные шелковые (ах, французские!) галстуки и чистые блестящие башмаки мужчин напоминали любимые французские фильмы. Воздух наполнялся очень легким (сильно душиться тогда почиталось неприличным), непривычным для нас ароматом. Пахло горьковатыми духами, сладким табаком, крепким кофе, пудрой, дорогим «десертным» бензином, почему-то нагретым в ладонях сандалом. И вкусной едой, аперитивами, чудилось, самим изобилием (ведь тогда избыток в витринах был синонимом богатства, абсолютной диковинкой, казалось – есть все, что, в сущности, близко к истине).

Улица Лафайет. Фотография автора. 1965

Вид на Консьержери. Фотография автора. 1965
Двадцать шестой автобус шел в Кур-де-Венсен, зеленый, с рекламами по бокам (на открытой платформе толстый, с большой бородой и офицерской розеткой Почетного легиона, человек курил трубку), с допотопным маленьким капотом, серьезным «машинистом» – так во Франции называли тогда водителей автобусов – на очень высоком сиденье и кондуктором, звонившим в звоночек, продававшим билеты с помощью весело трещавшей машинки и открывавшим цепочку, закрывавшую вход, располагавшийся сзади, «на корме». Нынче веселые старенькие автобусы сменились современными светлыми и лощеными, исчезли кондукторы (звонки все же сохранились, чтобы слышали – не просто машина, сам автобус едет!); открытые площадки только одно время стали делать как некую забаву-воспоминание, а потом они навсегда исчезли. Водителей лишь старики называют «машинистами», но, что замечательно, практически не изменились, остались такими же, как в путеводителе 1920-х годов, маршруты!
В ожидании автобуса французы торопливо просматривали толстенные газеты и бросали их аккурат рядом с урнами, на которых было написано «Papiers, SVP». В этом – особый род уличного расхожего свободолюбия; мне пришлось слышать, как таксист кричал полицейскому, сильно размахивая руками: «Мы (именно „мы“!) не для того брали Бастилию, чтобы теперь с нас драли штрафы, даже если я и проехал на красный!» Прямо на тротуаре работала колонка миниатюрной бензозаправочной станции и (как странно!) совершенно не воняла. На витринах – невиданно большие телевизоры и волшебной красоты костюмы. По отношению к еде вещи казались дешевыми: за восемь кило говядины – костюм! (У нас-то мясо стоило два рубля, а костюм – самый дешевый – не меньше шестидесяти.) А нейлоновые рубашки, которыми мы так гордились и в которых большинство из нас приехали, стоили гроши, и носили их только бедные приказчики и приезжие африканцы.
В лавках и киосках – сувенирные пробки, украшенные карикатурными головами президента де Голля. Это не укладывалось в сознании. Рисунки в «Канар аншене», мельком виденные в киосках рядом с запретными эротическими обложками, – еще куда ни шло. Но пробки! И прямо на стенах – объявления о найме, вовсе не вязавшиеся с советскими легендами о «безработице в странах капитала». Экспансия удивительных (тогда вовсе у нас неизвестных!) мелочей: автоматически раздвигающиеся двери в аэропорту, автоматы, в которых на выбор можно было купить кофе с сахаром и без, черный и с молоком, чай, шоколад, кока-колу, бульон; привычка водителей пропускать пешеходов и специальные, только пешеходам предназначенные огни светофоров, непременное «merci!» официанта, даже забирающего грязную тарелку.
В тот первый приезд случилась у меня встреча, о которой я уже писал в книжках о Париже, но все же я упомяну о ней еще раз, поскольку она со временем кажется мне все более важной. Это был разговор с двумя немолодыми французами в скверике у церкви Сент-Венсен-де-Поль на площади Лафайет, что неподалеку от нашей гостиницы «Франсиа». Было раннее утро, когда нам разрешалось прогуливаться в одиночестве, не уходя, разумеется, от отеля. Со мною приветливо поздоровались два немолодых парижанина, одетые совершенно по-домашнему – один в шлепанцах, но с бантиком-бабочкой, другой в пестром шейном платке.
Со мной первыми поздоровались эти люди – куда старше меня, уже это было удивительно. Завели разговор о погоде, я, конечно, поспешил сказать, что Париж хорош и в жару и в дождь.
– Вы, мсье, конечно, иностранец, – сказал один.
Они похвалили мой французский язык. Тогда я еще не знал, что чем хуже говорит по-французски иностранец, тем более пылко его хвалят, и растаял от радости. В Париже любят подбодрить приезжих, старающихся говорить на их языке.
А потом они стали ворчать. Я понял далеко не все, но смысл ворчания был в том, что Париж шестидесятых – вовсе не Париж, не сравнить с довоенным. Досталось и де Голлю, и новым франкам[5]5
В 1960 году, в связи с инфляцией, был введен новый франк, равнявшийся ста прежним.
[Закрыть], и молодежи, и нравам, и американским фильмам, и сексшопам, и, главное, совершенно исчезающей вежливости, которой прежде Париж славился.
И теперь, спустя много лет, когда французы, с некоторым даже снисходительным участием выслушав мои признания в любви к Парижу, говорят, что город – уже не тот, я вспоминаю встречу у Сент-Венсен-де-Поль в августе 1965 года, встречу, случившуюся более полувека тому назад.
Самое первое утро в Париже началось, естественно, с консульства, куда Михаил Иванович, как иностранный подданный, эмигрант и, стало быть, потенциальный провокатор, допущен не был. Он ждал в автобусе, почему-то несколько оскорбленный и надутый. Вообще он оказался человеком обидчивым, постоянно напоминал, что окончил школу при Лувре, а во время поездки по Провансу страшно негодовал, что вынужден обедать за одним столиком с шофером. А выхода не было – по правилам иностранцы от нас столовались отдельно.
Консульство – на улице Прони, 8, рядом знаменитый, увековеченный Мопассаном парк Монсо и памятник Дюма с фигурой д’Артаньяна у подножия. А в самом консульстве, в очаровательном трехэтажном особнячке, украшенном внутри грациозной деревянной резьбой, – отечественное ледяное хамство, о котором я на удивление быстро уже как-то и забыл. Советский чиновник с худым толстоносым лицом тупо повторял в телефон с неописуемым акцентом: «Кель виза, кель виза, мадам?» Слово «мадам» выговаривал он с отвращением. А потом еще один чиновник, наряженный во французское барахло, прочел подробный докладец о политической ситуации, о франко-советских отношениях и еще раз напомнил, что интересоваться магазинами нам не пристало (с нашими-то франками), и много другого важного и принципиального.

Памятник Дюма. Д’Артаньян. 1965
Заряженных родным духом, нас повезли уже в тот хрестоматийный Париж, которого мы чуть отведали вчера. Припудренные жарой Конкорд, Нотр-Дам, царственно взлетающий к облакам купол Инвалидов, толкотня в Лувре по заведенному маршруту, обозначенному указателями – «Венера Милосская», «Джоконда», «Чайный салон», «Туалет». Что толку писать об этом, многие уже пережили это по-своему, только вот все время мучила меня мысль: не будет больше никогда моего, выдуманного Парижа.
Так было и в Маре. Запах, цвет и пропорции места, знакомого лишь по книгам, чаще всего выглядят нежданными. Я знал, что площадь Вогезов невелика[6]6
Площадь квадратная, каждая сторона – 140 метров.
[Закрыть], но на гравюрах она все же выглядела величественной, даже просторной. Но маленькой оказалась площадь, дряхлой и плохо обихоженной; стоял душный запах пыли и краски, запах нескончаемой скрупулезной реставрации, которая длилась и длится здесь постоянно, а тогда показавшейся неуместно суетной в почти безлюдной тишине. Все же благородные аккорды тускло-алого кирпича, пепельно-белой штукатурки и, как (оказывается, совершенно точно) писали в книжках, «графитных», виртуозно прорисованных высоких шиферных крыш напоминали, какой она была во времена мушкетеров и кардинала Ришелье.
Вспыхивали и гасли отблески книжных страниц: сверкающая карета Миледи (Дюма поселил ее здесь, в доме номер 6, хотя не было тогда еще нумерации домов!), великолепный Виктор Гюго, гости знаменитых вторников маркиза Данжо – придворного историка Людовика XIV, и звенели, звенели шпоры и шпаги мушкетеров, далеким эхом звучали шаги подлинных и мнимых персонажей былого. И пахли Парижем теплые сквозняки под аркадами. Медленно и торжественно текли эти парижские секунды.
Эта площадь, стройная и соразмерная, осталась с тех пор в моей памяти, словно неколебимый утес, вокруг которого – неспокойное море запутанных ассоциаций, размышлений, кривых улочек, нежданных сплетений времени. Чудится, единственная возможность не заплутать в этом лабиринте улиц, эпох, особняков – спокойно довериться потоку ассоциаций, воспоминаний о былых прогулках, прочитанных, а то и написанных страницах. Не раз и годы спустя, даже хорошо зная – казалось бы! – топографию Маре, даже неплохо ориентируясь в его истории, я и во времени, и в пространстве, случалось, сбивался с дороги, иной раз и потакая себе в этом. Как иначе осмыслить и тем более пересказать весь этот сплав мыслей, вспыхивающих вдруг мелодий, воспоминаний о судьбах, лицах, давно и недавно вплетавшихся в судьбу площади и окружающих улиц? Париж так стар, что невольно одна эпоха напоминает об иной, еще более давней, и так без конца длится это путешествие во времени, эпохах, веках. И сюда, в Маре, каждый, кто думает, пишет, вспоминает о Париже, непременно вернется еще не раз. А для меня – это и тот августовский день нашего первого свидания с Королевской площадью, когда я, едва зная даже жившего здесь Сименона, не читав ни Скаррона, ни мадам де Севинье, памятью о которых дышит Маре, слышал лишь звон шпор мушкетеров и не мог и мечтать о возвращении под эти аркады, тем более «пятьдесят лет спустя».
А тогда под этими волшебными аркадами обыкновенный английский папа что-то объяснял своему сыну-отроку, заглядывая в путеводитель. «Холидей», каникулы в Париже – почему бы и нет? И то, что для столь многих людей заграница была обыденностью, вызывало тягостную зависть, недоумение.
У наших же туристов – поднадзорность, стыдная нищета. Я хоть иногда позволял себе выпить воды или кофе, а они истерически экономили франки и в результате привозили что-то бредовое, вроде мохера. Ходили пешком, а я упрямо ездил на метро и автобусе, и это, кстати сказать, экономило силы и давало ощущение реальной жизни, а не туристских запрограммированных радостей.

В Люксембургском саду. Фотография автора (наверху). 1965

В Версале. Фотография автора. 1965
Можно было бы вспоминать Париж августа 1965-го день за днем. Но мне дороги вспышки памяти, хоть и случайные, но стократ драгоценные. Бесконечная дорога к центру от нашей гостиницы – по улице Фобур-Пуассоньер до Больших бульваров, где на перекрестке, как и ныне, огромные рекламы на высоком с башенкой здании кинотеатра «Rex», в котором тогда шел какой-то ковбойский фильм. Нежный и многозначительный сумрак музея Клюни, призрак «Дамы с единорогом» на фоне сапфирово-золотого шатра, потом Люксембургский сад, стульчики (тогда они были платные, неслышно подходили дряхлые старушки-контролерши, церемонно, но настойчиво спрашивали франки), лежавшие на травке красиво и просто одетые студенты и студентки, юные прелестные мамы с колясками (еще не накрыли Францию джинсовая безликость и «унисекс»), невероятной элегантности душистые старички, едва ли не в котелках и реально и часто – в беретах. Тупая ампирная и какая-то внемасштабная роскошь гробницы Наполеона, где купил я двух очаровательных солдатиков по пять франков каждый. Рынок Сен-Кэнтен (он и сейчас есть), где тоже дешево мне достался крохотный «рено» 1907 года (Taxi de la Marne). Березки в Мальмезоне: помню это «остановившееся мгновение», такая же, как у нас, природа, запахи, и потому ампиристо-египетская сочная и густая роскошь наполеоновских комнат обретала странную понятную реальность… Дождливый субботний вечер 15 августа, когда я почему-то один рискнул дойти до Северного вокзала и впервые окунулся в такой комфортабельный, но все же тревожный мир европейской железной дороги. Это было первое (тогда единственное) из бесчисленных мгновений темного парижского одиночества, которых меня ждало так много.
И другой дождливый вечер в кино «Рио-Опера» на Бульварах, где мы смотрели что-то, кажется, не совсем приличное – по тем временам – и какой-то видовой фильм о Париже – впервые без зависти и ностальгии: за дверьми был настоящий Париж и экранные грезы стерлись несомненной (наконец-то!) реальностью.
Музей импрессионистов (тогда он был еще в павильоне Жёде-Пом) с огромными фотографиями художников в вестибюле, с увеличенными фрагментами-диапозитивами картин, с палитрами Сезанна и Гогена, и сад Тюильри за окнами, как на холстах Марке.
Берега Сены, которые в Буживале, Лувсьене, Аржантее выглядывали между домами картинками импрессионистов.
Версаль – я ждал его иным. Дворец, с его слепяще-пышными наполеоновскими интерьерами, набитый плотными и озабоченными отрядами туристов, был утомителен, ассоциации не просыпались, и даже грандиозная Зеркальная галерея воспринималась умозрительно. А вот парк удивил, встревожил. Небрежно безграничный, без этого суетного петергофского пафоса, он просто был, усталый, уже потерявший кокетливую стрижку семнадцатого века; статуи хранили трехсотлетнюю патину, вместе темную до черноты и сияюще-зеленую, как та старая краска, что называлась «Поль Веронез». Поблескивал гравий (не песок) аллей, дворец, невысокий, но огромный и благородный, отсвечивал розовато-охристым тусклым серебром. И горделивая голубая с золотом решетка Трианона, горячая от солнца и странно, не по-заграничному пахнувшая гретым железом.
Фонтенбло в струях душного дождя, Барбизон – меловые холмы, совершенно русские березы, кабачок папаши Ганна, дома Руссо, Милле и Коро, каменные хижины; все это было другим в моем воображении и не таким убийственно конкретным. Какими нищими были эти художники. Дом Милле – просто амбар из серых неотесанных камней. До сих пор у меня в шкафу тоненькая брошюра Луи Латуретта «Милле в Барбизоне», изданная в 1927 году и до 1965-го не распроданная, – ее подарил мне хранитель крохотного музейчика с трогательной надписью. Где он сейчас, этот милый, тогда еще молодой Серж Антуан Ришар?
Аскетическая изысканность Музея Бурделя, текучий и однообразный, простите, даже сопливый мрамор Родена в «Отель Бирон» и прекрасная, жестко-великолепная бронза перед ним; великий скульптор показался мне таким разным – от салонных мраморных фигур до этих мощных откровений: «Граждане Кале», «Бальзак»… Нежданное богатство Музея современного искусства (в Пале-Токио) и удивление от тонкости фактуры Модильяни, в репродукциях такого локального, аппликативного, одинакового…
Раннее утро в Les Halles – «чреве Парижа», только там можно было понять смысл этого выражения: тягостный переизбыток, богатство и грязь, страшные и обаятельные персонажи парижского дна, какие-то бурвили, габены, мишели симоны и фернандели. Ажаны в каскетках и пелеринах (в 1965-м еще не отменили эту форму). Кафе «Ле шьен ки фюме (Le chien qui fume)» с изображением этой самой курящей собаки (теперь оно выходит на безлико респектабельный урбанистический пейзаж Форума дез Аль (Forum des Halles), и еда там баснословно дорогая).
Единственный раз попал в какой-то универмаг (теперь я понимаю, что то был «BHV» – Bazar de l’Hôtel de Ville), ждал своих спутников, поражаясь, что есть все, всех цветов и размеров. Из магазинных ощущений остро запомнилась книжно-канцелярская лавка в Арле, где продавались волшебно недоступные ручки неведомой марки «Ватермен» (тогда я слышал только о «Паркере») и роскошные книги по искусству, о цене которых продавец сказал: «Это не для нашего с вами кармана!» А может, мне только хотелось и показалось, что он так сказал.









































