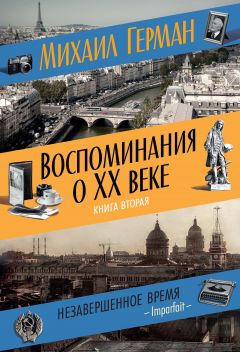
Автор книги: Михаил Герман
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Иное дело сам факультет. Готовили там учителей рисования, черчения и труда – отсюда и уровень. Когда живописцы защищали дипломные свои картинки, желчный, маленький завкафедрой начертательной геометрии разоблачал несоответствие перспективы на холстах законам его науки. Густая тень нормативов, не только «геометрических», но более всего партийных, весьма провинциального уровня, лежала на наших бедных студентах, да и на нас самих. С низеньких, но все же высот деканата и факультетского партбюро сползало на нас не то чтобы давление, серая хмарь.
Какие-то бессмысленные собрания, обязательные политинформации, стенные газеты, митинги по поводу славных партийных юбилеев или съездов, а для коммунистов – вся эта полускрытая, напряженная партжизнь, куда время от времени втягивали и нас, беспартийных: это называлось – «открытые партийные собрания». Странный жанр научных семинаров с обязательным политическим акцентом. До сих пор живо ощущение безумия, абсурда от доклада по «научному атеизму» (кто помнит теперь такую науку!), который мы должны были слушать, и обожженное верноподданным экстазом нервно-чекистское лицо докладчика. Где он теперь? Скорее всего, стал религиозным философом и ратует за православие – фанатику не так уж важно, за что гореть на святом огне.
Каждый преподаватель был куратором, иными словами, «классным воспитателем» курса или группы. Нам вменялось бывать в общежитии, следить за «воспитательной работой». Нынче стали уже забывать, что так называемая общественная работа почиталась куда важнее научной, – самый заслуженный профессор мог быть замечен в «общественной пассивности», и хуже не было обвинения: никакие книги и открытия не спасали. И еще – непременные поездки студентов, а с ними и преподавателей «на картошку». Эта чаша меня миновала, туда «бросали» коммунистов и вообще «активных» людей.
Время от времени устраивались кафедральные пьянки. Это запрещалось и поощрялось вместе, это было нельзя, но, «по-нашему», это «сближало». На бумаге раскладывались немудреные бутерброды, покупали много водки. Я в этих делах участвовать брезговал, чем стяжал всеобщее неодобрение.
Одно из таких гульбищ закончилось советской трагедией. Парторг факультета, не избранный из своих, а присланный для «укрепления идеологии» с партийной кафедры политэкономии доцент, истомленный правильностью своей официальной жизни, напился до зеленых чертей. И – потерял бдительность настолько, что в пылу обнаружившихся, задушенных прежде страстей бросился, неумело и безумно, на пышную, но совершенно тихую и не приспособленную к торопливым служебным соитиям преподавательницу. Это было настолько невероятно и удивительно, что «весь свет узнал», и беднягу выгнали с волчьим билетом, именно тогда, когда он, быть может, единственный раз в жизни начал жить не для карьеры!
В определенный судьбой день ко мне подошел наш партийный активист и стукач: «Вы, Михаил Юрьевич, молодой растущий кадр, идеологический. Пора бы подумать и о вступлении в партию».
Думаю, большинство тех, кто рассказывает, как с горделивым негодованием отвергал подобные предложения, беспардонно врут! «Негодующий и мотивированный» отказ был чреват немедленной расправой, и чаще всего люди если и уклонялись, то под жалкими предлогами, вроде того, что «я недостоин», «недозрел», «не смогу быть полезным». Я был ничуть не лучше, – по счастью, мой собеседник был глуп и не менее, чем я, труслив. Зная это, я спросил: «А став членом партии, я смогу с бóльшими основаниями претендовать на доцентское звание?» – «Ну конечно же!» – подставился он, и я подлейшим образом заявил, что не могу вступать в партию из корыстных, карьеристских соображений. Он так испугался, что оставил меня в покое.
В последние постперестроечные годы бывшие партийцы пустили в ход миф, в который почти поверили многие молодые: мол, без членства в партии нельзя было решительно ничего добиться – ни книгу опубликовать, ни диссертацию защитить, что и заставляло «порядочных» людей вступать «против воли» в члены КПСС. Смею заметить, это тоже наглая ложь. Конечно, карьеры было не сделать, в начальство не пробиться, но и книги печатали, и степени присуждали. Разумеется, партийным было легче. Но тут уж каждый выбирал свое.
Другое предложение было мне примерно тогда же сделано в ССОДе, где я состоял в правлении общества «СССР – Франция». Прямым текстом мне сообщили, что, если я «вступлю», стану ездить за границу каждый год и даром, – нужны все-таки не только рабочие, но и ученые «с языком и умеющие себя вести». Тут, прежде чем уклониться, я помучился.
Но удержался. Впрочем, меня ведь только соблазняли. А если бы припугнули? Скорее всего, испугался бы. Так что гордиться нечем, можно лишь радоваться, что обошлось. И уж во всяком случае, не судить других. Сколько людей вступало в партию от безысходности, надеясь пробиться, получить чуть побольше зарплату, чуть повыше должность.
Везде есть процентная норма. В правлении «СССР – Франции» состояли главным образом рабочие Петродворцового часового завода и другие столь же близкие к Франции товарищи. Председателем правления обком назначил директора Эрмитажа Бориса Борисовича Пиотровского, человека почтенного и знаменитого, но специальностью которого тоже не были французский язык и культура.
Все же требовалось и три-четыре, как сказали бы в двадцатые годы, «беспартийных спеца», в их числе «выбрали» и меня.
В Доме дружбы было приятно и странно: атмосфера избранности, «вхожести», высочайше одобренное общение с иностранцами – привлекательная диковинка по тем временам. Хорошо пахло (редкость для советской конторы), был недорогой, почти изобильный и не хамский буфет, отчасти даже европеизированные приемы, ритуальные речи, наконец, просто поговорить по-французски и даже выслушать комплименты (мне уже случалось заметить, что французы говорят любезности лишь тем, кто знает язык дурно, но старается, а тем, кто уже может болтать бегло, обычно делают замечания).
Некоторые иностранцы простодушно удивлялись: «Странный дом – в одном зале „дружат“ с вьетнамцами, в другом – с американцами…»
Не было штатных стукачей – служившие в ССОДе естественным образом, не скрывая того, принадлежали к охранительным структурам, и в двурушничестве смысла не было. Царила откровенность закрытых учреждений. Единственный раз мне поручили вести какое-то мелкое собрание. Дали шпаргалку. Я многое предполагал, но не такое:
«ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Есть мнение избрать на пост зампреда тов. Имярек.
(Аплодисменты.)
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Позвольте считать ваши аплодисменты согласием?
ИЗ ЗАЛА. Да, да!
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Приступаем к голосованию. Прошу поднять руки. За. Против. Воздержались. Единогласно.
(Аплодисменты)».
И далее в том же роде – «шпаргалка» оказалась пьесой с ремарками. Я даже не удивился, скорее, впал в задумчивость. А собрание провел не хуже других.
Все, кто трудился рядом со мною на ниве укрепления советско-французской дружбы, делились на две группы. Первые – начальники или просто очень партийные и очень «выездные» люди, давно и привычно ездившие с делегациями или в командировки по общественно-показушной или, реже, профессионально-представительской линии. Другие – до течки, до полной потери чувства собственного достоинства – рвались: поехать! Отсюда огромное количество волонтеров, безвозмездных энтузиастов, горящих желанием делать все, что прикажут. А уж походить с французами по городу, «попереводить» («в активе» общества были и говорящие) – от таких и отбою не было. Ведь Дом дружбы предоставлял редкую возможность легального общения с иностранцами, которые могли пригласить в гости, подарить что-нибудь. И вообще было лестно. На приемах удавалось полакомиться дефицитными вкусностями, хорошо выпить и даже поплясать с иностранцами. А референты сетками уносили домой недопитые бутылки и помятые бутерброды.
Пишу обо всем этом со столь открытым раздражением, поскольку вряд ли был лучше (только что еду не таскал!). Может быть, чуть больше гордости и примитивного страха. А кроме того, понимал с полной отчетливостью: здесь беспартийного никуда и никогда не пошлют и угодничать мне не только стыдно, но и бессмысленно. И сейчас с пошлым самодовольством думаю, что не ел «из этих рук». Моих заслуг в том мало, но – приятно.
Можно спросить: если все так стыдно, зачем? А хотелось! Было лестно. Нравилось. Нравилось, в частности, удивлять французов относительно беглым языком вкупе с беспартийностью и знанием этикета – мои «хорошие манеры», над которыми я столь прилежно трудился, вызывая всеобщую иронию, здесь пригодились.
Случались в этом «казенном доме» и события серьезные. Была какая-то протокольная встреча с «испанскими ветеранами». И вдруг приглашенный на «мероприятие» наш генерал-отставник, с давно потухшим лицом былого начальника и нынешнего игрока в козла, клевавший до того носом, рванулся через зал к старенькому испанцу в берете, они плакали, обнимая друг друга, бормоча забытые, ломаные французские слова. Тридцать лет назад они воевали в Испании. И наш генерал сразу забыл о бдительности, о сталинских временах, он ничего не боялся в ту минуту, и лицо его стало живым и странно молодым над покоробившимися уже золотыми погонами давнего отставника.
Весной 1968 года текла какая-то очередная гуманистическая конференция, которую и мне разрешили послушать. Понаехали иностранцы, среди них и чех – журналист, кажется. Он говорил по-французски, я услышал и то, что старательно отфильтровывала осторожная переводчица. Иноземцы смотрели на него с восхищением, кто-то спорил, кто-то соглашался и радовался. Наши «делегаты» читали тексты о дружбе, они решительно не понимали, о чем речь; помню лицо председателя Союза художников скульптора Аникушина, розовое и довольное причастностью к «международной акции», полузнакомые по газетным снимкам физиономии начальников. Светлой тревогой веяло от этого чеха, плохо бритого, воодушевленного, надеющегося. Чехословакия верила в близкую свободу.
Вечером всех посадили в автобус и повезли на прием. На Каменный остров, на «Дачу-К». Этот стратегический объект выстроен был напротив Дома художников на Песочной набережной – низкая вилла на берегу Малой Невки. Похоже на сталинское метро, но на стенах гобелены чуть ли не из Эрмитажа, фонтан на террасе, дорогая некрасивая мебель, дефицитный фуршет по высшему разряду, с икрой, осетриной и шашлыком, вежливые официанты с осторожными лицами начинающих гэбистов.

Военная техника Советского Союза и стран Варшавского договора на улицах Праги. Август 1968-го
«А теперь прошу вас на просмотр фильма „Мосты повисли над вóдами“», – сказала зампредисполкома с ощутимым ударением на первом слоге. Иностранцы, к счастью, Пушкина в оригинале не читывали.
Со мной почему-то разговорился итальянский аристократ граф Морра, величественный старец, прекрасно-уродливый до какой-то особой, резко индивидуальной красоты (как, скажем, Мишель Симон), успевший за время нашей недолгой беседы перекинуться с другими гостями фразами еще на четырех (я считал!) языках, кроме французского, на котором изъяснялся со мной. Он одиноко жил в своем миланском палаццо (я часто вспоминаю о нем, когда смотрю Висконти), судя по всему, был богат, ко всему равнодушен, сохранив интерес только к возвышенным идеям, которым «наивно продолжал служить» (его слова). Обладал забытой любезностью настоящего grand-sеigneur’а. «О мсье, я должен вас сейчас же представить директору амстердамского музея!» – внезапно промолвил граф, в самом деле представил – без тени торопливости – и тут же, почти бегом, припадая на хромую ногу, дернул в уборную. Это было проделано с таким забытым шиком истинно светского человека, что решительно не показалось смешным и вызвало чуть ли не слезы. В этой забавной условности угадывалось рыцарское служение этикету!
Именно там, в Доме дружбы, был я по какой-то оказии в августовский день 1968 года, когда сообщили: советские танки в Праге. Дьявольское ханжество еще и в том, что войска были не только наши, но и польские, и венгерские, и болгарские, и резерв из ГДР – так сказать, помощь братьев по Варшавскому договору.
Уже многое произошло: арестовали и в 1966 году осудили Синявского и Даниэля; в 1968-м шли и другие процессы, знали, что публикуют «Хронику текущих событий», впервые прозвучало имя Андрея Дмитриевича Сахарова (мне, кстати, приходилось слышать не только хвалу или хулу в его адрес, но и растерянные фразы: «Он получает восемьсот в месяц, у него все есть, зачем ему это надо?..»).
«Кровь не льется, нет тотальных арестов», – утешалось великое молчащее большинство, и я вместе с ним. Мне было тридцать четыре, а не двадцать три, как в пору венгерских событий, иллюзий не оставалось, и самого скромного нашего знания было достаточно, чтобы понять если не масштаб, то необратимость и серьезность беды. Референт в Доме дружбы, человек опытный и циничный, был спокоен. «Войны не будет, – сказал он. – Покричат и утихнут». В те годы главной человеческой тревогой была возможная война. Ею нас запугали с фултоновской речи Черчилля, и мне приходилось уже вспоминать заключительную фразу володинской пьесы: «Только бы войны не было!» И если наступали международные сложности, в первую голову думали не о нашей вине или жестокости. Спрашивали других и себя: «Пронесет?» Об этом думал и референт. Он оказался прав: Запад и на этот раз не решился с нами ссориться. А гнев общественности – кому в СССР было до него дело.
Однако демонстрации (всего несколько человек!) на Красной площади всех удивили. Помню свою реакцию, очень болезненную. Я давно жил с ощущением, что «с божией стихией царям не совладать», что мирюсь с нашей реальностью не просто из-за своей трусости, а потому, что сделать все равно ничего нельзя. Мы ведь привыкли – сажали миллионы невиновных, в принципе-то против режима никто и не выступал. А тут – выступили. И не себя защищали, как отчаянные и отчаявшиеся люди в Новочеркасске (июнь 1962-го), а незнакомых им чехов и словаков. И собственное покорство увиделось снова – при ярком солнечном свете. «Голоса» беспощадно глушили; все же удавалось узнать реальные подробности суда над демонстрантами – «процесса четырех», которых в наших газетах называли хулиганами и наймитами западных спецслужб. Скоро посадили в психбольницу мятежного генерала Григоренко. Нет, я не ринулся в диссидентство, только жить стало гаже и стыднее. Тем более причин было заниматься своим, достаточно удаленным от сиюминутных страстей и горестей делом – писанием.
В середине 1968-го вновь застучала бодрее и веселее моя «Колибри».
Еще во время студенческой практики я влюбился в Альбера Марке, возмечтал написать о нем – без всякой надежды: тогда это было столь же нереальным, как написать правду о соцреализме. Время, однако, шло, робко приближаясь к некоторому здравомыслию, и в нашем отделении «Советского художника» со мной заключили договор на небольшой альбом о Марке. Мало о ком писал я с такой любовью, живопись не так уж часто восхищает меня глубоко, но Марке я понимаю. Его суровая изысканность, божественная лаконичность и простота, застенчивая страстность, с которой он смотрит на Париж, близки мне бесконечно. Конечно, писать о художнике, которым восхищаешься, дело неблагодарное: анализ и точность суждений подменяются панегириком, возникает вместо портрета – икона, а главное, читатель видит не особливость художника, но с досадой узнает, что и этот – лучше всех. Что-то мне все же удалось, но альбом надолго зачах в издательстве и вышел не скоро, только в 1972 году.
Главный же смысл моего писательского существования заключался, однако, в сочинении новой книжки для «ЖЗЛ». Издательство, утомленное моими французскими руладами, согласилось на новый договор со мной, при условии, что художник будет иной нации. Им стал англичанин, естественно Хогарт, ни один другой английский художник на «замечательного человека» не тянул, к тому же мои лондонские впечатления основательно подогрели мой интерес к этому персонажу.
В моей жизни книжка существенная.
Не в том дело, каким был Хогарт. Важно, каким в ту пору стал я. Наверное, дошел до нехитрой мысли, что нельзя писать хорошо, как все. Что лучше писать, как я сам, и тоже, по возможности, хорошо.
Сказать, что нашел собственную интонацию, сейчас не рискнул бы. Но хотя бы старался отказываться от чужих. А главное, перестал прятать свои мысли от читателя и выдавать придуманное за реальное. Вообще писать правду куда легче, чем выламываться. Разумеется, понятие «писать правду» относится здесь не только и не столько к фактам, сколько к собственным ощущениям. Казалось бы, чего проще, высказать предположение и сообщить читателю, что это не более чем оно, предположение. И вроде бы примеры были мне известны. А вот понадобилось десять лет, только чтобы приблизиться к нехитрой этой истине. И научиться – хоть как-то – писать от себя.
Книжка заговорила еще кокетливым и ломающимся, но все же моим голосом. Набравшись храбрости и, конечно же, прямо подражая Булгакову, я напрямую обращался к своему герою – «Что сказали бы вы на это, мистер Хогарт, сэр?» – стилизации у меня получались.
Хогарт был натуральным снобом, не обладал большим вкусом, гениальность смешивалась в нем с суетностью и вполне британской спесью, он написал несколько шедевров и множество плохих и даже банальных картин. На этот раз у меня хватило ума и опыта не скрывать ни его неприятных качеств, ни моего к ним отношения.
Писалась книга о Хогарте куда тяжелее, чем прежние – о Домье и Давиде, но все же легче, чем несостоявшаяся о Ватто. Я подзабыл английский, а тексты приходилось читать труднейшие – язык восемнадцатого столетия был мне почти невнятен. Зато школу прошел хорошую. Каждая гравюра Хогарта требовала подробнейшей и непростой расшифровки. А писать про Англию было приятно, у меня накопилось много детских романтических эмоций, вовсе не отягченных болезненными парижскими проблемами. Как кажется мне, книжка получилась вовсе недурной, как нынче бы сказали – «стильной». Впрочем, когда в 1971 году «Хогарт» вышел, ни одной рецензии на нее не появилось, и реакция читателей осталась мне неизвестной.
С 1967 года вновь взялся за дневник. У меня обращение к письменной рефлексии редко возникало «от хорошей жизни». Скорее от внутренней сумятицы, желания разобраться в себе, лишь отчасти ради того, чтобы сохранить уходящее.
Мой тогдашний многолетний роман, долгий, поначалу пылкий и романтический, казавшийся тогда исключительным, единственным, чрезвычайно сложным, был, как и все у меня, книжным, выдуманным и, разумеется, мучительным: без этого я не умел. В дневнике я перебираю маленькие обиды, пустяковые сомнения и печали. Все казалось подлинным, а на самом деле – черт знает на что уходило время: вместо того чтобы радоваться течению дней, я печалился, что текут они не так. Похоже, тогда, в конце шестидесятых, мое существование состояло из бесчисленных мелочей личной жизни, постоянного нездоровья (я вечно боролся с большими и мелкими недугами), вялого писания «Хогарта» для «ЖЗЛ», суетливого и жалкого ожидания заграничных поездок, беготни за диапозитивами для лекций, хождения на собрания и бесконечной микроскопической суеты. Тогда никто не знал слова «застой», в газетах болтали о «разрядке». А слово отличное и к моей тогдашней жизни подходило с пугающей точностью. Казалось, что-то происходит. А не происходило ничего. Кроме постепенного разрушения души.
Звучит претенциозно и капризно: заграничные путешествия не помогали. Не совсем так, я мучился из-за того, что чувствовал свою неблагодарность. Смешно было бы благодарить добрые власти, нет, в ту пору благодарить надо было только судьбу.

Трамвай в Брюсселе. Фотография автора. 1969
Бельгия’69. Обе мои поездки – и во Францию, и в Англию – привели меня в восхищение, но подействовали они на меня иначе, чем путешествие в Бельгию.
Тогда, в 1969-м, при всем моем пылком интересе к тому, что я хотел в Бельгии увидеть, я не болел этой страной и не было в воспаленном моем сознании собственного Брюсселя или Гента, как был свой Париж и даже свой Лондон. Наконец что-то стало мерещиться на Западе не вполне книжное.
Впервые увидел и услышал я страну, о которой не создал мифа, не имел обычного «олитературенного» ее образа. С Бельгией, конечно, связана история Уленшпигеля, для меня он был не персонажем многочисленных средневековых легенд, только героем любимой с детства книжки Шарля Де Костера «Легенда об Уленшпигеле и Ламме Гудзаке, и об их приключениях отважных, забавных и достославных во Фландрии и иных странах». С Бельгией связана и прекрасная живопись старой Фландрии, еще более старых Нидерландов, все это было интересно безумно, но детскими ассоциациями не искрилось.
О Брюсселе я знал и вовсе мало. Его просторные современные улицы, дыхание богатства и спокойной обустроенности вкупе с некрасивой безликостью словно бы нью-йоркских окраин, тяжелая реклама «Мартини», полыхавшая ночью над небоскребом у вокзала, рядом с которым в убогом нечистом отеле «Сплендид» мы жили, окончательно и жестоко убедили меня, что есть не только книжная заграница. Класс отеля определялся и тем, что в него пускали африканцев, – в Бельгии не забывали о колониальных нравах, и темнокожие постояльцы были агрессивны и раздражены. В рекламе шоколада со старательной и сладкой ласковостью показывали детей разного цвета кожи, страна же заметно тосковала по былому колониальному величию.
Город светился довольством, веселое многолюдство кафе напоминало о Париже, но не было здесь узнаваемой истории, это притягивало и мешало. В диковинку были желтые чистенькие и бесшумные трамвайчики, входящее в моду порнокино, богатство еще более безлюдных и пышных, чем в Париже, магазинов.
Драгоценная готика пряталась в островки-заповедники, как знаменитая великолепная черно-золотая в убранстве гильдейских знамен Гран-Плас. Но именно здесь, в Брюсселе, в Королевском музее изящных искусств впервые я с волнением неофита смотрел на портреты Рогира ван дер Вейдена, их потом я видел в Бельгии немало. Эти обожженные обузданными страстями лица вандервейденовских рыцарей на черных, с изумрудными сполохами, фонах, словно бы живая (почти как у Ван Гога) филигрань шитья, цепей и кружев, мертвенно-страстные глаза, застывшие черты отважных и гордых людей!
Впервые именно в Брюсселе я увидел выставку, сделанную смело и современно: не просто собрание картин, а произведение экспозиционного искусства с определенной и талантливой режиссурой (нынче сказали бы: с кураторской концепцией). Исполнилось триста лет со дня смерти Брейгеля, и в Королевском музее открылась посвященная этой дате ретроспектива. В Бельгии, как ни странно, подлинников Брейгеля мало. А выставку сделали великолепно: документы в витринах, эффектно поданная хронология, фоторепродукции (черно-белые, чтобы никак не спорили с живописью) самых знаменитых работ Брейгеля в натуральную величину, многократно увеличенные фрагменты на цветных диапозитивах, выгородки с тематическими экскурсами и нидерландская музыка XVI века, звучавшая в залах тихо и непрерывно (кассеты, как и, разумеется, диапозитивы, можно было купить тут же). У нас тогда о подобном не слыхивали. Мне казалось, Брейгеля я представляю себе хорошо, а тут все открылось заново.
Мы проехали через города старой Фландрии.
В Антверпене ощутил я и тревогу – он слишком просторен, многозначен, словно сопротивляется взгляду. Его окраины не по-бельгийски пустынны, тоскливы огромные – хотя и вполне аккуратные, досмотренные – пустыри, за которыми растут к дымному небу однообразно элегантные билдинги – многоэтажные жилые дома, гигантские алюминиево-серые газгольдеры, перечеркнутые легкими диагоналями лестниц и обведенные сверху венцом почти невидимых перил, а чайки, скользившие в мглистом небе, напоминали заглавие нашумевшего когда-то у нас бельгийского фильма 1955 года – «Чайки умирают в гавани». Они были серебристыми – светлее облаков, кричали пронзительно и горестно, напоминая о близком море, особенно когда парили над переплетением мачт и разноцветными трубами стоявших у причалов огромных судов.

Питер Пуль Рубенс. Снятие с креста. 1610–1614
Шельда, Эско, «широкая, как Нева», говоря словами Блока, разрезала город, лишенный мостов. Берега, соединенные лишь подземными туннелями, казались потерянными друг для друга. В реке стояли океанские корабли.
С высокой террасы, тянущейся над Шельдой, открылась просторная и ясная, как на пейзажных фонах Яна Ван Эйка, панорама города. Здания и башни и в самом деле чудились прорисованными уверенной и нежной кистью, рукою живописца, знающего цену точной и поэтической вместе с тем линии. Плывущий с реки туман смягчал суетные надписи на старых стенах темнеющего кирпича, и рекламы «Стелла Артуа» или «Мартини» казались неким орнаментом двухсотлетних фасадов выходящих на набережную домов. И дальше – сам знаменитый собор Антверпенской Богоматери (по-фламандски – Онзе-ливе-Враукерк), исполненный угрюмого достоинства, угловатый, стройный, царственный. В нем – и тяжесть, и изящество, я сразу вспомнил слова «каменное кружево», которые произнес по поводу отделки изысканной его башни (вторая недостроена) Карл V. Впервые произнесенное, это выражение еще банальностью не казалось.
В этом соборе открыл я для себя трагического Рубенса.
«Снятие с креста»: мертвое тело, застывшее в не завершающемся никогда падении, жгучие багровые и пурпурные оттенки, факелом горящие в ночи, спустившейся на Голгофу. Огненные всполохи мерещились на каменных плитах пола, на пучках узких готических колонн.
Ночью над горделивой башней Антверпенского собора, опоясанной красными огнями, улетала в ночь «каравелла», сигнальные лампы и охраняли старую колокольню, и указывали самолету путь, на мгновение примиряя отчужденные друг от друга века.

Гент. Старый город. Вдали – церковь Святого Николая и колокольня. Современная фотография
В Генте, в соборе Святого Бавона, перед небольшой толпой служитель то распахивал, то закрывал створки прославленного алтаря Ван Эйков, – наружные створки почти монохромны, пронзительные и одухотворенные предметы бытия и быта написаны на них с не меньшим тщанием, чем лица Богоматери и Гавриила: и умывальник с полотенцем, и городские, сбрызнутые предзакатным солнцем крыши, видимые сквозь окно. А раскрытый алтарь – взрыв невиданной яркости красок (тогда масляной живописи еще почти не знали), и можно представить себе, как ждали жители Гента праздничных дней, когда можно было любоваться этим зрелищем, ослеплявшим, словно распахнутый на солнце ларец с драгоценностями. В тот осенний сумеречный час этот изумруд, эти золотые лучи лились мне (так и было, и вовсе не стыдно так написать) в сердце, я был избранником, я был счастлив. Все было словно для меня одного: и волшебство внешних створок с одухотворенными мелочами, со стремительным полетом птиц за нежно прорисованным окном, и лица грешных ангелов в центре алтаря, и эти золотые солнечные нити-лучи, льющиеся на землю из нимба, окружающего голубя – Святого Духа.

Гент. Набережная Лиса. Фотография автора. 1969

Брюгге. Современная фотография
А эти древние гильдейские дома на набережной Лиса под бледным фландрским небом, словно слитые воедино временем, похожие на кусок каменной парчи, отливающей то темным золотом, то серебристой чернью, чьи отражения чуть вздрагивают в мутной спокойной воде, и далеко во влажном тумане грузный и зловещий призрак графского замка.
И там же, в Генте, впервые в Европе слышал я, как горько, совсем не по-заграничному, громко, «по-бабьи» рыдала, плакала, «ревела» женщина, выкрикивая хрипло невнятные мне голландские слова, и надменные призраки Альбы или Якоба ван Артевелде таяли рядом с этой короткой, такой земной, нынешней бедой.

Брюссель. Атомиум. Фотография автора. 1969
Старинные города я теперь видел не только как памятники архитектуры и хранилища великого искусства. Впервые за благородными развалинами аббатств и замков, за веселой геральдикой реклам я разглядел Европу не просто нарядную, богатую, ухоженную и до мелочей цивилизованную, но Европу маленькую и беззащитную. Здесь, где люди отвыкли от лишений, где каждый кусочек земли или мостовой драгоценен, не просто потому, что стоит миллионы франков, но потому, что в него вложены труды и заботы поколений, здесь дыхание нищей и вооруженной до зубов России и в самом деле чудилось вполне реальным кошмаром. Случись Большая война – именно эта, самая обжитая Европа, беззащитная из-за самой своей малости, скученности, хрупкой комфортности, обратится в «прах и туман».
Удивляла и малость Европы – особенно ощущалась она «на перекрестке» стран: мы оказались у будки таможенника в местечке, где соединялись границы Люксембурга, Франции и ФРГ. Я робко сказал люксембургскому пограничнику (таможеннику?): «Здесь, конечно, нельзя снимать!» Он лениво удивился: «Вы что, мсье, не умеете фотографировать?» Потом нас пустили «прогуляться во Францию», мы прошли до следующего – французского – пограничника, который, вместо того чтобы потребовать документы, просто поздоровался, лениво и добродушно. Сизые сумерки начинали сгущаться, французский красный тент с надписью «Café» виднелся в деревне. Тогда еще никто не знал слова «Шенген», и переход пешком через границу без виз и даже без предъявления паспортов чудился шуткой легкомысленных полицейских.
В Брюгге, подобном странному, тягучему сну, в Брюгге, где все принадлежит Мемлингу, истории, каналам, где пыльно-золотистый камень старых зданий, соборов и беффруа вечно окутан влажным туманом, в вестибюле недорогой, но респектабельной гостиницы «Гранд-отель дю Саблон» увидел я кресло, видимо ненадолго оставленное неким постояльцем. В кресле спокойно и уютно лежали книга, заложенная очками, и трубка, пахнущая еще не остывшим сладко-горьким табаком. В этой гостинице просто жили. И Брюгге – для кого-то – город небольшого делового путешествия, где коротают (!) вечер за книгой, где длится обычная череда буден. Немыслимо… И медлительная прогулка по каналам, когда черная вода нехотя расступается перед носом катера, а навстречу плывут темные, навсегда отсыревшие стены домов, по камням спускаются темно-красные побеги дикого винограда, а ветви деревьев, нависших над водою, чудится, можно потрогать рукой.
В маленьком и лощеном городе Динан я впервые увидел совершенно неведомое, редкое для советских людей лакомство – отличный американский триллер. В фильме была печаль, неприкаянность, одиночество суперменов, бессмыслица победы – всеобщая печаль Запада.
Самым странным показался мне Люксембург. Я ничего не знал ни о крохотной этой стране, ни о ее столице. Ничего знакомого не было там, но словно бы квинтэссенция усредненного, отчасти сказочно-романтического, отчасти филистерского, «вообще европейского» города делала все трогательным и известным. Вроде декорации Акимова к пьесе Шварца. Там видел я странное – как великая герцогиня Жозефина Шарлотта, немолодая уже дама, оставив роскошный свой лимузин у запрещающего знака, шла пешком по мостовой ко входу в музей, чуть даже спотыкаясь на каблучках-шпильках. Простое приличие казалось нам разнузданным демократизмом.
И в ту же поездку – невиданно! – мини-юбка – впечатление, мало уступающее эротическим фильмам. Ими наша интеллектуальная группа была сильно увлечена. В последний вечер перед отлетом, во время прощального ужина, художники нервно поглядывали на часы, боясь опоздать на последний сеанс. А ночью молодой армянин-живописец в алой, только что купленной «фирменной» рубашке, ходил по тротуару у входа в отель, бормоча: «Как мне чего-то хочется!..»
Из Бельгии я привез себе зонтик-трость – самый шикарный и дешевый, какой можно было отыскать в Брюсселе, – болезненно модный и еще очень редкий у нас предмет. И растерянные мысли о Европе.
Вспоминая ту давнюю Бельгию шестьдесят девятого, думаю и об июле 1997-го, когда я уже в иной жизни приехал (вернулся, если угодно) в Бельгию. Хотелось спустя почти тридцать лет увидеть Старую Фландрию, о трех городах которой я рискнул написать книжку («Антверпен. Гент. Брюгге», 1974) и в которой открыл для себя живую, не книжную, сегодняшнюю Европу.
К 1997-му Брюссель изменился, чудилось, в нем стало меньше старины, но, скорее, слишком много появилось новых билдингов, просторных проездов. Но не столько не узнал я страну, сколько – себя в ней. Ощущение личной свободы, отсутствие «товарищей по группе», не говоря о штатном стукаче, возможность жить по собственным, пусть и не слишком значительным, средствам – все это словно бы делало «западную жизнь» не столь чудовищно отдельной, как почти тридцать лет назад. Ведь именно в Бельгии я тогда особенно остро ощущал эту нашу искусственную нищету, воображение мое не так, как в Париже или Лондоне, занимали призраки былого и книжные ассоциации, и была унизительна и обидна невозможность выпить кофе или купить входивший тогда в моду томительно-прекрасный комплект «parure» – галстук и платок из набивной, изысканно яркой ткани, да что там галстук – хотя бы лишний раз проехать две остановки на трамвае.
Как ни переменился Брюссель, но Гент, Брюгге остались прежними. Я мог прикоснуться к их камням, кататься на катере, сидеть в пивной, стоять перед картинами Мемлинга. И странно – эта «несказочность», обыденность старых городов, их суетная туристическая жизнь, это обилие времени, которым я распоряжался сам, – все мешало моему восхищению. В Генте, стоя перед божественным алтарем Ван Эйков, о котором мечтал, рассказывал студентам, я, скорее, ощущал зависть к тому совсем молодому, совершенно нищему, порабощенному советской дисциплиной самому себе… Я все это пережил, пересказал, описал, они прошли сквозь мою жизнь и ушли, и более я не мог владеть ими. Странная была поездка – потом я бывал во Фландрии, но это ощущение – неясного и горького откровения – осталось жестким и непонятным воспоминанием. Гениальная фраза Трифонова, которую я так часто цитирую: «Жизнь – постепенная пропажа ошеломительного» – лишь отчасти объясняет то, о чем я пишу.
После переезда на новую квартиру был, естественно, подъем, жизнь разменивалась на действительно приятные, даже счастливые мелочи, что-то образовалось. Огромным событием, даже переворотом стал роман «Мастер и Маргарита» – каково было прочесть его впервые на исходе четвертого десятка, зная и Германа Гессе, и Томаса Манна!
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































