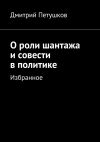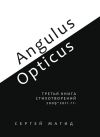Читать книгу "Избранное"

Автор книги: Михаил Пузырев
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Среди нас был лепило-врач с медицинской сумкой, тоже зэк. Звали его Юрий, отчество и фамилию я запамятовал. Помню, как этот молодой человек с больной и распухшей рукой пытался уколами взбодрить умирающих, а сам еле передвигался. Спасибо тебе, Юра. И на живодерне он был человеком.
Освободился он из лагеря в 1945 или 1946 году. Жил в поселке Пукса-озеро, не знаю, сколь долго. Женился на местной учительнице или медичке, не русской по национальности. Имени ее я не помню.
Юрий был феноменально остроумен и весел в общении. Любую мысль он выражал метафорой, блестящим коротким анекдотом, всегда изящно, коротко. Сберег ли он себя в этой трудной жизни, с таким умом и эмоциями, – не знаю. Боюсь, что нет. Такие натуры излучают себя без остатка или разбиваются.
Пукса-озеро – отечество моеИ в долгой жизни человека, не живущего оседло, есть места, к которым он привязан душой и сердцем. И до смерти в нем не угаснет беспокойное желание еще и еще раз побывать там, пройти знакомой тропкой-дорожкой, посидеть на знакомой скамье, обнять дерево своей юности, напиться воды из своей речки, колодца, насладиться сентиментальным состоянием души и тихой скорбью о невозвратно ушедшем.
Бесподобный Александр Сергеевич воспел Царское Село, отождествив его с Отечеством. У многих в жизни есть что-то подобное.
Для меня же мое «Царское Село» – это лагерная зона с колючкой и вышками по углам на семнадцатом километре гулаговской железной дороги (не МПС), на берегу славного Пукса-озера в Архангельской области. А Отечество мое – ГУЛАГ.
Я отдал ему 20 лет своей юности. Это моя последняя зона содержания под стражей и одна из лучших за долгий срок неволи. Из нее я вышел на свободу.
Пуще всего мне хочется войти в арестантский барак в этой зоне, залезть на знакомые нары, вновь ощутить все пережитое и сказать всем, кто был со мной в ту пору: «Друзья мои, мои милые люди, я не подозревал, что так сильно вас люблю».
Я пережил многих из них. Одни были старше меня, другие – слабее здоровьем, третьи отчаялись и погибли молодыми. Кое-кто говорит об отсутствии предприимчивости у русского народа. Это неправда. Вот примеры другого свойства.
Миллионы рабов ГУЛАГа, загнанные в таежные районы страны, вдали от промышленности, быстро обустраивали свои соцгородки-зоны. Как правило, это зоны на 2000, 1500 человек. Частокол с колючкой и вышками. Автономное электрообеспечение, производство кирпича, лесоразработки и сплав, лесопиление и строительство жилья, пекарни и бани, лагерные лазареты и сельскохозяйственное производство продуктов питания. Все возникло на пустом месте, быстро, из ничего. И это в тридцатые и сороковые годы.
Правда, у министров внутренних дел никогда не было недостатка в специалистах всех отраслей и всех рангов: от докторов наук до ювелиров, поэтов, крестьян и каменотесов.
Теперь приходится удивляться, почему люди той же этнической группы не способны убирать урожаи и даже не могут вовремя разгрузить суда и вагоны с пожертвованными нам товарами.
Я был узником многих зон и выжил не благодаря, а вопреки. Не вздумайте меня жалеть, я – счастливый избранник Фортуны. И не меньше.
Приглашаю вас в спутники моей памяти… В яркий, теплый день июня трактор с волокушей остановился у ворот зоны. Знакомая архитектура. У ворот столб с подвешенным куском рельса, вышки, частокол. В зоне много ветхих каркасно-засыпных бараков. Зона древняя, хорошо обжитая.
Из-под стены ограждения выбегает бойкая речка и ныряет под высокий, малой длины железнодорожный мост. Высокое земляное полотно закрывает горизонт. Зато с другой стороны, на возвышении, сложная громада корпусов и труб целлюлозного завода.
Принимать этап собралось много начальства и медиков. Врачи пристойного и опрятного вида. Мы с большим трудом сползаем с волокуши. Требуются носилки, есть умершие и не ходячие.
Процедура учета и приема закончена. Мы в секторе медицинском. Стационар для больных, хирургический барак. Всюду чисто. Даже чисты и опрятны тротуары между бараками. Такое потрясение от радости давно не переживал. Оказывается, есть жизнь иного содержания. И люди иного настроения. Захотелось петь, громко и торжественно.
Если бы не чувство голода, все было бы отлично.
Но это не проходит никогда. Все клетки тела просят пищи и покоя. С этим нет сил бороться. Опять я стал весить 40 кг. Меня после бани положили в стационар. Я на кровати, на матрасе, под одеялом, и у меня есть подушка! Я щупаю железо кровати, боясь проснуться. Я знаю, что ни сегодня, ни завтра не придет сюда нарядчик и не закричит: «Выходи на работу». И не верю, что это так и есть. В этой зоне совсем никто не кричит. У них и изолятора нет на колонне. Посадить некуда. Странно и радостно. На колонне свободно ходят приличного рода женщины, их целый барак, человек сто. Голод убивает радость. Я опять, как тогда на колонне Крячуна, глажу свои худые руки и жалею их.
Вероятно, я все же уснул. Утром врачебный обход. Все серьезно и взаправдашно. Болезни нет. Дистрофия, пелагра. Розовая смерть при ломкости капилляров. Отдыхать.
Какая красивая бывает смерть! Розовая. Я не знал.
В лазарете обилие книг с интригующими названиями. Все то же чувство голода не дает сосредоточиться в чтении. Тело и мозг хотят жить. Они требуют пищи. Паек кажется ничтожным.
Я со страхом обдумываю, как трудно мне будет жить на свободе с этим не проходящим чувством голода.
Через неделю, может, чуть больше, доктор Шапиро произнес сестре у моей кровати: «Нахераус». И я понял, что меня выпишут.
Я был включен в смешанную бригаду, где были двадцать молодых женщин и десяток мужчин. Бригада работала на заводе, на сырьевой бирже, корила баланс на механических машинах. Работа не очень тяжелая, но в заданном ритме – и прохлаждаться не приходилось. Женщины, работавшие со мной, были осуждены уже в период войны по бытовым статьям УК.
Мы, старые зэки, не оценивали виновность людей, буквально понимая, что «от сумы и от тюрьмы не спрячешься».
Целлюлозный завод был иного ведомства и министерства: НКВД предоставляло сюда рабочую силу в любом количестве. Следует думать, что это было политическое директивное соглашение, а не коммерческо-хозрасчетное. Вся промышленность страны именно так работала десятки лет.
Собственным производством Карлага здесь было лесозаготовительное, железная дорога протяженностью до 100 км, скромное железнодорожное депо и центральные ремонтные мастерские с хорошо квалифицированными кадрами. Был еще плохо механизированный керамический кирпичный цех.
Вскоре я перешел работать в мехмастерские и стал жить в одном бараке с замечательными людьми. В первом, налево от входа, в углу стоял шкаф бригадира Бориса Васильевича Цетельмана. В нем сохранялся пайковый хлеб. Тут же находилось скромное ложе Бориса.
Если для японцев чаепитие – ритуал, то для узников ГУЛАГа начисление, получение, поедание пайка хлеба было жреческим священнодействием, за которым наблюдали одновременно сам сатана и сам Бог.
Голод унижал, мельчил, искушал и полностью разрушал личность. Если вы хотите его победить, прекратите свою жизнь. Другого не дано. Кто создает голод, тот обретает могущество, власть.
Моими соседями, друзьями, товарищами по работе были замечательные люди. Борис Линник – художник-гравер, Василий Говоров – летчик, Миша Штромберг – немец, резчик по дереву (мы с ним рядом спали). Удивительно удобный человек. Спокойный. Много читал и не суетился. Это о таких говорят: настоящий интеллигент. Иван Казаченок – слесарь-ювелир, часовщик. Много мы с ним зажигалок произвели и нагуляли жирок, снабжая вольный люд этой нужной машинкой.
Были там российские немцы, отбывшие срок наказания, но продолжавшие вести подневольную жизнь лагеря. Были замечательные, интересные, разные и, как правило, незаурядные ребята. Они все казались мне лучше меня, за что я их и люблю.
Восемнадцатилетний Костя Ковалев. Музыкант, большой поэт. Красив, удал, казак донской. Сильное литературное дарование. Я освободился раньше его на полгода. Он нашел меня уже на вольной квартире и очень завидовал, что я имею возможность работать с книгами, особенно с поэзией.
Сам он рвался домой. У него где-то в Сальских степях жили родители, сестры, по которым он очень скучал. Я его предостерегал от нарушения режима проживания в ссылке, но он уехал домой. Сохранил ли он себя, не знаю. Таких талантливых жизнь плохо оберегает.
В часы ничегонеделания я занимался рисованием акварелью, но сложно было с бумагой и кисточками. Художник без подготовки из меня не получился, но занятие художеством облегчало сознание невольника. Творя и фантазируя, неволи не ощущаешь.
Я думал, что из нашего этапа карельского лагеря ББКа я остался один. Но нашелся еще один зэк, а через год еще. Тот, первый, отсидев семь лет, получил еще десять, видимо, за то, что не пылал преданной любовью к правительству. Имя его Яков Васильевич Мисюк. В карельской Шале он был хозяином на техническом складе и по личной инициативе в летнюю пору всегда имел там бочонок хлебного кваса собственного производства, и все мы охотно его пили. Здесь же он находился в ужасных условиях полной изоляции и от воли, и от людей в зоне. Все боялись с ним общаться. Вскоре Яков Васильевич безвестно исчез. Он был мрачен, зол. Из не смирившихся. Таких Бог не бережет.
В основных цехах целлюлозного завода работали вольные люди и интернированные немки (немцев-мужчин здесь не было). Какова работа? Оценил. Не хуже, чем в Германии. Большая контора отделения Каргопольлага находилась здесь, в заводском жилом поселке.
Отдел механизации возглавлял ленинградский грек – инженер Андрей Мавромати. Очень общительный и симпатичный человек. Механическими ремонтными мастерскими руководил инженер-машиностроитель Зайцев. Железной дорогой и ее кадрами – еще один окололагерный специалист. Машинисты паровозов (их было четыре: один серии ЩЭ (щука), один В (пассажирский) и один ОВ (овечка), тот самый, который снят в кинофильме «Путевка в жизнь»), были также два мотовоза. В службе движения, службе пути, стрелочники и составители – все заключенные с правом бесконвойного передвижения в пределах рабочего маршрута.
Все эти работы не были легкими, но считались очень привилегированными из-за свободы передвижения. Кто был в неволе, тот знает цену свободы. Я испытал это. Судьба не всегда злодейка. Довольно редко зэкам по политическим статьям давали пропуск на бесконвойное хождение. В мае, когда мне осталось полгода до освобождения, я вдруг неожиданно получил такое право.
Блаженны страждущие! Аминь! Все лето я чувствовал себя счастливым, работая кочегаром на паровозах. Топили мы их дровами, сами грузили с бровки насыпи на тендер, иногда с лесного склада. Было нелегко, но здорово. Особенно ценил я возможность собирать в лесу грибы, ягоды, малину, смородину. Осенью воровал картошку с лагерных сельхозполей. К моему освобождению 14 декабря 1944 года я был нормальным, здоровым человеком.
За возможность собирать ягоды и грибы с нарушением границы установленного маршрута и времени, конечно, приходилось платить вертухаям на проходной пошлину, оброк. Его доля зависела от их настроения и количества. Приходилось хитрить, угадывать, когда там один вертухай.
Возразить охране – значит потерять право на бесконвойное хождение.
Перед славой, известностью мы все одинаковы. Не выдерживаем испытания ею. Она нас манит, и мы карабкаемся, ползем к ней, не всегда выбирая пути и приемы. Часто авторитеты, как говорят, «мыльные пузыри», но они живучи потому, что мы их желаем видеть, наблюдать, и если можем, то и подражать им. Вот пример из моей биографии. Я придумал себе другое имя. В том была нужда, чтобы скрыть кулацкое происхождение. И только. Но это отражалось на моей жизни по-разному и порой неожиданно.
В полку, в школе меня узнал курсант и сообщил о том в органы надзора. Через год меня арестовывают, судят и содержат как преступника. Все логично и правильно. Нелогичное дальше. И о нем хочется рассказать.
В истории криминалистики есть немало случаев, когда узники менялись местами, формулярами. Это довольно легко можно сделать при частом этапировании в другие места содержания. Чтобы этого не случилось, при всех этапных приемах и сдачах, при генеральных шмонах и учетах заключенный должен уверенно доложить все данные его лагерного формуляра: статьи УК, сроки наказания, кем и где осужден, фамилию, имя и отчество. Если человек привлекался по фиктивному имени, то он докладывал это имя, если дважды, то два имени…
Поступление нового этапа в зону – это событие. Его встречают все очень взволнованно. И уж если ты хоть немного «граф Монте-Кристо», то уж повышенного к себе интереса не избежать. Воры в тебе ищут бывалого «фартового», шулера-игрока, контрики – одностатейника, земляка, придурки и суки – чем поживиться.
Много информации дает твой вид, поведение, одежда. За 25 лет сушествования ГУЛАГ так и не смог утвердить арестантской формы, хотя все домашнее не разрешалось, отнималось.
Ворота первых пересылок я проходил в приличной армейской форме, в летнее время – в небрежно накинутой на плечи кавалерийской шинели. Солдаты охраны хотели знать, из какого я рода войск. Лагерный шалман предполагал во мне нового нарядчика. Нарядчик всегда был из зэков, но его могущество было велико, если он того хотел. Через день, когда я шел в колонне на общие работы, все прояснялось для бывалых зэков. Я котировался как контрик и фраер. «Черт», обреченный на загибаловку, по старому – на смерть через истощение. Фраер я был чистой воды. Я даже не обратил внимания, что из центральной усадьбы столицы Беломорканала, Медвежьегорска, я был пешим этапом доставлен за 80 км на глухую колонну строгого режима. Этим я обязан тому, что в моем формуляре кроме имени Михаил Дмитриевич Пузырев было еще одно имя, что стояло после слов «Он же».
Это обстоятельство очень осложняло мое пребывание в заключении. Мне не раз приходилось бывать в бригадах строгого режима, и ореол графа Монте-Кристо хотя и ходил со мной, но не компенсировал неудобств. На шпану это действовало, и я ими был принят и не обижен.
Вот как по-разному авторитет влияет на жизнь. Только после освобождения я избавился от своего двойника, но в архивах сыска оно сохраняется.
Я вижу один и тот же сонЧем слабее и наивнее люди в неволе, тем охотнее они мечтают о приключениях в условиях свободы. Начиная отбывать свои сроки, они думают о теплой половине года, о солнце и тепле за пределами стен тюрьмы и ограждений лагерных зон.
Они, как правило, не понимают, что не сложно осуществить побег и оказаться за пределами надзора охраны и конвоя. Трудно выжить первую неделю в условиях скрытности, сохранить силу для передвижения, уметь при этом отдыхать, бороться с голодом, не вызывать подозрения своим видом и поведением. «Зеленый прокурор» дает мало комфорта для этого. Сырость, холод, летний зной, овода или комары, неумение жить в условиях дикой природы через два-три дня обессиливают беглеца.
Бывшие жители городов, физически ослабленные неволей, при плохо подготовленных побегах, особенно групповых или «нарывок», как правило, через неделю бывают пойманы, затравлены собаками, избиты или убиты. Чаще всего наибольшая трудность и провал побега зависят от незнания местности и системы охранных застав и служб. «Зеленый прокурор» не ласков, и беглец должен это реально предвидеть.
Даже при удавшемся побеге обеспечить себе легальное проживание на длительный период просто невозможно. Паспорт, трудовую книжку не очень сложно раздобыть, но как сделать военно-учетные документы, если они ведутся без твоего участия, ты их не видел и не увидишь со дня приписки и до снятия с воинского учета.
Быть пожизненным нелегалом, этаким «вечным зайцем» подходит не всем. Кроме этого, в периоды войн нарушение воинского учета наказуется как дезертирство, и бежать из заключения для того, чтобы получить новый срок по другой статье, никому не хотелось.
И все-таки побеги были, разные и редко удачные. В моей памяти их немало, и в том числе побеги моих лагерных друзей и знакомых. Побег «на волю» всегда вызывал восторженные чувства у оставшихся в неволе, независимо от того, кто убежал – вор, хулиган или контрик.
Побегов было бы гораздо больше, если бы люди в зонах были физически крепкими, а не истощенными до предела, умирающими дистрофиками.
Упомяну наиболее запомнившиеся мне побеги.
Летом 1938 года по Онежскому озеру ходили суда разного класса, принадлежавшие Беломорско-Балтийскому комбинату НКВД, – с командами судов из зэков.
Во время зимних стоянок или приходов в порт Шала команды жили в зоне.
В июне, июле, приняв на борт пушное и кожевенное сырье Пудожского райпотребсоюза, судно «Соловецкая рыбница» не пришло в порт назначения – Петрозаводск. Груз и команда исчезли. Штурмана – первого помощника капитана – я хорошо знал. Жили мы в одной секции барака. Это был моряк по воле, нервный и очень желчный человек старше 30 лет. Любовь к авантюрам была его страстью. Звали его Ульян, с какой-то короткой фамилией, я не вспомню сейчас. Никто из команды в шесть человек пойман не был.
Очень близкий мне одногодок, студент-химик Киевского университета Иван Дорожка ушел ночью из зоны через подкоп, с лагпункта Бачалово в Карелии. Он сидел за то, что снимал номера на облигациях займов и наносил новые по таблице выигрышей. Облигации были семейные. Его старший брат, большой партийный чин, пачкой подал их для проверки в сберкассе. Некоторые из облигаций оказались совсем без номеров. Ивану пришлось искупить оплошку брата и сознаться.
В страшный военный 1943 год меня звал в побег осужденный за растрату земляк-северянин, пожилой человек. Мы содержались в лагере Осиновка, недалеко от Пукса-озера. Мне оставалось сидеть чуть меньше двух лет. Я не пошел. Стояла зима, я был сильно истощен. Он успешно ушел днем с рабочей зоны. Ему помогли с воли, он был местным жителем и хорошо знал обстановку. В этом случае была оплошка со стороны УРБэ. В учетных документах зэков были данные о том, какие области и районы они хорошо знали, и содержать их там не полагалось.
Блестящий по исполнению побег, как написал о нем А. Солженицын, был совершен из ЦОЛпа в Княж-Погосте, когда я работал в ГУЛЖДС в Печорстрое уже по вольному найму. Стоило на минуту погаснуть свету, как инвалид, не расстававшийся с костылем, исчез из зоны, оставив прислоненные к зоне лесенки. Я не думаю, что он ими воспользовался. Я его не знал. А вот инженера Белоненко знал очень хорошо, вместе работали на лагпунктах Березовый и 335 км. Он также успешно исчез, растворился в летнем зное 1950 года. Это был такой обаятельный русско-украинский интеллигент, что десять лет носить звание зэка ему просто не хотелось.
При строительстве школы № 91 в поселке Вычегодский (я был там прорабом по сантехнике и энергетике) двое зэков вскочили в кабину самосвала, с ходу снесли ворота и умчались от охраны. Бездорожье, незнание местности вывело их на берег протоки нашей Старицы, за деревней Слуда. Была весна. Бросив машину, они попытались переплыть протоку, но течение вынесло их на широкий разлив Вычегды, они цеплялись за деревья, где их и настигла охрана на лодке.
Это были отчаявшиеся парни из немецкого плена, прошедшие войну, со сроком 15 лет. Один из них, зло выругавшись, отпустил опору и утонул. Второй позволил себя взять. В этот раз конвой не зверствовал и не бил оставшегося в живых. Так обсказал нам этот случай наш товарищ, моторист той частной лодки, ныне покойный Толя Козырев.
Знавал я и таких оперативников, которые похвалялись тем, что беглецов они не сохраняли. Я в это не хочу верить. Много я ходил под конвоем и надо мной никто не зверствовал из рядовых охранников. Это привилегия и право немногих.
Неудавшихся побегов бывает значительно больше, но как бы ни был строг «зеленый прокурор», он привлекает невольников каждую весну и лето, и они бегут.
Выход из тюрьмы или лагерной зоны я не знаю с чем сравнить. Да и можно ли? Это единичное событие в жизни, и каждым переживается по-своему.
Полгода я уже ходил без конвоя, переволновался, отдышался. Знал, что и после освобождения мне прикажут, где жить. Проблемы выбора у меня не было, а причин волноваться достаточно.
14 декабря – это начало зимы. На мне серый, грязный, безобразно сшитый бушлат из окровавленной солдатской шинели, такая же шапка. На ноги я надел вместо рваных сапог валенки, которые сняла со своих ног Аннушка, пожилая невольница.
На вопрос: «А как же ты?» – она строго ответила: «Выкручусь! Носи и не разговаривай». Между нами не было никакой близости. После, когда я стал ходить на работу через одни заводские ворота с арестантами, всегда искал в идущей колонне ее, и мы дружески приветствовали друг друга. Наверное, я так ничего и не сделал для нее. Ведь благодарить всегда некогда.
Пособие при выходе на свободу мне не полагалось. Я остался на жительство здесь же, в Плесецком районе. Требовалось получить паспорт и встать на воинский учет. А это за 30 км отсюда.
Первые ночи я спал на станционных вокзалах, доедая свой лагерный паек.
* * *
…Конец декабря 1944 года, четвертого года страшной, всепожирающей войны.
Короткий зимний день кончился. Несмелые огоньки окон деревянных домиков поселка робко высвечивают сугробы снегов на станции Плесецкая Северной ж. д.
Станционные пути не освещаются. Паровозы «лишены голоса», не свистят, молча делают свою работу по командам керосиновых фонариков составителей и стрелочников.
Только звезды, предвещая мороз, хотят что-то сказать людям и не могут.
В станционном здании полумрак. Холодно. Пассажиров нет. Я один.
Впервые после многих лет пребывания в неволе осваиваю непривычное состояние относительной свободы, устраиваюсь коротать ночь в углу на вокзальном диване. Здесь к таким, как я, привыкли. Суровая лагерная жизнь пожирает не всех.
Часов в десять вечера молодые девичьи голоса бесцеремонно разрушили тяжелую тишину. В зал вошли пять сказочно красивых молодых россиянок с дорожным багажом. Все они были одинаково одеты в зимнюю военную форму, опрятную и свежую. Мужские шапки-ушанки серого цвета не убавили их женственности. Как будто они носили их с самого детства. Шинельки, гимнастерки и юбочки были щегольски подогнаны по росту. Они оживленно и громко говорили о своем: о работе, о своих переживаниях и чувствах, о раненых воинах.
Нетрудно было понять, что девушки несут службу в санитарном прифронтовом поезде. Сдав очередную партию раненых в тыловой госпиталь, снова направляются в район боев.
Угнездившись, устроившись в ожидании своего поезда, они стали напевать песни своего сурового времени.
Я пятьдесят пять лет помню в подробностях этот неожиданный концерт в тишине маленького вокзала. Они пели фольклорные военные самоделки, элегическую знаменитую «Землянку», «Темную ночь».
Все эти песни не о войне, а о человеческой любви на войне. Не осмелился я тогда заговорить с ними.
Славные милые женщины, я их не забуду никогда.
С особым уважением думаю о том поколении женщин.
…С работой получилось все быстро и хорошо. Меня взяли в ремонтно-механическую мастерскую завода. Я получил продуктовую хлебную карточку. Ныне живущим трудно объяснить значение этого документа. Это не только право на паек. Это право на жизнь твою, твоих детей и близких. Недаром в то время самым злобным ругательством было пожелать потерять хлебную карточку. Это страшнее смерти и ада.
Проблему, где жить, я также решил успешно. Невдалеке от зоны и завода меня приютили в своем доме две одинокие пожилые женщины.
Оставалось еще сменить лагерное рубище, приобрести белье и постель и не завшиветь.
Когда не умеешь воровать и ловчить, остается один способ – работать, зарабатывать. Путь трудный, малоблагодарный, но путь. Работал я, не жалея себя, недосыпая, угождая, соображая, что можно сделать еще. Мне нестерпимо хотелось войти в общество равным с другими, заставить со мной считаться. И моя гордыня, мое тщеславие помогли. Средства и способы были разными и такими, о которых без особой нужды не хочется говорить, но которые оставляют право на самоуважение.
Отвыкнув от женского общества, я ждал возможности появиться в заводском клубе, стать здесь своим человеком. Мне было двадцать девять лет, а я все еще воспринимал мир по-юношески. Во мне детское мировосприятие очень задержалось – годов на десять, а может, и теперь что-то осталось…
Поселок Пукса-озеро был построен одновременно с заводом в глухой тайге, вблизи большого озера.
Домов деревенской архитектуры здесь не было, они появились позднее.
В первую весну на свободе я ходил по поселку, тайком бросая через палисадники на грядки маковое семя. Оно дружно проросло, удивляя хозяек.
Недавно, в 1995 году, я встретился с женщиной, приехавшей оттуда. Она на мои расспросы нарисовала мне картину полного упадка, старения и разора жизни поселка в связи с закрытием завода, и у меня пропало желание посетить те места, где я жил, волнуясь, надеясь, любя и радуясь.
Прошлое в старости не отступает от тебя вдаль, а наступает, является, и ты не гонишь его, наоборот, приближаешь, внедряешься в него. Только вот писать об этом мне трудно.
Начало 1945 года.
Приближение весны и Победы в войне. В умах людей – планы и надежды. В это нелегкое, суровое время мы все стали романтиками и лириками.
Появился спрос на песни, и они рождались и пелись со слезами грусти и радости. Посещение кино было радостным событием.
В воскресенье – танцы. Часто устраивались неплохие самодеятельные концерты.
На счастье, у нас концертмейстером работал пианист, человек с консерваторским образованием, его имя Гуревич. Он был заключенным. Меломаном слыл начальник санотдела лагеря. По его инициативе многих концертантов привозили из лагерных зон, что им, конечно, было очень желанно.
Если я пел в неволе в Карельском ББК до войны, отчего же не петь теперь, на свободе? И я пел для себя и других. Моей партнершей стала не растратившая сил жизни великолепная Маргарита Александровна, большой знаток и любитель оперетты.
Она и научила меня многому, и нас хорошо принимала публика. По профессии она врач. Мы пели из «Сильвы», «Роз-Мари», «Наталки», «Баядеры», «Запорожца» и соло. Пели песни, рожденные войной. Они были хорошими и трогательными. Легко запоминались и оставляли в душе след. Особенно любимы были песни в ритмах танго и фокстрота, которые незаметно переходили в пластику танца без надрывов.
От тех мелодий еще и сейчас старые люди утирают счастливые слезы воспоминаний. То было время, когда ни один поэт не мог себе позволить создать бессмысленный или малосодержательный текст, что сейчас стало признаком модерновости и хулиганской отваги.
Нет, мы жили богаче и лучше. Может, и потому, что тогда была жива душа, не было магнитофонов, попсы, китча и прочих кожемитов. Теперь ни к кому не предъявляется требование хоть что-то, но уметь.
Мы сейчас заглотили подброшенную нам свободу поведения, и скоро она нас загонит в пещеры и на деревья.
…Прожил я в поселке полтора года деятельно, напряженно, не скучно. Не всегда с проявлением ума взрослого человека.
Самое ценное в том времени – знакомства с людьми, их опыт, их ум.
Досадую на себя за то, что нередко был неправ, строго осуждал других и завышал самооценку. Стыдно и досадно, но не вернешь и не поправишь.
Из жизни за решетками и частоколами зон и колючек я вынес с собой в относительную свободу любовь к жизни, к общению, к природе.
Но и не только это. В какой-то мере и знание поведения и возможностей отдельного человека и толпы, а также и себя.
Как вещественный реликт той поры, я часто, всю жизнь вижу однообразно повторяющийся сон: я в зоне, трепетно жду конца срока наказания, вот он близко, наконец, наступил, но никто мне этого не объявляет, и меня не освобождают.
Я протестую, пишу заявления и жалобы, никто не отвечает на них.
Я делаю отчаянные попытки привлечь внимание властей на очевидную несправедливость, но никто этим не занимается, и неволя становится бесконечной.
В состоянии полного отчаяния я вдруг слышу голос жены: «Миша, проснись, проснись и не кричи…»
Дорогая моя подруга Паня, тебя уже нет со мной, а сон повторяется.
Для многих невольников той лагерной поры подобное событие было не сном, а явью, и они продолжали нести свой крест в полном небрежении к их человеческим и юридическим правам.
Таких политических узников было немало в войну и после нее.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!