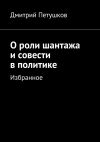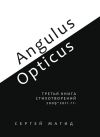Текст книги "Избранное"

Автор книги: Михаил Пузырев
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
В среде северных крестьян начала моего века отношение к женщине как к феномену природы было сдержанным или никаким. Она не была униженной или возвышенной. В семьях она бесконфликтно делила области подчинения или своего превосходства.
Осваивая литературные мотивы, как правило, возвышающие ее духовный образ, я верил им и, слава Богу, через всю жизнь пронес любовь и уважение к ней. Женщина, ты манящая тайна, ты создана удивлять и восхищать собой, будь же достойна этой роли.
Жизнь ломает обе половины человеческого рода, но надо сопротивляться, и все вознаграждается. Я не был однолюбом. Нередко увлекался сильно.
Наверное, любимые были нежно выдуманы мной. Пусть так. Так лучше всем.
А теперь, при новом понимании проблем любви и пола, много ли тех, кто обрел счастье и душевный комфорт? И мы не перестали желать любви вечной, и уважения, и заботы постоянной.
Не могу согласиться, что любовь – это всего лишь секс. Можно петь «не обещайте деве юной любови вечной на земле…», но уподобляться котам не следует. Мужчин-«котов» даже среди преступников презирают. Всегда считал, что интимные отношения – не тема разговора на публику, но это-то сказать можно.
Мое целомудрие прекратила женщина 22 лет. То были ее выбор и воля. Верю, что я, восемнадцатилетний юноша, был ей мил, и она не для коллекции так поступила. Не являлось это и тайной. Иллюзий на будущее она также не строила. Роман длился год. Уважая мои чувства, она прекратила его. На это были причины. У меня осталось чувство любви к ней и благодарность за большую дружбу.
Женщина – не только самка. Она еще и мать, и чего в ней больше, мы не знаем. Этот элемент материнства содержит обаяние лучших душевных сил женщины. Кто пережил это, почувствовал, понял, тому повезло в любви. Повезло и мне. Дважды.
С теплой грустью вспоминаю ранний роман после выхода из заключения. В нем было много трепетного чувства любви, но он не завершился союзом двух.
Через год после освобождения из лагерей меня дважды из Архангельской области командировали на Соликамский ЦБК. Это на центральном Урале. Я провел там три месяца. Жил в плохонькой гостинице. Свободное время проводил в среде студенток-дипломниц Воронежского гидролизного института Тони, Веры, Раи и местной молодежи. К воле я еще не привык и воспринимал ее по-детски восторженно и на 30-летнего мужика не походил. Скорее на юношу в 20 лет.
После войны все были переполнены планами и надеждами, клубы работали очень интенсивно. Вечера, концерты, танцы, гастроли прославленных артистов – все принималось восторженно.
В этот период очень суровой зимы 1945–1946 годов мне посчастливилось послушать в городе Боровске четыре концерта тогда молодой Клавдии Ивановны Шульженко. Восхищение и восторг вызывали ее выступления не у меня одного. Какой божественный талант и мастерство! На последние свои рубли я покупал билеты, желая быть замеченным.
Мы не раз встречались у единственного телефона в дежурке гостиницы, где проживали. Припоминаю, как ее огорчало отсутствие душевой комнаты.
Прошло пятьдесят лет, но ее талант для меня так и остался несравненным.
Обидно слышать нынешнюю эстрадную продукцию. Какое трагическое одичание!
Выше я проговорился, что любил танцевать. На наше обоюдное горе, моей предпочтительной партнершей была очаровательная Лиза Мурашова. Высокая, воздушно-худенькая, красивая, с детской наивной головкой. Любил я этого цветка-ребенка нежно. Мне 30 лет, из них 10 лет каторжной жизни изгоя общества, без гражданских прав. Она – лаборантка бумажного производства, единственная дочь матери и парализованного отца. Непорочная комсомолка 18 лет.
Я не мог объяснить ей и ее родителям, какова моя судьба и ее будущее, если мы поженимся. А в душе мы того хотели. Остаться в их городе я не мог, шел 1946 год: сменить место работы мне было нельзя.
Начало марта. Подошел день моего отъезда. Девочка Лиза, мой непорочный и преданный мне бриллиант, сидела по-детски у меня на коленях и плакала слезами взрослой женщины, у которой не будет счастья. Я тоже очень волновался. Наши поцелуи были прощанием с мечтой о счастье. Она рассказывала мне, что подруги уговаривают ее ослушаться родителей и уехать со мной.
Да я сам бы выкрал ее, если бы верил в свое будущее и ее счастье. Лиза! Лиза! Где ты? Мне 85, тебе 75 лет. Если ты жива, ты не забыла тот день и свою первую любовь…
Вот еще один роман без продолжения, он проясняет свойства юной женской души. Как легко оскорбить и обидеть доверие и любовь!
Освободившись из заключения 14 декабря 1944 года, свободы я не получил. Всевидящее око политического сыска приказало мне работать на целлюлозном заводе, близ той зоны, в которой я провел год. Уголок, уютную маленькую комнатку я нанял у вдовы-солдатки и ее сестры, тоже одинокой женщины. Иногда я помогал им в домашних работах, сожалею, что мало помогал.
Мне было тридцать лет, но я не жил еще самостоятельной жизнью, был совершенно юным, неумелым. Внешность имел совсем не взрослую. У меня от нового состояния физической свободы изрядно кружилась голова. Этой новизной ощущений я был возбужден до предела, и покоя не хотел и не знал.
Мой опыт тюремной и лагерной жизни теперь мне не был нужен, а другого еще не было. Была огромная жажда жить. Нужно было войти в новую среду людей на производстве и в быту, снять с плеч лагерную рвань и не пугать людей своим видом и прошлым, кормиться, учиться, восстановить связи с родственниками, помочь больной сестре и сироте-племяннице.
Я, кажется, неплохо справлялся с моими заботами и дышал все увереннее и смелее, не расслабляясь жалостью к себе.
В обществе холостого люда, при дефиците мужчин послевоенного времени, а отчасти, может, и потому, что и «я был не из последних молодцов», меня приняли хорошо. Я неплохо пел, танцевал и был потенциальным женихом.
Вот в этот период жизни, в летнюю жаркую пору, на чердаке дома, в своей спартанской постели, в после-полуночное время белых ночей я увидел спящую девочку из соседнего дома. Она спала, утомившись ожиданием и волнением. Ее лицо у самого окна, на нем хорошо заметны тревога и озабоченность.
Гете я читал позднее, но и тогда в моем сознании было такое, о чем думают: «Остановись, продлись, мгновенье, ты прекрасно». Мне не надо было на нее смотреть, оно бы и продлилось. Почувствовав мой сосредоточенный взгляд, она пошевелилась и проснулась. Она не испугалась, не забеспокоилась, жестом пригласила сесть рядом и притихла, глядя мне в лицо. Растерялся я. Решительность ее поступка, такое смелое признание в своих чувствах меня встревожили потому, что я ни в коей мере не имел права обнаружить своих, тем более, я твердо знал, что злоупотребить ее доверчивостью и неопытностью я никак не позволю себе.
Не мог я оскорбить ее чувство, помня, что час назад был с другой женщиной.
Что бы мне ни говорили о любви, в ней для обеих сторон есть что-то темно-материальное, физическое, мимо которого хочется пройти, не задерживая внимания. Наверное, это темное в физическом удовлетворении страсти. Когда это только страсть, без чувства.
Может, это устраняется воспитанием, возможно, гармонией пар. Я не знаю. Но оно, это чувство, возникает. Вот даже сейчас мне противны мои умные рассуждения рядом с образом милой, по-детски чистой Дунюшки, дождавшейся меня в моей постели. Уверяю вас, ко мне привела ее не страсть, а мечта о хорошей любви, на которую она была способна.
Доброе дитя, любить тебя мне нельзя, не любить невозможно. Ей 16 лет, неразвившийся еще ребенок, с хорошими, благородными линиями тела и лицом северянки, с льняной косой.
Она нередко забегала в мою келью, когда у нее возникали затруднения с уроками в школе и домашними заданиями. Училась она в 9-м классе. Для меня она была даже не барышней.
И вот мы одни и в постели.
Я сдержанно приласкал ее. Говорил о пустяках. Она молчала. Ушла она домой грустной и тихой.
Через два дня, придя ночью домой, я снова нашел ее в своей постели на чердаке. Мои рассуждения о невозможности нашего супружества только укрепляли ее трагическую симпатию ко мне. В ней пробуждалась гордость женщины, способной на большую любовь.
Она хорошо знала женщин моего круга, по-своему о них думала и, вероятно, сравнивала с собой. В ту ночь она была словоохотливей, но с трудом выдавила из себя признание, что она ревнует меня к ним. Она упрекала: «Зачем ты меня приманил?»
Я понимал, что мое поведение подлое, этим забавляться нельзя, но у меня не хватало решимости прямо объявить ей о своем равнодушии. Да это и не было так. Я любил ее непорочность, чувство преданной любви ко мне. Не мог сдержать себя и не целовать ее тело, рот, глаза. Она принимала мои ласки скромно и радостно, сдержанно отвечая на них с детской робостью. Милая, любившая меня Дунюшка! Как хорошо, что я не потребовал от тебя последней жертвы.
На краю могилы признаюсь сам себе: ни с одной женщиной я не был так душевно покоен и счастлив. Верно, самое большое счастье – мучить близких людей и быть тираном, надеясь на всепрощение.
Было великое наслаждение смотреть в полные торжества и радости ее голубые глаза, когда среди звезд танцевального зала я находил ее, мою самую юную, милую Дунюшку, и мы танцевали, улыбаясь глаза в глаза. И никто-никто не знал о нашей любви.
Я старался уменьшить ее симпатию ко мне. Часто говорил о своем отъезде, что и случилось осенью.
Это был не совсем отъезд, а побег из мест принудительного поселения.
Суровость жизни следовала за мной, не давая маленькой передышки. В нарушение приговора военного трибунала я приехал в город Архангельск.
Судьба пряла нить нашей жизниПосле полного разрушения крестьянского уклада жизни возвращаться в деревню я не хотел.
Пройдена армейская служба, десять лет отдано ГУЛАГу. Я довольно подготовлен профессионально как машиностроитель-металлист. Я хотел жить.
Опять с нуля, опять сначала! Друг по лагерю Петр Владимиров и его жена Таисья Матвеевна на время приютили меня. Они жили на улице Поморской, дом 58.
Я поступил работать во 2-е ремесленное училище морского флота в Соломбале мастером производственного обучения. Сироту-племянницу Тамару помог определить в медицинское училище. С ней мы встретились впервые. Девица Тамара оказалась упрямой, настойчивой: закончила школу в Архангельске, потом медицинский институт в Ленинграде.
В послевоенной литературе о детях войны, о сиротах войны писали нередко талантливо, но мне все-таки кажется, недостаточно. Кроме того, что война их убивала, распыляла, оглушала их сознание, их неотступно преследовал голод. И после войны еще несколько лет. Голод унижает и разрушает личность всегда, каждую минуту. И во сне тоже. Девочка Тамара не избежала испытание бедностью. Студенческие общежития были домом для сирот войны. В течение нескольких лет учебы в институте она была штатной уборщицей на своей кафедре. Эти заработки дали возможность окончить учебу, получить, наконец, диплом врача. В этом поколении людей в нашей стране «неестественный отбор» проходил чрезвычайно строго и больно.
Действовал карточный режим. Знакомо. Но к голоду привыкнуть нельзя. В 1946 году не всем выдавали хлебные карточки. Для горожанина без карточки голодная смерть. У меня ее не было, и я ездил на шабашку в Маймаксу. Монтировал отопительную систему в клубе 25-го лесозавода. Вскоре карточку продуктовую выдали по месту работы в ремесленном училище, и жить стало чуть легче. Легкость состояла в том, что в работе и заботах проходили не восемь часов в день, а чуть ли не все двадцать четыре. Жалеть себя было некогда.
Запас прочности у человека большой.
Накануне октябрьского праздника 7 Ноября я, надев белую рубашку друга Пети (своей не было), поехал с ним и его Таисией Матвеевной уговаривать знакомую сотрудницу училища выйти за меня замуж. Сватовство в обычаях предков, основанное на здравом смысле и расчетах, не было скучным и прошло в духе послевоенного времени.
Осиротевшие, уставшие, одинокие люди пытались наладить свою жизнь. Никогда я не жалел о своем выборе и, думаю, был хорошим семьянином и мужем.
Паня была солдатской вдовой, с ребенком пяти лет. Прожили мы вместе 49 лет. Я ее похоронил с чувством горя и благодарности за пережитое вместе.
Скоро мы встретимся, дорогая моя девочка.
Женщины нашего поколения достойны уважения. По профессии Паня была парикмахером мужского зала. Я умел делать дамские прически по способу электрозавивки, так называемой перманентной. Своими руками я сделал инструментарий для завивки дам, и весной 1947 года в нашей квартире вечерами и ночами были женщины, ожидавшие своей очереди на прическу. Завивки моего нелегального салона не требовали объявлений и реклам. Этот дополнительный ночной заработок очень помогал нам с Паней в течение нескольких лет.
Так мы следовали правилу – хочешь жить, не спи. За эти два года, проведенные в Соломбале, мне снова удалось поучаствовать в музыкальных событиях города. Я пополнил свои музыкальные знания, общаясь с музыкантами и поющими людьми.
Теперь, при обилии свободного времени, когда предаюсь воспоминаниям, я долго рассматриваю хорошую фотографию участников хора завода «Красная кузница», сделанную в 1947 году. В центре сам директор завода Ефимов, справа от него в рубашке-онаше наш хормейстер, Сергей Алексеевич Лысков, слева – великолепная, переполненная добротой ко всем, наш концертмейстер Олимпиада Павловна Загвоздина (Лина Павловна), и в глубине группы я, не похожий на свой календарный возраст.
Вспоминаются не только участники коллектива, но и весь репертуар, который мы представляли в своих нередких выступлениях. Там были соло, дуэты, квартеты, хоры из опер и уж конечно песни войны и побед.
Теперь вот, спустя сорок восемь лет, я впервые обратил внимание, как бедно мы все одеты, мужчины и женщины, и как не похожи мы по доброжелательности на современную раздраженную публику в дорогой, а порой и очень дорогой одежде.
Я очень радуюсь иногда, видя Лину Павловну по Архангельскому ТВ, всеми любимую и признанную, и горячо желаю ей долголетия. Она терпеливо помогала мне, когда я не справлялся с моими «диезами и бемолями». Все участники хора завода были любителями пения, меломанами, не артистами.
В этот же летний гастрольный сезон в Архангельске мне посчастливилось послушать весь большой оперный репертуар Белорусского государственного театра оперы и балета г. Минска. Этого счастливого стечения обстоятельств могло и не быть, но оно случилось. Это мое везение. Моя Паня не была меломаном, не обладала даром певческим, но зато была большой искусницей в бальных танцах. Она была легкой, ловкой, отлично чувствовала партнера и любила танцевать. Мы с ней с удовольствием посещали танцевальные вечера в Соломбале и во многих других случаях готовы были тряхнуть стариной и лихо пролететь в польке-скачке или венгерке, вызывая одобрение и интерес смотревших на нас.
Как все это далеко:
Любовь, весна и юность.
Хожу я одинокий,
Душа тоски полна.
В памяти часто возникают мелодии и ритмы того времени, под которые мы танцевали, любили, веселились и грустили. Прошло с тех пор 40–50 лет, а они все звучат, звучат, и хорошо бы умереть под эти звуки.
За последние тридцать лет я не узнал, не запомнил ни одной новой мелодии. Их нет. Есть шум, мелодий – нет. Хорошо бы все это барахло, заполнившее дискотеки и салоны, однажды пустить под дорожный каток, как это уже делают во Вьетнаме…
…Если в супружестве есть любовь, обязательно будут дети. Так у нас и случилось. Через десять месяцев Паня мне родила дочь. Как говорят соседки: «Вылитый отец!» К тому времени у меня появилось новое увлечение – стал осваивать фотографию.
Без хвастовства скажу: в любой работе хотел быть лучше других. Думаю, такой девиз допустим. Заниматься фотографией в 1947 году было трудно из-за отсутствия материалов и даже литературы.
Но, увлекшись, я хорошо освоил и это занятие, и теперь у меня большая коллекция родных и близких, памятных мест природы. В старости иметь такой материал приятно и полезно.
В подтверждение присказки, что «мир тесен», расскажу вспомнившееся сейчас. В августе 1947 года на дневном оперном спектакле в Архангельском драматическом театре, в почти безлюдном фойе я увидел три знакомые фигуры. То были Тоня, Вера и Рая. Мои веселые студенточки из Воронежа, с которыми я дружно жил на Урале, на Соликамском комбинате зимой в 1946 году.
Они стояли у окна с видом на площадь. Энергичная Тоня мне тут же объявила, что десять минут назад она сказала девочкам: «Сегодня мы встретим Мишу». И вот, свершилось! Радовались мы так, как теперь никто не сумеет.
Мы же нынче умные. Нам скучно от нашей мудрости.
Девочки приехали работать на гидролизный завод с инженерными дипломами в кармане. Узнав о том, что я женился, Тоня пожурила Раю: вот, тихоня, упустила парня!..
И они теперь уже не молоды. Дойдет ли до них моя волна воспоминаний? Но то, что они когда-нибудь вспомнят наши встречи, – в это хочется верить.
…Прошло два года жизни в Соломбале. Уже нет хлебных карточек. Есть интересная работа. Растут дети, есть жилье. Но нет права на жизнь по своей воле.
В начале лета, ночью, на квартиру явились сотрудники МВД и объявили мне приказ выехать из города в течение суток на основании постановления правительства.
Постановление то в обиходе именовалось «Минус 32». В 32 регионах страны воспрещалось проживание лиц, ранее судимых по политическим статьям УК.
Я оставляю свою встревоженную, бедную Паню с двумя детьми и покидаю город.
«И воспрещается жить тебе, Михайло, в губерниях таких и таких, и в области войска Донского – тоже нельзя».
Это не причитания по своей судьбе, а перебор вариантов возможного выбора. Он был ничтожен, и ни один не увлекал. Семья осталась без средств, меня никто и нигде не ждет.
А хорошо бы посетить родину, где перевязали тебе пупок. Мою Виледь. Мой Роженец. Мои березы. Ведь, может, это твоя последняя возможность?
Вот так я размышлял, глядя из окна каюты парохода, идущего по Двине в Котлас. Невесело.
Я прошел по коридору в носовой салон судна на звук пианино. Кто-то прилично музицировал, перебирая популярные песенные и танцевальные мелодии. Я сел рядом с ним, подсказал мелодии каких-то романсов и запел. Думаю, я пел лучше, чем мог. У меня опять открылся предохранительный клапан болящей души. Такое со мной бывало и раньше. Пение привлекло внимание праздных пассажиров, и мое настроение изменилось. Жизнь опять показалась не пустой и глупой шуткой, как певал А. Вертинский.
В ту ночь я решил посетить родную деревеньку и родных людей. Жива еще была моя тетя, Антонина Прокопьевна (дядя умер до моего приезда), которая первая увидела меня на этом свете и перевязала мне пупок. Она была акушеркой. Их семья жила в деревне Сосновской Покровского сельсовета, в усадьбе маленькой сельской больницы, в прекрасном, уютном, деревянном доме, лучше которого я нигде не встречал. Любил я бывать в этом доме в детстве.
И вот я приехал вновь.
Они не знали, как я жил все эти годы.
Описать со всей полнотой нашу встречу не берусь. Там будут сплошные ахи и охи. Радость, грусть и горе. Всего с избытком. В гостиной комнате, на видном месте на стене, как дорогая реликвия, висела офицерская шинель с погонами старшего лейтенанта, моего двоюродного брата Бори, командира роты разведки, погибшего в 1945 году, в конце войны. Его молодую вдову, Нину Павловну, я встретил только теперь. Она фельдшер больницы. С ними одной семьей жила молодой врач Софья Викентьевна Высоцкая.
Это были приятные, милые люди. Я не хотел отдаляться от них при выборе места работы.
Я предложил свои услуги… Лживы эти слова! Это неправда. У меня не было выбора. И предлагать себя я не мог. Я мог по-рабски просить принять меня на работу, в Управление Севжелдорлага МВД. Лагерный этот комбинат строил и достраивал Печорскую железную дорогу. И я рад был, что меня охотно взяли. В том сама правда.
У этого учреждения была очевидная выгода принять на работу человека, который пробыл в этой системе десять лет, со всеми условиями знаком, рыпаться не будет. Вдобавок ко всему, я был хорошо подготовленным специалистом. У меня тоже была выгода. Первый человек, с которым я говорил, был начальником работ (главным инженером) 2-го строительного отделения, бывший зэк, Лев Александрович Шулькин. Начальник части, к которому он меня направил, Михаил Иванович Кулагин, бывший зэк, все его сотрудники, инженеры, прорабы, техники – все бывшие зэки.
Между нами корпоративное братство. Люди одной судьбы, одной семьи. Меня охотно и дружески приняли в коллектив. Мне опять повезло. Самый лучший коллектив в моей трудовой биографии – персонал строителей Печорской железной дороги Управления Севжелдорлага, 2-го его отделения.
Если ты попадешь к людям культурным и опытным, они помогут тебе деликатно, без упреков, подозрительности и недоверия.
В среду именно таких людей я попал. У нас была похожая биография. Почти весь инженерно-технический персонал ОЖДЛАГа (95 процентов) – бывшие или еще зэки по политическим статьям УК. Тюрьма нас повенчала и породнила.
Ох и много же уроков усвоил я от этих людей. Мое благодарное чувство безмерно и постоянно. Мне было уже тридцать два года, а, в сущности, я был все еще зеленым огурчиком, юным и диковатым. Не представляю, каким бы я стал в другой среде.
Хочу сказать, техническая интеллигенция поздней советской школы совсем иная. Она очень обеднена, обделена именно культурой отношений. По самому большому счету интеллигент – тот, с кем всем хорошо, и степень образования тут ни при чем.
Хорошие, добрые, знающие. Вот о них можно сказать – тюрьма и лагеря их не испортили. У них был запас прочности. Такими они и умерли. На нашем кладбище их могил немного, я их все знаю и навещаю. Теперь к ним прибавилась еще одна, самая дорогая – моей жены, спутницы нелегкой нашей жизни длиною в 49 лет.
Без малейшего страха думаю о моем скором приходе сюда. Если встретимся, будет о чем поговорить.
Возвращаясь из леса, с охоты, через кладбище, я непременно просиживал там подолгу. Кладбищенская тишина особого рода, и кладбище – не мертвая пустыня, а обиталище духов. Туда нужно ходить одному.
О них я непрерывно буду упоминать, если мое повествование продлится: память сердечная крепка и долга. Историческая память поколений коротка и порой недостоверна.
Всем не равно дано прожить и совершить. Но все мы должники друг другу, все виноваты. И не следует выдумывать и объявлять права на какую-то свободу духа, что так стало модно. Мы поймем это, но очень поздно, успев «накуфарничать» массу ошибок и непристойностей.
«Берегите молодость, ребятушки», – поют опоздавшие, утирая неопрятный свой нос.
В 1937 году меня заключили в ГУЛАГ, в 1948 году я вынужден был сам прийти и просить: «Возьмите меня. Я не сбегу. Меня даже охранять не надо».
Наш брак с Паней не назовешь романтическим. Это был брак гнездовой, брак «по расчету»: нам было по 30 лет. Паня, солдатская вдова с дитем, расставшаяся с первой любовью пять лет назад, еще не успевшая пожить благополучно. Я, бродяга по обстоятельствам, каторжник и правопреступник. До 30 лет я жил по воле волн социальных бурь, ни разу не успев ощутить личную независимость.
Теплилась надежда еще пожить хорошо. Мы создали семью. Нам стало легче. Больше приобрел я. Новые заботы главы семьи я старался исполнять хорошо. Теперь, когда остался один, вижу, что это можно и нужно было делать гораздо лучше. Возникает обжигающая боль раскаяния, боль вины перед Паней. Опаздываем мы уразуметь невосполнимость и невозвратимость творимого. Одно утешение, что могло быть хуже, но это не оправдание.
Я часто езжу к Пане на кладбище и, конечно, даю волю слезам. После этого легче на сердце. Прости меня, моя девочка. Прости. Я долго еще буду повторять – «моя девочка, моя девочка», разговаривая с твоими вещами. Невыносимо думать, что мы не встретимся никогда и нигде.
…Освоение, обживание нового места работы и быта удавалось нам с Паней без отчаяния потому, что мы шли по жизни от худшего к еще худшему или от худшего к лучшему. Оставшись одна с двумя полуголодными детьми и без денег после моей высылки из Архангельска, она по моему настоянию нашла в себе силы поехать ко мне, не зная, что ее ждет здесь, какие испытания. А их было свыше сил человека.
О них я не могу говорить, потому что чувство жалости к Пане невыносимо. Оно лишает рассудка. Хочется бросить эту писанину, убежать, упасть на ее могилу, просить прощения и благодарить. Дорогой мой человек, Панюшка, я хочу с тобой встречи все равно где. Приливы таких чувств теперь будут до конца моих дней.
Мы начали свою жизнь в проходной комнате рабочей конторки прорабов, затем в маленькой десятиметровой комнате недостроенного деревянного четырехквартирного дома, в котором жили десять семей. Через десять лет нам отдали еще одну комнату, и мы прожили там 42 года. Были вокруг хорошие люди, а были и такие, которые считали нужным напоминать мне о положении высланного и о моем преступном прошлом.
Все наши молодые силы истрачены на то, чтобы выжить. Сильная, несчастная моя Паня, зачем ты согласилась на союз со мной? Я благодарю тот миг, тебе вряд ли есть основание это делать. Умирала ты тяжело, молча. Простила ли ты меня, я не знаю. От того и мучаюсь.
Как-то давно, лет шесть назад, по просьбе сотрудника «Двинской правды» Эмилии Арсентьевны Завгородней к женскому дню 8 Марта я написал статью. Ее текст без изменений я хочу привести здесь.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?