Текст книги "Грустная песня про Ванчукова"
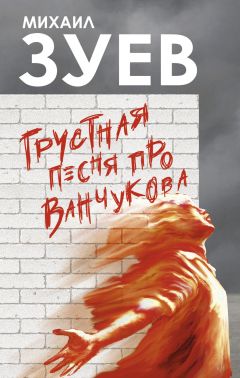
Автор книги: Михаил Зуев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 45 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
Чувство сиротства.
Родителей дома не было. Ванчуков прошёлся по пустой квартире – взад-вперёд, туда-сюда – не находя себе места. Залез в записную книжку, снял телефонную трубку. Позвонил. Сунул в карман одну из четырёх своих магнитофонных кассет, запер дверь, вышел в коридор и нажал кнопку вызова лифта. Фёдор жил через два квартала.
– Слушай, Федь, я ненадолго. Скажи, пожалуйста, а сможет Игорь Игоревич мне кассету записать?
– Сможет, почему же нет… Кассета есть?
– Держи, – Ванчуков полез в карман.
– Так она же с записью. Вон, и окошки выломаны. Чистой нет?
– Нет, Федь. Мне старые записи на ней до лампочки.
– Ладно. Что записать?
– Пинк Флойд. Дак сайд оф зе мун.
– Хорошо. Я позвоню завтра-послезавтра.
– Спасибо, Федь! – протянул тёплую ладонь Ванчуков.
Ольгерд медленно, тормозя каждым шагом, возвращался домой. Даже так, по-стариковски, идти вряд ли оставалось дольше десяти минут. Мимо по кривоватой захолустной улочке проезжали припудренные летней пылью автомобили. Обгоняли идущие с работы люди. Из дворов доносились детский смех и собачий лай. Гудели электрички Белорусского направления. Небо лучилось безмятежным закатом. В пивняке-стекляшке нецензурно галдели мужчины, куря приплюснутые плохие сигареты без фильтра, хрустко грызя солёные, как слёзы, сушки, отрыгивая своё бестолковое существование кислым пивным суслом.
Вокруг была жизнь; и был смысл жизни в негромком летнем вечере. Смысл обтекал Ванчукова, не оставляя на нём и малой капли.
– Чего плетёмся? Чего спим на ходу? – смешливо спросила Ника, догоняя Олика.
– Гуляю, – улыбнулся ей Ольгерд. Ника была наряжена в белый сарафан свободного кроя, на ногах греческие сандалеты, опутывавшие ажурными верёвочками кожаных ремешков тонкие лодыжки.
– Каникулы? – Ника виделась ему против солнца. Лица не увидать, лишь светлый ореол от копны волос.
– Как ты догадалась? – Ванчуков оторопел от собственной наглости.
– А ты колючий, – сказала Ника тихо. – Ну ладно, я пошла.
– Куда? – спросил Ванчуков и оторопел во второй раз.
– Домой.
– Так я тоже домой.
– Ну, тогда ты не мог бы идти чуточку быстрее?
– Могу… – кивнул Ванчуков, прибавляя шаг.
В лифте спросил отрывисто:
– Какой?
– Четырнадцатый, – потупясь, словно малолетка, прошептала Ника.
Нажимать можно было только одну этажную кнопку. Поэтому Ванчуков нажал свою, двенадцатую.
Лифт доехал. Двери открылись.
Ванчуков, стоя в полушаге, долго, бесцеремонно водя внимательным взглядом, рассматривал едва достававшую ему до уха, покорённую и покорную, женщину, пахшую пульсирующим теплом и потерянной им час назад нежностью.
Нажал: «14».
Выдохнул: «Пока!»
Выскочил в беспамятстве, едва успев увернуться от захлопывающейся гильотины дверей.
Так сопляк-семиклассник растаял в прошлом. А на площадке двенадцатого этажа – теперь уже бесповоротно, навсегда – в открывшийся навстречу мир был рождён новый мужчина.
Глава 12
Зима упала с неба на город внезапно, накрыла за одну ночь. Ещё на ноябрьские было сухо и просто холодно, а уже десятого, в первый учебный день второй четверти, снег проснулся, встал стеной. Москву завьюжило; кто ещё бодрился в демисезонном – спешно меняли форму одежды. По бульварам медленно ползли чадящие горелым маслом снегоуборки. Отъевшиеся за лето на дармовых хлебах дворники отчаянно гнули-ломали вытащенные из дальних кладовок широкие лопаты; вангоговскими сеятелями раскидывали по тротуарам, блестящим ровным девственным льдом, щедрые пригоршни крупной соли.
Сегодня среда, поэтому школа, как обычно, отменялась, и Ванчуков бодро снежными бульварами топал к десяти утра в ставшую для него родным домом лабораторию. Из лаборантов Олика уволили в двадцатых числах августа, и перед первым сентября ещё с недельку удалось со спокойной душой побездельничать. Кадровик не обманул, трудовую книжку завели, заполнили, поставили все печати и подписи, выдали на руки. Ещё выписали «характеристику с места работы» – коротенькую, на две трети странички, но бесконечно положительную. Постаралась Светлан Санна.
Восьмой класс – особый. Для одних переводной в старшие классы, для других – выпускной. Тех, кто после восьмого собирается уходить в техникум или в училище, учителя стараются особо не беспокоить. «Спасибо вам, что были с нами; спасибо нам, что вас терпели, поэтому давайте-ка разойдёмся по-хорошему, без взаимных потерь». Тех же, кто пойдёт в девятый, тоже мягко приберегают – отдохните в последний год детства, а там уж, когда избавимся от балласта, примемся вас шкурить с удвоенной силой. Вот и выходит, что восьмой за все десять школьных лет самый бестолковый и самый лёгкий.
– Ты остаёшься с нами? – спросил Козак.
– Конечно! – с восхищением смотрел на него Ванчуков.
– Тогда будем тебя из твоей школы доставать. Нечего время там терять.
– А как? – не понял Олик.
– Всё увидишь, – сказал Саша.
В один из ярких сентябрьских дней Козак шёл в ванчуковскую школу вместе с Ванчуковым. К директрисе он записался на приём заранее. Было непросто, но будущему коллеге отказать она не могла.
Директриса была женщиной легендарной. В двадцать попала на фронт сержантом, да сразу в пулемётный взвод. Через полгода была уже комвзвода, через год – комроты. Дошла до Берлина. Вся гимнастёрка в медалях, два ордена. После войны пошла учиться на педагога. Стала учителем биологии, но простым учителем проработала всего полгода. Время было тяжёлое, спецов не хватало. Назначили директором школы. Когда в пятьдесят пятом построили ту самую школу, куда двадцать лет спустя попал Ванчуков, то её первым и, как оказалось, бессменным директором стала Нина Константиновна Савельева. В семидесятом дали «народного учителя».
Ванчуков примостился в приёмной на самом краешке стула, Сашу же сразу пригласили в кабинет. Прошло минут пять-семь, дверь распахнулась. В дверях стояла Нина Константиновна. Выражение её лица не предвещало ничего хорошего.
– Ольгерд, иди-ка сюда! – громко сказала Савельева, повернулась и пошла в глубину кабинета. Кабинет у неё был большой. Одна стена сплошь, от потолка и до пола, увешана грамотами, которыми в разные годы награждали педколлектив и учеников за выдающиеся успехи в деле народного образования. Успехи на самом деле были выдающимися: школа директора Савельевой стала первой школой полного дня в Москве. Ученики приходили к половине девятого утра, а расходились по домам часов в восемь вечера – сразу после уроков начинались занятия кружков и секций. Нина Константиновна обижалась, если кто-то из коллег или, боже упаси, родителей осмеливался назвать её детище «школой продлённого дня».
– Продлёнка – обязаловка! – недовольно говорила она. – А у нас всё добровольное. Наших учеников самих, по их собственной воле, из школы за уши не вытащишь!
Она была прекрасна. Много ли найдётся школьных директоров, кто каждого из шести сотен учеников знает по имени, фамилии, интересам и особенностям биографии?..
– И что же это такое, Ольгерд?! – Нина Константиновна с грозным видом стояла посреди кабинета. Оказавшийся за её спиной Саша Козак давился от беззвучного смеха. – Как это понимать?! Ты делаешь такие успехи, – она указала на лежащие на столе трудовую книжку и характеристику за подписью Светлан Санны, – а я узнаю об этом последней? И если бы твой куратор, мой уже в очень скором будущем коллега, – она показала на Сашу, – не сподобился бы меня проинформировать, то я так бы и оставалась в неведении! Почему, Ольгерд?!
– Простите, Нина Константиновна, – тихо сказал Ванчуков. – Я не подумал, что это может иметь для вас какое-то значение. – Олик сообразил, что ляпнул бестактность, но поздно.
– То есть ты считаешь, Ванчуков, – грозно начала Савельева, – мне не обязательно знать, что ученик седьмого, а теперь восьмого класса моей школы, Ольгерд Ванчуков учится в вечерней школе на том самом биофаке того самого института, который я сама окончила двадцать пять лет назад? Ладно, допустим. Ты, кроме того, считаешь, мне совсем не следует знать, что этот самый Ольгерд Ванчуков, вместо того чтобы шляться на каникулах по подъездам и киношкам, отработал всё лето лаборантом в медицинской экспериментальной лаборатории и при этом получил отличную характеристику от замдиректора? Ладно, хорошо. Не хочешь посвящать меня в свои секреты – так тому и быть. Но теперь! – Нина Константиновна внезапно рассмеялась, потрепала Ванчукова по щеке, погладила по голове, и голос её стал добрым, – теперь ко мне приходит твой непосредственный руководитель и просит освободить тебя от школьных занятий на один день каждую неделю! И всё для того, чтобы ты продолжал участвовать в лабораторных экспериментах! Что же мне делать?!
Козак за спиной Савельевой уже едва не валился на пол от смеха.
– Я знаю, что. Конечно, я освобожу тебя от занятий на один день каждую неделю. Если бы ко мне вот так, каждый день, приходили с такой амуницией, – она сгребла со стола ванчуковскую трудовую книжку с характеристикой и победно потрясла ими в воздухе, – я была бы на седьмом небе от счастья! Потому что школа, ребята, это не цель. Это средство. Школа живёт своими учениками и выпускниками. Они вырастают, уходят, находят своё место в жизни. И если помнят школу, значит, она была – настоящая. Вы согласны, Александр Борисович?
Посерьёзневший Саша вскочил со стула.
– Да, Нина Константиновна! Конечно, я согласен!
– А формальности… формальности мы решим, – тихо сказала Нина Константиновна, садясь в кресло. – Идите, дорогие ребята. Вижу, что скоро в советской школе будет на одного, а может, и на двух, – Нина Константиновна посмотрела на Ванчукова так, будто снова его погладила, – хороших учителей больше. Вы меня очень порадовали…
С классной руководительницей выбрали среду. В среду история, география, английский и два урока труда. Никто из преподавателей не возражал. Раз в две недели Ванчуков должен был приходить к ним и в индивидуальном порядке сдавать пропущенный материал.
– Так даже лучше, – весело сказал географ Павел Дмитриевич. – Я тебя по каждой теме теперь индивидуально гонять буду. Держись, экспериментатор!..
Ванчуков благодарно улыбнулся.
– Ко всему в жизни нужен правильный подход, – сказал Козак на школьном крыльце.
– Я провожу, – ответил невпопад Ольгерд.
Они пошли шумным двором. Только-только дали звонок на перемену после первого урока. Ученики носились толпами: ещё, хоть и нещедро, но тепло, и пока не предвидится никаких дождей.
– Вот смотри. Пришёл бы ты сам к директрисе…
– Ага, – перебил Ванчуков, – пришёл. Как же, держи карман шире. Она меня и слушать бы не стала.
– Молодец, – едва заметно улыбнулся Саша, – соображаешь. Жизнь тебя учит. Ну и вот. А так пришли мы вместе, и что?
– Добились своего.
– Заметь, – рассмеялся Саша, – и не особо-то бились-старались. А знаешь, почему?
– Почему?
– Резонанс. Есть такое физическое явление. Мы с твоей директрисой попали в резонанс. Ни мне, ни тебе даже делать ничего не пришлось. Всё произошло само собой.
Ванчуков кивнул. Он знал, что такое резонанс. Проходили недавно по физике. Про роту солдат, мост и что идти по мосту нужно обязательно «сбив» ногу.
– Да знаю я, что такое резонанс, Александр Борисыч, – серьёзно сказал Ванчуков и тут же, скорчив дурацкую рожу, прыснул от смеха.
– Вот… – делано грустно опустил уголки рта Козак. – И ты, Брут. Ты впервые посмел назвать меня по имени-отчеству.
– Я не со зла, – продолжал смеяться Ванчуков. – Ты просто у Савельевой в кабинете такой серьёзный был! Я аж залюбовался… Так что ты сказать хотел насчёт резонанса?
– А то, что резонансная накачка позволяет творить чудеса. Лазер, например. И вот, скажи мне прямо сейчас: что такого делает резонанс, почему так происходит? Только не поверхностно ответь, а постарайся схватить суть явления.
– Ну… – ненадолго задумался Олик, – резонанс приводит все компоненты колебательной системы в соответствие… так что они становятся близко подобными друг другу… или полностью подобными… и в пределах резонансной системы обладают сходными, а то и вовсе одинаковыми характеристиками.
– Так! – вскричал Козак. – Да! Молодец! В точку! Не хватает самого последнего штриха… ну же!
– Я всё сказал… – недоумевающе посмотрел на него Ванчуков.
– Ладно. И так молодец! А последний штрих вот в чём: резонанс резко, скачкообразно, во многие разы увеличивает ка-пэ-дэ[26]26
КПД – коэффициент полезного действия.
[Закрыть] системы. Вот так, на ровном месте: был ка-пэ-дэ пять процентов, а стал – пятьдесят! А то и все девяносто с хвостиком. Насмешка над термодинамикой… Теперь скажи, чем все эти рассуждения важны для нас с тобой?!
Ванчуков пожал плечами – мол, хватит, сдаюсь.
– А для нас с тобой это означает вот что: важно не количество нашей работы; важно качество. И, начиная что-то, нужно стараться хорошо подумать – а что это может дать в итоге? Сизиф, тот много работал. Так много, что даже в легенду попал. Давай никогда не будем этими самыми Сизифами – ни я, ни ты… – Козак похлопал Ванчукова по плечу на прощание.
* * *
Ванчуков едва успел сбросить куртяшку и натянуть белый халат, как доктор Гройсман выглянула из своего кабинета:
– Ольгерд, зайди!
Гройсман ощутимо картавила. Тяжёлые, но модные очки едва зацеплены за длинный, но аккуратный нос. Короткая причёска тщательно уложена «под лак», в ушах серьги с небольшими, но сразу заметными бриллиантами. Между пальцами правой руки сигарета, которая, как теперь знал Ванчуков, никогда не кончалась – курила Гройсман мало, а вот жгла сигареты, словно те были ароматическими палочками, постоянно, почти без перерыва. Татьяна Михайловна была заведующей всем экспериментальным блоком и докторскую диссертацию защитила ещё года за три до рождения Ванчукова.
Ванчуков, с пунцовыми от мороза щеками, оставляя за собой на полу прозрачные водяные следы от снежной крошки, тающей в прорезях рифлёных подошв неуклюжих зимних ботинок, зашёл в кабинет. Назвать это недоразумение кабинетом язык, честно говоря, не поворачивался. Высокое окно; низкий, почти сразу над полом, широченный подоконник, без стеснения используемый сотрудниками и посетителями как дополнительное сидячее место; древний стол сороковых годов, одно, новое и модное, поворотное кресло с высокой спинкой, всегда принадлежащее, понятно, самой Татьяне Михайловне; два полуразваленных стула. Аппендикс, не кабинет. Задняя стенка, что за спиной Гройсман, была сделана из дэ-эс-пэ: на самом деле то была не стенка, а хлипкая перегородка, отделявшая загончик Гройсман от фотокофейной, имевшей отдельный вход с другой стороны.
– Доброе утро, Татьяна Михайловна!
– Доброе, доброе… Молодец, не опаздываешь. Садись!
Ванчуков с размаху плюхнулся на подоконник.
– Знакомься, Ольгерд! – сказала Гройсман. Со скрипучего стула у гройсмановского стола поднялся молодой мужчина, лет, наверное, тридцати. В халате, под которым была офицерская рубашка с галстуком. Брюки и ботинки тоже военного фасона. Ещё в раздевалке Ванчуков увидел на плечиках выбивающиеся из общего стиля шинель и офицерский китель со старлейскими погонами и змеями с чашами в петлицах. – Юрий Николаевич Селюнин.
– Ольгерд, – протянул руку Ванчуков. – Ольгерд Ванчуков.
– Юрий, – спокойно ответил на пожатие молодой человек. – Можно Юра.
– Мы сегодня, – продолжила Татьяна Михайловна, – работаем одной бригадой. Я, Юра и Ольгерд. Я оперирую, Юрий Николаевич ассистирует, Ольгерд, как всегда, «на крючках». Всё ясно?
– Так точно, Татьяна Михайловна! – чётко, по-военному, отрапортовал старший лейтенант Селюнин. – Тогда мы пошли за собакой?
«Идите», кивнула Татьяна Михайловна, зажигая следующую сигарету и погружаясь в чтение научного журнала.
– К Татьяне, за промедолом, – сказал Ванчуков.
Лаборантка открыла наркотический сейф, выдала по счёту ампулы, Селюнин расписался в журнале, набрал в шприц, пустые ампулы вернул Тане.
– Пошли?
– Пошли. Двигаемся на запах, – скаламбурил Олик. Селюнин улыбнулся: мальчишка ему явно нравился.
В вонючем с низкими потолками виварии, звенящем от надсадного лая, Селюнин и Ванчуков спокойно надели ошейник на небольшого серого с белыми подпалинами кобелька; Ванчуков аккуратно – животное даже не дёрнулось – вколол под кожу промедол. Стали подниматься на третий. Собака обнюхивала все углы, но препарат начал действовать быстро. Не дойдя до двери лаборатории одного лестничного пролёта, кобель улёгся на пол и уснул. Ванчуков встал на колени, наклонился, обнял собаку, прижал к себе, неуклюже поднялся и пошёл наверх. Селюнин, даже не успевший предложить Ольгерду помощь, шёл следом.
Положили на стол, сделали тиопентал в мышцу. Дали миорелаксант, заинтубировали, подключили к аппарату.
– Одеваемся, – объявила Таня, подавая «намытым» Селюнину и Ванчукову операционные халаты и помогая надеть перчатки.
Из кабинета, уже без сигареты, вышла Татьяна Михайловна. Тщательно вымыла руки, облачилась в оперформу. Спросила:
– Готовы?
Селюнин и Олик кивнули.
– Тогда начинаем. Таня, ты на регистраторах. Смотри, не спи там!.. а то будет как в прошлый раз…
– Не буду спать, Татьяна Михайловна! Честное пионерское!
Ванчуков размылся[27]27
Хирургический сленг, означает, что хирург перестал соблюдать нормы стерильности и в таком виде больше не может подойти к операционному полю.
[Закрыть], сел в фотокофейной, выпил стакан чая, заел принесённым с собой бутербродом с плавленым сырком. Ровно в три, прямо по сигналу точного времени из радиорепродуктора, позвонил Пану. Уроки полчаса как кончились, должен был застать. Но у Пана трубку никто не снимал. Ладно, решил Олик, позвоню из метро.
В наземном вестибюле «Новокузнецкой» было гулко, гулял холодный сквозняк. С улицы то и дело надсадно подвывали двигатели трамваев на остановке; жирно чавкали по липкой грязи тысячи подошв; то и дело раздавались скрип и ухание открываемых дверей, маятниками летавших туда-сюда в широких, с дубовыми косяками, дверных проёмах. Все телефоны-автоматы оказались заняты, кроме одного. Ванчуков было пошёл, но наткнулся на табличку «не работает». Освободился соседний; Ванчуков выудил из брючного кармана последнюю «двушку», закатил в прорезь аппарата.
– Алло… – лениво сказал Пан.
– Пан, я на «Новокузнецкой». Мне тут десять минут по прямой до «Динамо». Ну и пешком столько же, чтобы не бежать.
– Ну, приезжай тогда, – согласился Пан, вешая трубку.
* * *
Панов прохлаждался на лавочке перед двухэтажной хибарой. «Нота», в собранном виде напоминавшая медицинский саквояж из мультфильма про Айболита, стояла рядом на сиденье. Только у Айболита был красный крест, а тут на крышке наклейка с девчонкой. Олик усмехнулся.
– Пошли, – поднялся с лавки Пан, берясь за ручку магнитофона. – Кулёк с бобинами возьми.
Паша жил через три дома, в глубине квартала. Дом новый, кирпичный. Летом с Пашиного балкона можно было смотреть бега – лоджия выходила аккурат на ипподромовский беговой круг.
Три месяца назад родители купили Паше электрофон с усилителем за триста рублей. Магнитофона у него не было. Паша слушал пластинки, какие придётся – потому что своих нормальных у него тоже не было. Паша учился с Ванчуковым и Пановым в одном классе, но на самом деле не учился вовсе. После восьмого он собирался в ЗИЛовское училище – отец обещал устроить. Тройки ему ставили автоматически, жить не мешали. Олик с Паном время от времени ходили к Паше в гости. Пан брал свой магнитофон, записанные братом, студентом МАИ, бобины. У брата в группе кто-то там занимался фарцой, поэтому количество свежей музыки у Пана лимитировалось только толщиной кошелька для оплаты недефицитной бобинной магнитной ленты. С последним, понятно, были проблемы.
– Чего принесли? – нетерпеливо переминался с ноги на ногу, открывая дверь, тощий прыщавый Паша.
– Сегодня «киссы», «назареты» и «юрайхип», – солидно ответил Пан. – Брат сказал, самый свежак.
– Есть хотите? – спросил Паша.
– Это мы всегда хотим!.. – расплылся в добродушной улыбке Панов. – Врубать?
– Врубай! – махнул рукой Паша.
Панов одним концом воткнул в маленькую «ноту» принесённый с собой толстый белый кабель, новый – только вчера из магазина, другой конец отдал Паше:
– Тебе лучше знать, куда.
Паша полез на заднюю панель усилителя, воткнул коннектор. Пан надавил на клавишу, бобины завращались и… ничего не произошло.
– Наушники дай, – попросил он Пашу.
Паша недоумённо протянул «тдс-1» со свёрнутым в бухточку кабелем. Пан размотал, воткнул в «ноту».
– Пашет всё…
– Распай, – сказал Ванчуков. – Тут в «папе» левый-правый по сторонам, первый и пятый, а у тебя в «маме», поди, второй и четвёртый, а центральный третий – ноль. Поэтому ни один канал не пробивает. Паяльник есть?
Паша принёс паяльник с канифолью и припоем. Ольгерд пассатижами сдвинул внешнюю часть коннектора. Ну да, так и есть. Перепаял оба штырька за полминуты. Подул, чтоб быстрее остыло. Насадил кожух обратно.
– Втыкай!
Паша воткнул, из динамиков жахнули «Кисс», – Пан просто забыл остановить бобину. Олик «топнул» по кнопке, перемотал на начало. Сделали погромче, открыли дверь на лоджию, пошли курить.
С паяльником Олик управлялся ловко. Когда было ему не то восемь, не то девять, отец на день рождения подарил набор «сделай сам». Из набора можно было собрать приёмник на длинные и средние волны. Ванчуков открыл большую коробку и принялся рассматривать содержимое. Там лежала куча каких-то деталюшек, ещё – пластмассовый корпус, всякие регуляторы, ручки и пластмассовый же большой прямоугольник с просверлёнными дырками. Для чего нужен прямоугольник, Олик понял сразу – это чтоб набивать в него детали при монтаже. Но как соединять их между собой? Нужны провода. А проводов в наборе не было. Пошёл к Сергею Фёдоровичу. Тот что-то буркнул такое вроде «мне некогда», на вопрос не ответил. Тогда Ванчуков положил прямоугольник в портфель и пошёл к школьному учителю физики Николаю Тарасовичу. Так Ольгерд впервые узнал, что такое «печатная плата», «дорожки», почему тут не нужен никакой провод и, заодно, как пользоваться паяльником. Николай Тарасович помог собрать приёмник. Это заняло час. Ванчуков пришёл домой, вставил новые батарейки – в кабинете физики батарей не было, учитель включал через внешний блок питания – настроился на «Маяк» и стал слушать «вести с полей». Поля Олику были безразличны, вести тоже, но приёмник, спаянный собственными руками, работал. И это было главное. Правильно сказал Саша: «резонанс». Только было немного обидно, что резонанс образовался с Николаем Тарасовичем и совсем никак не возникал с родным отцом. Впрочем, тогда Ванчуков был ещё мал и в таких тонкостях отчёта себе не отдавал.
– Тут пацаны скоро на Масловку наедут. Кнышу неделю назад «маслы» бестолковку отремонтировали[28]28
Отремонтировать бестолковку – разбить голову (блатн. арго).
[Закрыть]. Идти надо, а то маслята берега потеряли по беспределу… – Паша бубнил низким голосом, выпирая кадыком, «включив» старшего.
– Почему по беспределу? – спросил Пан.
– На «бегах»[29]29
«Бега» – территория ипподрома (сленг.).
[Закрыть] потому что отремонтировали. Кныш один, их четверо.
– Точняк, беспредел. Чего это они на «бега» суются?..
– Вот и я про то. Идти надо. Пойдёшь, Пан?
Панов утвердительно кивнул головой.
– А ты, Ванч?
Ванчуков пожал плечами: «не знаю».
– Чего?
– Ничего, – спокойно сказал Паше Ольгерд.
– Ладно, проехали, – свалил с темы Паша. – Портвейн есть. Будем?
У Ванчукова дома пить было не принято. Отца Ольгерд видел пьяным всего однажды, но – в хлам. Ещё не в Москве. На завод приезжал Брежнев: официально открывали самый большой в стране прокатный стан. Заводу, за заслуги, генсек повесил на знамя Орден Ленина, а к лацкану пиджака Вяч Олегыча Барышева собственноручно приколол золотую звезду Героя Соцтруда. Был банкет. Леонид Ильич поднял две рюмки, и его быстро увезли на вокзал к личному поезду. Банкет, понятное дело, продолжился, уже без протокольных ограничений. Ольгерд проснулся в два ночи от шума. Нечистой и ещё какой-то плечистый мужик, Ивану под стать, на руках, как малого ребёнка, затаскивали бесчувственного Сергея Фёдоровича в квартиру. Аккуратно раздели, положили на диван в большой комнате, пледом накрыли.
– Ты прости, Иза, – заплетающимся языком гудел матери Нечистой, – тут такое дело… завод, Брежнев, Барышеву – «Героя»… в общем, перебрали сегодня… Завтра полечимся, само собой, и всё!.. Больше – ни-ни!
– Я не буду, – мотнул головой Ванчуков.
– Чё так? – насмешливо спросил Паша.
– Не хочу.
– А по чуть-чуть?
– И по чуть-чуть не хочу.
Ольгерд, конечно, мог с ними выпить. Он уже два раза в жизни пробовал. У родителей в шкафу стояла какая-то «массандра», вот же странное слово. Олик приложился раз, через неделю – второй. Ничего интересного для себя не открыл. Решил: ну, стоит в шкафу, так и пусть стоит. Я-то тут при чём?..
Пить с пацанами Ванчуков сейчас не хотел по причине, в которой не отдавал себе отчёта.
Хоть и был Пан на полголовы выше и в два раза шире, а Паша пусть не сильно шире, но всё равно – выше, Ванчуков каким-то спокойным внутренним чувством понимал: взрослый здесь один. Он. Эти двое ещё дети. Их мир ограничен какими-то «бегами» и «маслами», драками «стенка на стенку», пустыми разговорами, сдобренными портвейном. Для Ольгерда, кто ещё утром стоял за операционным столом с профессором-хирургом и старшим лейтенантом медицинской службы – пусть не по-настоящему, пускай в эксперименте – тот мирок излёта детства был странен, если не сказать смешон. Год назад Саша Козак ввёл его в совсем иной мир: где живут знания и живут знаниями; где будущую профессию осваивают с тринадцати, не видя в том ничего экстраординарного; где с самой первой минуты с тобой разговаривают как с коллегой; где, наконец, к тебе безо всяких исключений относятся как к взрослому. «Если бы ко мне вот так, каждый день, приходили с такой амуницией…», – вспомнил Ольгерд слова Нины Константиновны.
– Я пойду, пожалуй. Спасибо, пацаны, – твёрдо сказал Ванчуков на пути в прихожую. «Дэр ай ваз ан э джу-улай морнин лукин фо лав…»[30]30
«There I was on a July morning looking for love» (англ.) – первые строки культовой песни July Morning группы Uriah Heep.
[Закрыть], – вторила пронзительному вокалу гулкая бас-гитара, когда он закрыл за собой дверь.
Никто не провожал.
* * *
Зимняя сессия в ВБШ состояла, как обычно, всего из одного экзамена – за прошедший семестр. Сдавать надо было нормальную физиологию, «углублёнку», то есть цикл второго года обучения. Экзамен у Ванчукова принимал Козак. Длилось всё минут сорок. Саша сказал так:
– Чтобы получить «хорошо», тебе не нужно было даже приходить. Правильно, Людмила Вадимовна? – Зорина, принимавшая экзамен за соседним столом, подтвердила: «Правильно, Александр Борисович». – Но четвёрка нам не нужна: ни мне, ни, тем более, тебе. Так что разговаривать станем долго, что называется, по душам…
Брешь в ванчуковской обороне Саша Козак пробил быстро. Здесь – ты название перепутал, здесь – в формуле у тебя ошибка, тут не так схему нарисовал. Вскоре Олик сидел взмыленный, заметно краснолицый. Он, конечно, знал, что Козак никому спуску не даёт, но чтобы вот так?..
– На сегодня закончим. Пять… – объявил Козак и спокойно добавил: – С минусом. Знаешь, для чего в жизни нужны минусы?
– Для чего? – спросил Ванчуков охрипшим измученным голосом.
– Для того, что минус на минус даёт плюс, – по-доброму сказал Саша. – Не расстраивайся. Ты выстоял. Ты – молодец. И вообще, у меня у самого скоро сессия. Предпоследняя, между прочим. Если думаешь, что со мной будут разговаривать иначе, ошибаешься. Кто на многое претендует, с того и спрос…
– Броня крепка, и танки наши быстры! – улыбнулся Олик всем расплывшимся красным лицом. Хотелось залпом стакан воды и поскорее под холодный ветер декабря, охладить продолжавшую пылать физиономию.
– Свободен! – возвестил об окончании ванчуковских мучений Козак.
Ольгерд уходил с экзамена, шёл по вновь, как и год назад, нешумной заснеженной улице Кибальчича и ощущал, как в нём, шаг за шагом, растёт неясная тоска. Он хотел снова вернуться туда, на два часа назад, и снова сдавать экзамен. А потом, когда экзамен снова будет окончен, вернуться опять. Ванчуков понимал, что это глупо, но ничего поделать не мог. Там, позади, только что осталось то, что имело важный, безусловный смысл. И прощаться с ним, даже ненадолго, было больно. Впереди лишь пустые, совсем ненужные ему десять дней зимних каникул. К чему они, если Дед Мороз давно умер, чудес на свете не бывает, а за тридцать первым декабря наступит такое же тридцать второе. И все лицемерно будут считать его Новым годом…
* * *
В школе по случаю окончания четверти и наступающего семьдесят шестого устроили танцевальный вечер. Ванчуков надел лучшее, что у него было: цветастую рубашку, чёрные чуть клешёные брюки (из египетских джинсов давно вырос) и свежие финские двухцветные ботинки на платформе. Ботинки подарила мать. Расщедрилась, купила на остатки чеков в «Берёзке». Прикид был так себе, но другого Ольгерду не было суждено вовсе.
В тёмном зале полчаса пел-играл грустные полублатные песни плохо строящий ладами местный ансамбль, а потом, когда и без того скудный репертуар закончился, тут же начались какие-то дикие пляски с топтанием под «Шокин Блю» и «Назарет». Музыка гремела; возбуждённый народ то и дело – поодиночке и мелкими стайками – просачивался из душного актового зала, жарко пахшего нехитрыми духами и по́том молодняка обоих полов, «на покурить» в туалеты этажом ниже. Дежурные представители педколлектива делали вид, что ничего не замечают.
– Девчуль будем клеить! – провозгласил Пан, для верности ещё раз заправил новый батничек в самопальные клешёные вельветовые штаны и отправился на другой конец зала, где толпились и кудахтали девицы. Почему-то порядки в зале сами по себе устанавливались как в бараньем загоне: мальчики и девочки раздельно.
Ванчуков тоскливо глядел на творящееся вокруг сторонним наблюдателем. Клеить не хотелось никого. Может, если б заранее позаботился, зарядил стакан портвейна, как Панов, то всё могло бы быть иначе. А так, по трезвяку, совсем без вариантов. Просто скучно.
– Олик, пойдём танцевать, – предложила Сёмушкина. Ольгерд пожал плечами: «Ну, пошли». Сёмушкина, обычно приятная, в принципе, но бесцветная, сегодня была ярко намазана. Грим больше напоминал клоунский, чем женский.
– Боевой раскрас? – спросил Ванчуков. Он даже чуть удивился, чего эта размазня припёрлась на вечер. Но вроде девчонка неплохая. Зачем отказывать…
– А? – не расслышала Сёмушкина.
– Ничо, – крикнул в ухо Сёмушкиной Олик, – проехали, Света!
Музыка играла непонятная, танцевать под неё можно было как угодно. Прыгать козликом Ванчукову давно расхотелось.
– Давай «медляк», – сказал на ухо Сёмушкиной. Та, не ответив, положила руки на плечи. Кисти Светкиных рук по-домашнему пахли косметическим кремом. Ванчуков принял обеими руками девичью талию. Талия не сопротивлялась, вела себя в точности так, как было угодно его рукам. Блузка под ладонями оказалась ворсистой, будто собачья шерсть, и чуть влажной. Росточка Сёмушкина небольшого; макушка её поблёскивала каштановым каре «а-ля Мирей Матье» на уровне глаз Ванчукова.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































