Текст книги "Грустная песня про Ванчукова"
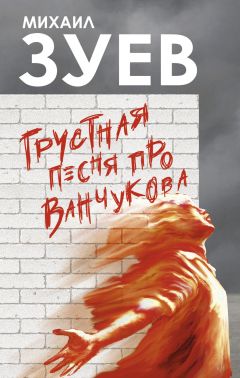
Автор книги: Михаил Зуев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 45 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
Говорить было не о чем. Ванчуков медленно подкручивал податливую партнёршу по часовой стрелке и не хотел от неё ничего. Совсем ничего. Мелодия кончилась, следом заиграл уже откровенный жестокий «медляк». Ванчуков не отпустил, да она и не собиралась. Светка приклеилась к Олику, откровенно распласталась по нему, повторяя все изгибы, подрагивая, играя тазом. Почувствовав спонтанную эрекцию, не отшатнулась, даже прижалась крепче: «моё!» Это Ванчукову понравилось.
– Мне домой надо, – непонятно зачем сказал он Светке на ухо, когда танец кончился. На самом деле никуда ему надо не было.
– Тогда я тоже пойду. Проводи меня.
Они шли заснеженными, тысячи раз до того исхоженными дворами под яркими фонарями, обдуваемые сказочной крошкой Снежной Королевы, и молчали.
– Вот. Мой подъезд, – словно оправдываясь, прошептала Сёмушкина.
– А-а-а… – проснулся утонувший в девичьем облаке Ванчуков. Он ведь ещё не знал, что может женщина делать с мужчиной, даже на расстоянии, даже молча, даже не касаясь руками. – Ну, давай, пока…
Светка пискнула, порывисто привстала на носочки, обняла за шею и поцеловала в губы. Её губы пахли мятой от жвачки, щёки пылали. Олик опешил, чуть приоткрыл рот навстречу. Светка поцеловала второй раз, глубже, влажнее, и ещё. И ещё. Ванчукова никто никогда не целовал в губы. Он почему-то ослаб, задрожал крупной дрожью, поскользнулся, рухнул спиной назад в сугроб. Сёмушкина упала на него сверху. Целовала снова. Глаза её, темнее тёмной ночи, были близко-близко. Олик хотел смутиться, но не смог: был занят собой. В жизни стало на одну тайну меньше. Дед Мороз умер снова. И неясно: смеяться?.. плакать?..
Всё решила Светка. Рассмеялась:
– Вставай давай! Ты что, матрас? А то ведь раздавлю!
Поднялась сама, протянула руку.
Ванчуков аккуратно принял девичью руку. Встал. Отряхнулся. Обнял девушку порывисто. С высоты роста своего поцеловал, танком круша девичьи надежды, в холодный высокий лоб с мелкими завитушками каштанового каре. Повернулся, побрёл прочь, неуклюже раскачиваясь, будто пьян был.
Шагов через тридцать обернулся. Сёмушкина застыла под фонарём, неотрывно глядя вслед. Махнул рукой. Только тогда – подпрыгнула, коротко помахала в ответ и тут же скрылась за подъездной дверью.
Ванчуков шёл домой, облизывая изменившие вкус губы, пытаясь унять бешеный стук сердца в ушах. Вспоминал талию, таз, бёдра, аккуратные холмики в вырезе блузки. Глаз не помнил. Вспоминал и не ощущал совсем ничего. На ходу закурил вонючую «дукатину». Стал сам себе противен, потому что знал, зачем закурил.
Курить не хотел. Ему просто нужно было перебить на губах вкус нежеланных девичьих губ. «Моей вины здесь нет», – твёрдо сказал себе Ванчуков. «Все подлецы делают это», – повторило каждое слово эхо глубоко внутри. Выбросил скуренный до половины чинарик в снег. Сплюнул вслед. Сглотнул слюну. Наконец успокоился.
Во рту снова перекатывалась привычная помойка.
Глава 13
Троллейбусы Ванчуков любил. Может, потому, что в детском его городе у синего моря, в городе, что ещё будет ему сниться и никогда не перестанет, никаких троллейбусов и в помине не было. Всё малое детство ходил Ванчуков быстрым шагом да ездил на трамваях с автобусами. Но – пустили! Всё же пустили: новые, с иголочки, пластмассой с краской пахнущие. Чешские. Закруглённые, обтекаемые, с нежными, чуть грустными выражениями лиц, с глубокими, пронзительными взглядами блестящих в ночах фар. С жаркими в любой холод и продуваемыми в любую жару длинными просторными салонами. Белые, кремовые, салатовые; на мягчайшем резиновом ходу, загадочно щёлкающие релюшками, тяговито подвывающие двигателями где-то там, далеко, под чёрной резиной укрытыми полами. Пустить-то пустили, да накататься Ольгерд не успел. Через полгода из города навсегда уехал.
Троллейбусы в зимней Москве оказались попроще – старые, латаные-перелатаные, угловатые, грязноватые, с кругами поворотных площадок в двухсекционных салонах, холодные зимой, со стёклами в толстой карамельной несладкой наледи, с хлюпающей по полу солёной жижей, подъедающей дефицитную обувь.
Ванчуков собирался в кино. Всего-то – вытерпеть в ледяном брюхе левиафана семь остановок по Горького до Пушкинской, а там уже легче. Можно не ждать пересадку, а просто пробежаться вниз по Тверскому бульвару до площади Никитских ворот. Ольгерд в два прыжка вскочил в салон подошедшей к остановке у Второго часового железной колбасы, прокомпостировал прозрачный на просвет талончик с едва угадываемой надпечаткой, забился в аппендикс между задней дверью и задним стеклом, в три приёма продышал оконце в ледяном оконном налёте и стал бездумно наблюдать, как течёт в обратную сторону в лучах невысокого дневного солнца озябшая улица.
Новый год выдался душным и скучным. Родители молча смотрели телевизор. Цветной. Его три дня как купили. Большой, лакированный, пощёлкивающий искрами в глубоком, чуть розово светящемся спиральками ламп, пахнущем озоном чреве, ящик выглядел гигантом-переростком, царственно восседая на неширокой, явно не для него предназначенной тумбочке с поворотным столиком. Чтоб нормально поставить новое приобретение, столик со штырьком пришлось снять, и стоял он теперь сиротливо у стены, дожидаясь, пока ему определят постоянное место для вечного хранения. В другой бы раз Ванчуков без сомнений порадовался новому телевизору. Но слушанье полтора дня ватной тишины холодного дома, прерываемой время от времени щёлканьем отцовской зажигалки, тихими бесстрастными шагами матери в коридоре да негромким бубнежом ящика, стало для четырнадцатилетнего человека нелёгким испытанием.
Второго утром родители ушли на работу, сына не будя: каникулы. Но Олик всё равно проснулся. После завтрака завалился на диван с книгой: читал много, в районной библиотеке был, что называется, своим. Чтение не шло; взгляд сбивался, страница не переворачивалась. Мысли рассеянно бродили где-то вдалеке. Тогда и пришло решение: в кино!
В кино можно было пойти тремя способами. Первый, самый простой – выйти на улицу, дотопать до проспекта. Там, рядом с киоском «Союзпечати», возле стены вкопан в асфальт здоровенный стенд с репертуаром и расписанием всех кинотеатров. Изучив расписание, можно было идти за билетами: время дневное, хоть и каникулы, но день рабочий, значит, очередей не будет. Второй способ заключался в том, чтобы оторвать себя от дивана; стащить со стола на диван, опять же, телефонный аппарат и телефонный справочник; положить рядом блокнот с карандашом и методично, устали не зная, дозваниваться до автоинформаторов каждого интересующего кинотеатра. Чем лучше кинотеатр, чем «центровее», тем чаще линия занята. Но при известной доле сноровки и настойчивости результат тоже вполне достижим.
И переться на проспект, и накручивать хрюкающий диск Ванчукову было откровенно лень. Значит, оставался испытанный третий способ: идти наобум. Кинотеатров в центре много – не попадёшь в один, подвернётся что-нибудь в том, что рядом.
В полуподвальном помещении касс «Кинотеатра повторного фильма» стояла очередь. Была она из двух человек: пожилая женщина впереди, Ванчуков позади. Ближайший сеанс в половине первого, времени на стенных электрочасах – что-то около полудня.
– Двенадцатый ряд, середина, – попросил кассиршу Ванчуков.
– Мальчик, у тебя что – тридцать пять копеек лишние? – удивлённо спросила та. – Зал пустой. Бери любое место. Там разберёшься.
– Спасибо, – поклонился кассирше Олик. – Давайте тогда самый дешёвый.
– Десять копеек. Второй ряд устроит?
– Ага! – кивнул Ванчуков.
Коржик из буфета был вкусный. Рассыпчатый, поджаристый, таял во рту, растворяясь в сладком кофе с молоком из гранёного горячего, чуть липкого стакана. Пробурчал первый звонок, двери в зал открыли. Ольгерд зашёл в узкий, длинный, на пустую бутылку из-под джина «бомбей сапфир» похожий зал; огляделся. Проход в зале располагался у стены слева по ходу. Дошёл до восьмого ряда, прошёл мимо всех кресел, сел у самой стены – здесь вряд ли кто-то спугнёт. Перед киножурналом зрителей набралось человек пятнадцать. После журнала свет не включали, запустили ещё пятерых. Фильм начали сразу, без перерыва.
– …Архип, подай ремешок[31]31
Первые кадры фильма Андрея Тарковского «Андрей Рублёв». Мосфильм, 1966 г.
[Закрыть].
– На, возьми.
– А ну, подымай!
– …Господи, успеть бы.
– Скорей отвязывай…
– Архип! Я сейчас!..
– Скорей, Ефим!
– Здесь я, здесь…
– Сейчас…
– Дядя, режь верёвку!
– Сунь ему головешкой в рыло!
– Лечу!
– Ефим! Ты куда?
– Лечу!
– Архип! Лечу!..
– Эй, вы! Догоняйте меня!..
– Господи, что это?..
– Архипушка-а-а!..
Когда только что плясавшего с бубном скомороха ударили круглой лысой головой о дерево, Ванчуков застыл. Когда чужеземцы били, насиловали, убивали, когда это же делали свои, когда в пустой церкви лили в глотку расплавленный свинец, Ванчуков – ему так показалось – перестал дышать. Когда отливший колокол безродный голодный мальчишка плакал в грязи на руках Андрея Рублёва, Ванчуков понял, что там, в грязи, это он сам!.. И это его гладят, обнимая, руки того, кто живёт в веках. Когда фильм из безотрадно чёрного стал цветным и пошли по экрану лики и блики, Ванчуков весь сжался, дрожа. Но когда полил дождь, и был гром, и кони у реки, – Ванчуков отпустил себя и, никого не стесняясь, заплакал.
Зажгли свет. Двери открыли. В зал влетел – наполняя двадцатым веком – клубясь, завихряясь, морозный уличный воздух. Застучали, складываясь, сиденья кресел.
На улице стемнело. На душе стало светло.
Наутро, около одиннадцати, Ванчуков снова собрался в кино. Вызвал лифт, съехал в вестибюль. Там раскрасневшаяся от мороза Ника доставала из почтового ящика газеты.
– Здравствуй, – бесцветно сказал Ванчуков.
– Здравствуй, – не поднимая глаз, повторила за ним Ника.
Ванчуков дождался, пока Ника закроет почтовый ящик, пройдёт мимо него к лестнице. Развернулся и пошёл следом. Лифтовые двери открылись.
В ту самую секунду Ванчуков припомнил выражение лица Сёмушкиной и ясно понял важнейшую вещь. Светка ведь тогда его ни о чём не спрашивала, не просила: просто подошла и взяла своё. Было именно так. Значит – нужно идти до конца и брать. Без оглядки, без спроса, без сомнений.
– Нажимай, – сказала Ника.
Ванчуков надавил «14». Тупо уставился на глубоко утонувшую в панели кнопку. Наверное, этой кнопкой был он сам. Ванчуков смотрел, Ника застыла бездыханно; лифт неумолимо поднимался вверх, едва слышно вибрируя.
С грохотом отщёлкнулась кнопка, кабина чуть вздрогнула, зависла над пропастью. Разъехались двери. Мужчина взял женщину за руку.
– Я… сейчас-сейчас… сейчас… – заполошно, сбивая дыхание, зашептала Ника, дрожащей рукой на ощупь выуживая из висящей на плече сумочки обречённо звякнувшую связку ключей.
Газеты, шелестя, рухнули на пол, разлетелись по сторонам. Читать их было некому.
* * *
…«Ничего не случилось», – судорожно плясало в голове Ванчукова. Быстрые сильные ноги сами несли его, срезая ненужные углы, по скользким потайным дорожкам по гипотенузе тихого района, с Беговой улицы к кольцевой «Белорусской»…
Ему было теперь (почти!) четырнадцать. Он много, запойно, читал. Был отличником в школе. Два раза успел сдать на пятёрки в ВБШ оба студенческих вузовских курса нормальной физиологии – и стартовый, и продвинутый.
В прошлом мае, в конце седьмого класса, когда жизнь пинками отворяет замёрзшие ворота весны и выставляет прочь постылые ставни, когда в школах уже не учатся, а присутствуют, Ванчуков сошёлся с Кузьмой. Кузьмичёв тянул лямку на соседнем, среднем, ряду. Высокий, весёлый, спокойный. Глупый, ленивый и добрый, «мне всего-то год ещё тут, до училища». Кузьма жил совсем рядом со школой. Вместе сбегали с пары последних уроков, шли или к нему, или к Ванчукову, перекусывали что-нибудь. Если дело было дома у Олика, то он фигурно рассыпал по столу учебники и тетради – чтоб пришедшая с работы мать видела: учился. Если же к Кузьме, то там вообще всегда было пусто и никому не было дела ни до сына, ни до его приятелей. Просто нефигурно бросали портфели в прихожей и шли во двор.
Ванчуковский дом – высокий, шестнадцатиэтажный. За год отстроили вдобавок и второй корпус, такую же серую дылду. Швырнули с грузовика на землю наспех сколоченную песочницу; вкопали качели, сварили стальные оградки вокруг клумб, покрасили без изысков красным с зелёным. Понятно, что у ванчуковского дома никакого двора быть в принципе не могло: люди ещё на своих лестничных клетках не все друг друга знали; какой же там двор, откуда возьмётся?..
Дому Кузьмы было уже лет двадцать; строили, когда ломали страшные чёрные, из двадцатых годов, бараки, некогда со всех сторон обступившие ипподром. Две длинные кирпичные пятиэтажки буквой «г» с одной стороны; школьная глухая стена с третьей дополняла «г» до «п». Внутри же уютной «п» – самый настоящий московский дворик. С разнокалиберными скамейками-лавочками, с маленькими цветниками возле стен, с детскими грибочками, аж с двумя песочницами (то, наверное, чтобы никому не было обидно), с горкой для катания. А в левом углу – щербатый стол для домино с вкопанными в землю отполированными штанами поколений лавочками.
По понятным причинам песочницы Ольгерду с Кузьмой были без надобности, а вот возле доминошного стола била ключом живая жизнь. Доминошным стол называли, скорее, по инерции, по скромности, по старой привычке. На самом деле теперь, в конце семидесятых, стол был многогранен. Он – и водочный, и шахматный, и пивной, и карточный, и просто бездельный. Попасть на три скамьи с трёх сторон стола можно было только либо протиснувшись сбоку, либо перелезая через сидушки скамей – широко, будто раскрытыми ножницами, взмахивая ногами. Каждый, кто приходил к столу, тут же старался как можно быстрее усесться. Опоздавшим места не хватало, и они толпились, нависая вторым рядом. Впрочем, было заведено одно непреложное правило. Как только появлялся кто-то из старших, молодняк беспрекословно ему свои места уступал: взрослых здесь уважали, безусловно. Иначе можно было без предупреждения отхватить по бестолковке.
Взрослые мужчины разговаривали за столом, обращаясь друг к другу по именам-отчествам, громко, степенно, прокуренными голосами, с неизобретательным монотонным матом. Пили, под столом в один на всех «гранчик» разливая. В пятиэтажке, образовывавшей перекладину в «п», отделение милиции; и хотя вход всё же с другой стороны – понятно, что лучше не напрягать. Да и самим не напрягаться.
Ванчуков провёл за столом и возле недели две. На большее его не хватило. А те, кто составлял костяк, протирали штаны друг напротив друга десятилетиями. Во дворе детства Ванчукова, в городе у синего моря, был такой же стол, и за ним сидели такие же нецензурно разговаривавшие мужики. Но тогда Олик был мал, и всё это существовало за пределами его сферы внимания. То ли дело теперь.
Каждый день, неуважительно швыряя школьный портфель на пол – у себя или у Кузьмы – и топая к заветному столу, Ванчуков не мог не задаться простым вопросом: «Что я делаю здесь?» Это полная глупость, что, мол, нужно сначала попробовать, а потом понять… Да ничего подобного! Ольгерд ещё «до» прекрасно отдавал себе отчёт: ничего общего у него с этими людьми нет и быть не может. И вовсе не потому, что он считал себя «избранным» – куда уж там. А потому, что у этих мужчин каждый день был одинаков. А у Ванчукова каждый день был разным. В этом и состояло главное, философское, системообразующее отличие между ним и теми, кто собирался на лавочках.
Но был и второй вопрос: «Раз всё тебе понятно, тогда зачем это тебе нужно?» Ответ на него Ванчуков тоже знал, даже несмотря на малолетство. И ответ тот был очень нехорош. Неправилен. Если бы его услышала, к примеру, директриса ванчуковской школы, то Олику было бы точно несдобровать. Ответ звучал так: «Я изучаю». Ванчуков изучал накатывавший на него по вечерам паноптикум; напитывался флюидами «дна», вечного, неуничтожимого, с которым ничего не смогла поделать советская власть, через год-другой собиравшаяся отмечать шестидесятилетие. Он чувствовал себя исследователем. Он хотел знать, как всё это выглядит, чтоб потом всегда безошибочно узнавать и избегать – ибо сделать так, чтобы оно вообще перестало существовать, он не в силах. Зато можно не допускать всего этого в свой мир. Вот что делал за доминошным столом бедно, но чистенько одетый мальчик, до сих пор всё ещё чуждый бранным словам, предпочитавший проводить время в лабораториях, на лекциях и за книгами.
Сиживал за тем столом один такой, годов сорока, откликавшийся на кличку «Люк». Фамилия его была, понятно, Люкманов. Работал каким-то гегемоном на военном заводе неподалёку. Пил под настроение, «козла» забивал – мастерски, курил по-паровозному. Лицом жёлт, щёлочками глаз узок, скулами бугрист, губами слюняв. Козырной темой Люка были «бабы». Дворовый казанова для приличия забивал партейку-другую, выпивал полустакан, свой или тот, что подносили; поскрёбывал жалкую рыжую куцую бородёнку, закуривал, глубоко затягиваясь. Глаза его соловели, и он начинал повествование.
Все до единой «бабы» кругом были у него проститутки. Говорил: «Блядва». Начинал издалека, из глубины веков, со службы в армии: как оприходовал прямо за казармой встояка кралю «куска»[32]32
«Кусок» – прапорщик (жарг.).
[Закрыть] с хозчасти, рот зажимая, чтоб не орала; потом обязательно шла история про то, как кувыркался в стогу возле свиного барака с «поварёшкой» из офицерской столовой. То была обязательная программа. Дальше начиналась произвольная: как по составленному им графику приезжали к нему в часть по воскресеньям на свиданки аж четверо городских. И каждую он – «тянул», «драл», «пёр», «долбил», «пердолил», «пуза́л», «чючил-дрючил», «защеканивал», «рачком подъелдыривал», «галопом, тряся булками, на штыре пускал», «под хвоста зачебучивал»… Всё это происходило в подъездах, в ночных автобусах, на чердаках, в сортирах…
– Раньше, ага, ты чё думал, – пел своё тошнотворное, матом перемежая, Люк, – у них были «ритузы». Шоб «ритузы» снять, это ж постараться надо, во как! – Люк жестами активно демонстрировал, как нужно срывать с «блядвы» «ритузы». – А она ещё схватится, не даёт, падла. А теперь бельишко-то у баб пошло, у-у-у… Чешское-гэдээровское… Немой восторг! Кружевное, тля такая, с перемычечками. Нагнул «маньку», в позу поставил, пальцем перемычечку зацепил, подвинул – оп-па… пук, и тама!..
Истории сменяли одна другую, жирно пузырясь в воображении слушателей. Капало с широко раскатанной блестящей нижней губы Люка; пузырились слюни и шевелились разбуженные мимолётными фантазиями ширинки у молодняка. Ванчуков слушал Люкманова, будто, содрогаясь, глядел в бинокулярную лупу на какое-то малопонятное сучащее сразу всеми липкими лапками грязное насекомое.
Вчера, когда всё закончилось, Олик спустился два этажа тихой лестницей. Открыл дверь пустой квартиры. Принял зачем-то – ещё раз – душ, разобрал диван и уснул безмятежным детским сном. Пришедшая в семь с работы мать только пощупала лоб: не заболел ли?
– Ма-ам, я просто устал, спать хочу, – прошептал Ольгерд. И то было чистой правдой.
Не выпало на долю Ванчукова ни подъезда, ни чердака, ни сортира. Никого никогда не пердолил он и не чючил-дрючил. А был юн и девственен. Даже ни разу не мастурбировал. С невинностью расстался легко и непошло. Ника ничему не учила. Она просто окружила Олика тёплым родным облаком, и в том облаке он плавал без напряжения, лишённый веса, отсутствующий во времени – так живёт плод в материнском чреве – не дыша, летая в горних высях, пока неумолимая судьба не постучится, не призовёт, не изгонит из земного, а может – как знать… – неземного рая.
Полуприкрытые глаза её, вспотевшие от напряжения чудные золотые волосы, застывшее в неге лицо, багровыми пятнами расцветшая шея, оплетавшие его плечи слабые руки – всё слилось для Ванчукова в одно целое. И в том целом был и он сам тоже, и в тусклом дневном свете унылой зимы нельзя было понять: где кончается он и начинается она; и не было никаких урывков и подъездов, а можно было всё и сразу – не торопясь, не сбиваясь, не частя. Не стыдясь.
Пересохшими губами глотали потом чай, друг другу глупо улыбаясь, на полутёмной уже кухне.
– Зачем одеваться? – спросила Ника. – От кого нам прятаться, Олька? Нас никто не увидит.
Ванчуков, впервые в жизни не стесняясь наготы, встал с табурета, подошёл к кухонному окну. За дверью на лоджию, сколько ни лететь взгляду, висела пустота под стальными, беременными снеговыми зарядами облаками. Вдали, на той стороне бегового поля, за приземистыми конюшнями торчал шпиль ипподрома. Чуть правее светилась ушедшим навсегда детством ванчуковская школа. Ника обняла сзади, прикоснулась мягкими губами к основанию шеи:
– Тебе хорошо?
Ольгерд повернулся, подхватил её – оказавшуюся такой малюсенькой и такой беззащитной – на руки, прижал к себе и понёс. Он бы хотел унести её отсюда далеко-далеко, так далеко – как не бывает даже в сказках. Но прямо перед ним торчала лишь чёрная дерматином обтянутая дверь, и ключей от неё не существовало, как, тем более, не найти – может, только пока? – ключей от недоброго, смурного мира, начинавшегося за той дверью.
– Да, да, да… – зашептала Ника, застонала, снова обвила шею руками. То был её день.
Утром Ольгерд проснулся, собрался быстро. На ходу перекусил, выскочил на улицу и быстрым шагом, мимо школы, потайными дорожками внутри района, отправился в библиотеку на Беговой.
– А-а, Ольгерд! – добро посмотрела «хозяйка» читального зала. – Что хочешь сегодня?
– Я, пожалуйста, в открытый доступ. Если можно.
– Ну ладно, – кивнула библиотекарша. – Иди.
То, что требовалось, Олик нашёл быстро. Книжка оказалась старой, потрёпанной, засаленной. Очевидно, пользовалась спросом.
«…от 27 октября 1960 г.»… «Глава третья. Преступления против жизни, здоровья, свободы и достоинства личности (ст. 102–131)»… «Статья 119. Половое сношение с лицом, не достигшим половой зрелости»… «Половое сношение с лицом, не достигшим половой зрелости, – наказывается лишением свободы на срок до трёх лет. Те же действия, сопряжённые с удовлетворением половой страсти в извращённых формах – наказываются лишением свободы на срок до шести лет».
Ванчуков рукавом рубашки утёр холодный пот со лба. Всё это означало одно: Ника в опасности. Во всём мире о том, что произошло с ними, должны знать только они двое. Никто другой. Никогда. Ни при каких условиях.
Ольгерд закрыл тревожную книгу, подальше упихнул обрезом книжного блока в самую глубину полки. В гардеробе оделся, поплотнее замотался шарфом и вышел на улицу…
Светка Сёмушкина нагнала на Верхней. Залепила в спину снежком, хулиганка такая.
– Я на «Белорусскую»! К бабушке еду! А ты куда?
– А я туда же, – спокойно ответил Ванчуков.
– Тоже к бабушке?
– У меня нет бабушки, – бесцветно отбрехался от весёлой заводной девчонки Ванчуков.
– Ладно, не сердись, сердитый! – выпалила скороговоркой Сёмушкина, ухватывая Ольгерда под руку. – Держи меня! Скользко…
От Светки исходил лёгкий аромат. Запах был приятный. И чужой. Ванчуков уже знал запах, за который не жаль было жизни. Место занято.
Светка трещала-заливалась, несла какую-то чушь, то отпуская руку Олика, то повисая на ней снова. Шли теперь небыстро: действительно скользко. Ольгерд думал, что вот сейчас он аккуратно освободится от Светкиной руки – мол, сама иди, подруга… вот сейчас… да, сейчас… Но продолжал поддерживать, а когда она раз или два на самом деле заскользила – подхватил, удержал. Было уже темновато на улице, и фонарей ещё не зажгли, но Ванчуков успел поймать пронзительный благодарный взгляд. И взгляд тот был приятен. Ему так показалось, что против своей воли – хотя кто знает, против ли – он вспомнил танцевальный вечер, и аккуратные холмики в наивном вырезе девственной блузки, и нелепого себя в сугробе, под невесомым светкиным телом.
И вот что, содрогаясь, понял: повторись оно снова, не стал бы целовать в лоб, отказывая себе в тёплых полуоткрытых, свежей мятой пахнущих, губах. В какую-то долю секунды он остро, до помрачения, захотел Сёмушкину. Но хотеть её было нельзя, запретная зона, потому что хотеть её означало: украдкой, урывками; подъезд, чердак; скотство, без начала и конца.
– Пришли, – сказал Ванчуков.
– Ага, – кивнула Светка.
– Мне дальше, – сказал Ванчуков.
– Ну, я пошла тогда?..
– Иди.
Ольгерд проводил взглядом девичью фигурку, исчезнувшую тут же за массивной метрополитеновской дверью, и пошёл за угол. На цветном базарчике покупателей было мало. Ещё не вечер, время не кассовое. Долго бродил по недлинным рядам. Наконец остановился. В полиэтиленовом шатре горели свечи – чтоб цветам не замёрзнуть. Носатый продавец в длинном, до пола, бесформенном тулупе куковал рядом.
– Мне одну, красную, – попросил Ванчуков. – Вот эту, – показал.
– Рубл-дэсат, – известил носатый.
Ванчуков достал никели и медяки, стал пересчитывать на ладони.
– У меня только девяносто пять копеек.
– Каму цвэток? Мамэ?
– Нет, – спокойно ответил Ванчуков. – Но нужно, – шмыгнул носом и добавил решительно: – Очень.
Носатый завернул розу в газетный лист, протянул:
– Дэржы.
– А деньги? – спросил Ванчуков.
– Дэнги остав. Ей скажы, у нэй атлычный мужчына, паслэднэго для нэй нэ жал… Пуст бэрэжот…
– Алло, – ответила Ника.
– Можно мне, на минуту? – за стёклами кабины телефона-автомата шуршала Ленинградка, уху было холодно от ледяного эбонита.
– Да, – коротко выдохнула Ника и повесила трубку.
– Вот, – сказал Ванчуков в прихожей, вытягивая вперёд руку с факелом торчащим свёртком, другой неловко обрывая газету. Клочки слетали на пол. На нечаянно уколотом пальце выступила маленькая алая капелька. – Это тебе. Будет ещё много цветов. Надо же с чего-то начинать.
Ника бессильно опустилась на стул, закрыла лицо руками. Плечи затряслись, из-под плотно прижатых ладоней показались влажные бриллиантовые дорожки. Вскочила.
– Господи, за что?.. Олька, Олька, Олька… – бормотала, стягивая с Ванчукова куртку, холодя его щёки своими слезами, целуя в глаза, в виски, в губы. Ванчуков отвечал, а глубоко внутри него плакала навзрыд обманутая неизведанная и уже брошенная Светка Сёмушкина.
И было её немного жаль.
* * *
Секретаршу Нину Ванчуков-старший отпустил без четверти семь. Посетителей больше не ожидалось. Лёва звонил сорок минут назад – в Академии, на Ленинском, выезжает. Сергей Фёдорович прикинул: что на такси, что на метро, уже в принципе должен быть. Прикурил сигарету, взглянул в пепельницу, где ещё тлела почти нетронутая предыдущая. Поморщился, глубоко затянулся.
Позвонили снизу, из охраны. Если до шести, никогда не звонили, просто оформляли и пропускали. После шести официально рабочий день окончен, тогда да, интересовались.
– Добрый вечер, ко мне, всё нормально. Пусть поднимается, – выпустил дым Ванчуков, поднялся с кресла и вышел встречать сына в приёмную.
Щека Льва Сергеевича с мороза была колючей и холодной. Расцеловались коротко, отцу показалось – как будто по обязанности.
– Голоден? – спросил Ванчуков-старший.
– Да так, папа, – легонько потряс-повращал в воздухе рукой Лёва. – Терпимо.
– Вот что, давай, пойдём… пойдём в кабинет! Чаю сейчас, горячего, с бутербродами!
– У тебя тут топор вешать можно, – укоризненно покачал лысой головой сын.
– Топор – то бы ладно. Главное, самому вместо топора не повеситься, – попытался пошутить Сергей Фёдорович.
– Папа! Стой! Я такой горячий пить не могу! Хватит уже кипятка, – придержал руку отца Лёва. – У тебя в графине кипячёная?
– Не знаю, – пожал плечами Ванчуков.
– Впрочем, какая разница… – согласился сын. – Мне любая кипяток твой разбавить сойдёт.
Сын, конечно, был голоден. Тарелка с бутербродами из спецбуфета седьмого этажа опустела за несколько минут. Вот так он всегда, думал Ванчуков, всегда молчит, ничего не скажет. Клещами всё из него вытягивать приходится.
– Как наш Юра? – как бы между делом спросил Сергей Фёдорович.
Первая жена Лёву бросила. Хорошо, если б просто ушла; так нет же. Стала распускать слухи: мол, импотент, гомосексуалист… Очень «кстати» были те слухи: Лев Сергеевич как раз проходил конкурс на заведующего кафедрой. Но ничего, обошлось как-то. Года два-три Лёва жил один. Отец переживал, конечно. Всё происходило до Каира, когда ещё жили на Донбассе.
Изольда, видя, как муж мается, решила помочь. И помогла: сосватала хорошую девчонку, с ней недолго работала в заводоуправлении. Вызвали Лёву, тот приехал, остановился, правда, в гостинице. Так отец захотел – Ольгерд же был не в курсе про папину первую семью, да и мал ещё; вдруг что-то понял бы не так.
Льва с девушкой познакомили. Особых восторгов ни с той, ни с другой стороны не звучало, но поженились через полгода. Теперь Юре, первому внуку Сергея Фёдоровича, исполнилось пять.
– Фотография есть?! – живо поинтересовался отец.
– Есть, – протянул карточку Лёва.
– Большой какой… Солидный. Я оставлю? – с надеждой спросил разрешения Сергей Фёдорович.
– Весь в тебя. Бери, конечно, – улыбнулся сын. – С негатива ещё напечатаю.
Лёва доел. Сергей Фёдорович тем временем, забывая и спохватываясь, рассеянно отхлёбывал из большой кружки-бадьи обжигающий крепчайший чай. Хоть всегда это пойло ненавидел, а ведь так и не смог отвыкнуть с самой войны. Иногда ночами вставал, на пустой кухне чаёвничал, опять же, сигаретой-другой закусывая.
Сын промокнул губы белой бумажной салфеткой, аккуратно сложил вдвое, положил на край пустой тарелки. «Как же похож на Женьку, – подумал Сергей Фёдорович, – и движениями, и лицом. Ничего моего. Кроме голоса». Действительно, по телефону их стали путать ещё с Лёвкиного пятнадцатилетия, когда голос «переломался» во взрослый. «Тогда ведь жили мы вместе», – вздохнул Ванчуков.
– Как дела? – стараясь казаться безразличным, спросил отец.
Лёва помолчал с полминуты. Потом честно сказал:
– Дела – как сажа бела. Не утвердили докторскую в ВАКе[33]33
Высшая аттестационная комиссия (ВАК) – существовавший в СССР государственный орган, отвечавший за обеспечение государственной аттестации научных и научно-педагогических работников – присуждение учёных степеней доктора и кандидата наук, а также присвоение учёных званий.
[Закрыть]. Вернули.
– Почему?
Новость Сергею Фёдоровичу была как серпом по́ сердцу.
– «Чёрный» рецензент дал негативный отзыв. Написал: математический аппарат слабый. И новизна исследования под вопросом.
– Но ведь предзащита нормально прошла? И на защите совет утвердил? Так?
– Так, папа. Но ВАКу нижестоящие советы не указ. У них свои правила.
– Что делать будешь?
– А что тут сделаешь? Заберу работу. Перепишу кое-что. Дополню кое-где. Ну и, через год-полтора, пойду на повторную защиту. Тебя попросить хочу. Если можно, конечно… – остановился в нерешительности Лёва.
– Да?.. – напрягся Сергей Фёдорович.
– Можно там, чтобы, допустим, по твоим каналам, ну… не знаю, как правильно сформулировать… узнать, кто в этом совете привлекается «чёрными»… кто дал такое заключение… Может, возможно как-то решить вопрос, чтобы в следующий раз не кинули опять чёрный шар… Не знаю, папа! Всё это так противно! Но деваться-то некуда…
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































