Текст книги "Грустная песня про Ванчукова"
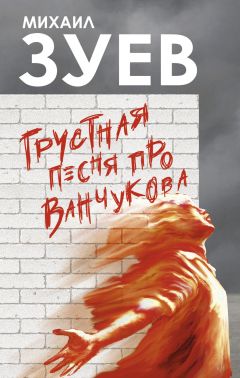
Автор книги: Михаил Зуев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 45 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
А Изольде теперь нужно было стать мученицей, жертвой обстоятельств. Смена испачканных мочой и испражнениями материных простынь для неё казалась слишком малой ценой. Одной лежачей матери – не хватило бы. Вдобавок нужен был ещё и больной сын. Младший Ванчуков болеть почему-то не хотел. Рос сильным, упорным. Но где ж остановить упёртую Изольду… С педиатрессой соорудили историю болезни – «повышенное внутричерепное давление». Освободили мальчишку от физкультуры. Против этого-то Олик как раз не возражал. Он и сам считал пинание мяча, прыгание через козла и бег по кругу в воняющем потом и немытым телом спортзале совершенно пустым занятием.
Ольгерд с самых первых дней, как освоил с бабушкиной помощью буквы, полюбил читать. До одури. Читал везде, всё и всегда. В городскую библиотеку, что была расположена кварталах в десяти от дома, бегал едва ли ни каждый день. Там серьёзного мальчишку приметили; ему стало можно то, что нельзя было другим. Дефицитные книги оставляли, к тому же выдавали на дом, вместо того чтобы заставлять торчать в читальном зале. Так Ольгерд, классе в пятом, добрался до толстенного, наверно килограммового, кирпича – переводного американского учебника общей биологии для колледжей. Проглотил от корки до корки – раз. Потом второй. И залип.
Школьный учитель биологии Анатолий Сергеевич, человек с позорной кличкой «Сурепка», честный, умный, бедный, а потому – несчастный, изумился и обрадовался, когда какой-то там непонятный Ванчуков, ученик бестолкового класса захолустной школы, где на уроках биологии галдели и плевались жёваной бумагой, пришёл с вопросами и – не может такого быть – со знакомым толстым томом под мышкой, уж никак не входящим в школьную программу! На вопросы Анатолий Сергеевич, не веря своим глазам и ушам, ответил; Ольгерду же велел подойти снова несколькими днями спустя. Олик пришёл. Анатолий Сергеевич достал из портфеля точно такой же том – свой собственный, и подарил.
Потом случился Египет. Подарок Анатолия Сергеевича поехал в Африку. В Каире не то что хороших – просто нормальных книг взять было негде. В библиотеке на «вилле» на полках в беспорядке валялись всё больше детективы да старые потёртые с вырванными страницами журнальные подшивки. Олик, перечитывая учебник по третьему, потом – по четвёртому разу, вовсе не скучал. Напротив, чем больше читал – тем больше всего вот этого ему хотелось. Сразу после приезда в Москву, не то на второй, не то на третий день, на последней странице «вечёрки» Ольгерд наткнулся на объявление – набранное меленьким шрифтом и потому почти незаметное (оказалось, «вечёркинцы» напечатали объявление в качестве шефской помощи комитету комсомола биофака пединститута, поэтому ни место для размещения, ни стиль выбирать не пришлось).
В его типовую фанерную новостроечную дверь робко постучалась судьба. «Вечерняя биологическая школа биофака МГПИ объявляет набор учеников 7–10-х классов средней школы для еженедельных занятий по программе вуза…», адрес, телефон. Поехал. С ним поговорили двое, юноша и девушка, студенты третьего курса. Поговорили – и тут же без колебаний зачислили. Занятия проходили два раза в неделю. Школьников без поблажек пустили по институтской программе: читали институтский курс нормальной физиологии, общей биологии и генетики. Каждому слушателю школы полагался читательский билет в факультетскую библиотеку, где в изобилии были все нужные для учёбы книги. Голова у Ванчукова пошла кругом. Наконец-то ему нашлось достойное занятие.
Сегодня же произошло ещё одно событие: основатель школы, студент четвёртого курса Саша Козак, пригласил Ольгерда помочь в эксперименте. Саша загодя начинал делать дипломную работу. Работать было нужно по субботним вечерам, а также в воскресенья.
Вот почему Олик летел домой, словно на крыльях.
– Привет, мам! Папа пришёл?! – завопил Олик с порога, скидывая ботинки и цепляя куртяшку за крюк вешалки.
– Нет. Папа на работе, – ответила из большой комнаты рассеянно смотрящая сквозь телевизор Изольда. – Он звонил. Задержится по делам.
– Ну ладно… – сник Ольгерд.
Изольда Михайловна сыну солгала. Сергей Фёдорович не звонил: он теперь вовсе перестал звонить, не приходя домой по вечерам.
Глава 9
В субботу всё отменилось, а в воскресенье договорились встретиться в половине десятого утра. На «Кировской», в центре зала.
– Не опаздывай, пожалуйста, – сказал Саша Козак, перед тем как повесить трубку.
«Не опаздывай…» Да как можно?! На «Кировскую» Ванчуков приехал за сорок минут до назначенного времени. Лавочек в центральном просвете станции не наблюдалось. Только два эскалатора, это переход на «Тургеневскую». Чтобы тупо не подпирать стенку, Ольгерд стал медленно прохаживаться от выхода в город до дальней глухой стены и обратно. Так пропустить появление Саши было невозможно.
Это ещё хорошо, что он приехал всего за сорок минут. А ведь – мог бы и за час, и за полтора. Проснулся в шесть и уже никак не мог заснуть. И вовсе не потому, что по какой-то обязаловке боялся опоздать. Ванчуков глубоко внутри себя чувствовал: жизнь меняется. Как будто – шуршит, трещит, поворачивается в руках «кубик-рубик», и вдруг сложилась грань, вся полностью из одного, из того самого нужного, самого правильного, самого долгожданного цвета.
* * *
Тринадцать… Люди в тринадцать склонны думать и делать глупости. К глупостям ещё нет иммунитета. Родительские окрики не помогают; лишь усугубляют. Хотя да – есть такие родители, которых слушают. У ванчуковского одноклассника Федьки были именно такие родители. Друзья. Старше сына всего на девятнадцать лет. Молодые, стройные, подтянутые. Успешные, богатые. Когда Ванчуков изредка бывал у Фёдора, он поражался именно вот этому самому, бьющему через край, ощущению настоящего дома. Игорь Игоревич, в потёртых джинсах и линялой ковбойке, слушал ту же музыку, что и сын. На привезённой из японской Осаки вертушке, утопленной в стойку над светящимся оранжевыми индикаторами катушечным магнитофоном с пухлым зеленоглазым усилителем «сансуй» и тяжеленными, в полчеловеческого роста, колонками красного дерева крутились, сменяя друг друга, незнакомые пластинки на так плохо знакомом Ванчукову языке. Он, может, и хотел спросить бы, кто – да почему-то стеснялся. Федька до хрипоты спорил с отцом: тот не включал «авторитет». Игорь Игоревич мог сесть прямо посреди комнаты на пол и обсуждать с Федькой и Оликом совершенно любые темы – от полёта американцев на Луну до технологии пошива парашютов. Федькин отец если изредка и закуривал свой «филипп моррис», доставая сигарету с золотым ободком и трёхслойным фильтром из серо-стальной пластмассовой пачки с красно-чёрной надпечаткой, то обязательно уходил на лоджию, чтоб не портить воздух. Хотя зря. Запах от «филиппка» был небесным…
Ванчуков однажды попросил у Федьки достать для него одну сигарету, просто чтобы попробовать. Вместо Федьки с пластмассовой пачкой из кабинета вышел отец.
– Что, куришь?
Ванчуков, густо покраснев, потупился, кивнул головой. Сердце подпрыгнуло, в ушах противно стукануло.
– А ты? – спросил отец у Фёдора. Тот помотал головой – «нет».
– Ладно. Раз куришь, пойдём с тобой, покурим, – Федькин отец открыл балконную дверь, пропуская Ванчукова вперёд.
Незажжённая сигарета в руках Ольгерда издавала дурманящий восхитительный аромат. Олик машинально попытался размять её пальцами, как сотни раз делал с «дукатовской» пересортицей, купленной у солдатиков в пожарной части возле школы.
– Не надо, – посоветовал Игорь Игоревич, – эти сигареты сухие, они в кондиции, настоящий вирджинский табак, не нуждаются в том, чтобы их разминали, – и поднёс к сигарете Ванчукова горящую зажигалку. Ванчуков не знал, что такое «вирджинский табак», но звучало красиво.
– Нравится? – спросил Игорь Игоревич полуминутой спустя.
Ванчуков кивнул. Он понимал, что нужно вовсе не кивать, а словами сказать что-то вроде: «Да, спасибо». Понимал, что ведёт себя невежливо, неотёсанно. Но он попросту потерял дар речи: настоящий взрослый мужчина, отец одноклассника, запросто предложил ему сигарету, да ещё какую?! Да такая одна, поди, стоит как три пачки этих, кривых-косых, из «дукатовской» пересортицы.
– Ты можешь курить. Можешь не курить, – тихо сказал Игорь Игоревич. – За то, что куришь, ты заплатишь трижды. Хочешь знать, как?
Ванчуков, затягиваясь сладким дурманящим «филиппком», кивнул.
– Сначала деньгами. Деньги не главное, – продолжил Федькин отец. – Потом за сиюминутное удовольствие ты заплатишь здоровьем. Это вторая плата.
Ванчуков снова кивнул.
– Я вижу, ты меня не понял.
Ванчуков вопросительно поднял взгляд.
– Сейчас у тебя много здоровья. Очень много. Так много, что через край. И ты думаешь, так будет всегда. Ты ошибаешься. Заблуждаешься. Когда-нибудь его станет меньше. Потом ещё меньше. Потом ты поймёшь, что тебе не хватает не только здоровья, но и оставшегося времени, чтобы сделать в своей жизни что-то важное. Очень важное, – Игорь Игоревич прищурился, затянулся, резко выдохнул и порывисто притушил докуренную всего лишь до половины сигарету в красивой толстой кварцевого стекла пепельнице. – А потом ты осознаёшь, что променял деньги и здоровье на сомнительное удовольствие, расплатившись самым дорогим, что у тебя есть: временем своей жизни. Это будет третья и самая главная расплата. Думаешь, я сам придумал? Нет. Мне рассказал отец, – Игорь Игоревич замолчал. – Он умер две недели назад. Вот так…
Сигарета Ванчукова, намертво приклеившаяся к губе в полуоткрытом рту, давно должна была погаснуть. Но выкупанная в селитре бумага гильзы «филипп морриса» продолжала весело тлеть. Ванчуков очнулся от оцепенения, дёрнулся, схватился за сигарету, попал по длинному плотному столбику бугристого серого пепла с пылающей короной внутри; обжёгся. На пол прыснули затухающие на лету искры. Ольгерд смущённо выхватил остатки сигареты изо рта, быстро притушил в пепельнице – хотя тушить там уже было нечего.
– Я вижу, ты хочешь у меня что-то спросить, – тихо сказал Игорь Игоревич.
– Нет, нет… – замотал головой Ванчуков.
– Лжёшь, – Игорь Игоревич смотрел на Ванчукова сверху вниз. Он был выше Ольгерда на голову. – Ты лжёшь. Ты хотел спросить у меня: «Тогда почему вы сами курите?» Так?
Ванчуков со вздохом выдавил:
– Да.
– Потому, милый мой мальчик, что понимать, как правильно, и делать, как правильно – две разные вещи. Совсем разные. Иногда – трагически разные. Но запомни… – Игорь Игоревич протянул руку, поддел подбородок Ольгерда, повернул его голову вверх и теперь опять смотрел ему прямо в глаза. – Но! Без того, чтобы понять, как правильно, ты никогда не сделаешь правильно. Я уже понял. Второй месяц выкуриваю по две сигареты в день. Только две. Только дома. Никаких перекуров на работе. Никакого курения на улице на ходу. Пройдёт неделя, и я перестану курить совсем. Мне через год тридцать пять. Моё время делать глупости, не платя за них, стремительно заканчивается. А вот за себя решать можешь лишь ты сам. Ещё сигарету?
– Нет! – чуть ли не крикнул Ольгерд.
– Теперь, вижу, ты всё понял. Наш перекур окончен, – Игорь Игоревич открыл дверь в комнату и чуть отступил в сторону, снова пропуская Ванчукова вперёд.
– Федя! Федечка! – Федина мама совсем не походила на ванчуковскую мать. Тётя Наташа выглядела как старшая сестра – стройная, высокая, с каштановым каре. Немного за тридцать.
– Да, мам!
– Сходи в булочную, у нас от белого батона одна маленькая горбушка осталась. Вернёшься, будем чай пить.
– Тёть Наташ, а можно мне с Фёдором?! – спросил Ванчуков.
– Конечно, Олик! Идите вместе! Так вам скучно не будет.
На весь район было две булочные, обе далеко. Одна возле Белорусского вокзала, на противоположной стороне проспекта, через узкую улицу от Второго часового завода. Вторая, та ещё дальше – на примыкании Скаковой к Ленинградскому проспекту, напротив улицы Расковой, в «ажурном» доме.
– Куда? – спросил Ванчуков.
– На пальцах кинем, – усмехнулся Федька.
Пальцы решили: идти в «ажурный».
Путь лежал по кривой Скаковой, мимо ольгердовского дома. Олик задрал голову, в двух окнах горел свет; возвращаться в холодный дом совсем не хотелось. Дальше шли мимо пожарной части, мимо всегда пахнущей ванилью и бисквитом кондитерской фабрики, мимо своей школы, кирпичных почти игрушечных пятиэтажек, жёлтого нарядного общежития заочной партийной школы.
Поначалу молчали. Была зима, снежинки кружились на набегавшем ветру, но так – не сильно. Терпимо, в общем.
– Слушай, Федь, – спросил Ольгерд, – а вот у тебя… родители твои… они с тобой всегда так?
– Как? – не понял Фёдор.
– Ну, так. Вот так… как с человеком?
– А как ещё? – опять не понял Фёдор. – Я что – собака?
– Ну, не знаю. Никогда не орут?
– Не-а… Не было такого.
Ольгерд вздохнул. Мать на него срывалась часто – орала зло, заполошно. Потом опоминалась, замолкала, днями не разговаривала.
– Ну а вот если, Федь, ты, допустим… ты неправ… тогда что… как?
– Тогда они говорят, в чём меня считают неправым.
– А как говорят?
– Ну, как обычно. На диван сажают, сами садятся напротив и говорят.
Ванчуков к материному о́ру давно привык. Как привык к тому, что отцу он безразличен. Всякий раз, когда мать пыталась апеллировать к отцовскому авторитету, тот в раздражении махал рукой: мол, уволь меня, разбирайся сама. Ольгерду же было жутко обидно, что отец не видит его в упор. Мать иногда с визгом хваталась за ремень; Ольгерд тоже привык, знал: ей нужно остыть; это быстро кончится, с этим ничего поделать нельзя. Отец Ванчукова выпорол лишь однажды, когда тому было восемь. Во дворе пристали, ударили по лицу два раза, пенделя дали. Их было четверо, Ванчуков один. Ванчуков тогда не заплакал. Жаловаться не пошёл. Нашёл палку. Он не был виноват, что из палки торчал гвоздь. Гвоздь Ванчуков видел, это правда. Один упал, из рассечённой башки пошла кровь. Остальные трое разбежались. Отец Ванчукова разбираться, кто прав, а кто виноват, не стал. Бил ремнём, недолго, но сильно. Ванчукову не было больно. Было обидно – в основном за себя, и ещё немного – за отца. Не понимал, как отец мог его так, в момент, ни в чём не разбираясь, сдать.
Хлеб в булочную «ажурного» привезли совсем свежий, горячий. Недавно. Ванчуков взял ещё коробку зефира в шоколаде. Пошли обратно.
Возле своего дома Ванчуков остановился.
– Ты прости, Федь.
Сунул тому коробку с зефиром:
– Я забыл. Мама сказала не задерживаться.
Федька пожал плечами:
– Ну ладно. Как знаешь. А это зачем? – посмотрел на зефир.
– Это я вам взял, – сказал Ванчуков. – У нас дома две таких есть, мама вчера принесла. Он вкусный.
– Ладно, спасибо, – кивнул Федя, уходя. – Мама такой любит.
Ванчуков зашёл в подъезд. Лифтом поднялся на четырнадцатый. Там стояла бадья для окурков. Пользовавшиеся ей соседи содержали бадью в чистоте. Достал из кармана «дукатский» некондиционный обрезок. Поджёг. От концентрированной горячей вони перехватило дыхание. Дёрнул пару раз, с отвращением забычарил о край бадьи, выбросил. Сплюнул следом. И пошёл по лестнице. До двенадцатого вниз четыре лестничных пролёта.
Федьке Ванчуков наврал. Не было дома никакого зефира – ни в шоколаде, ни без. Как и дома, если подумать, тоже не было.
* * *
Саша появился из перехода на «Тургеневскую». Олик заприметил его со спины в конце движущейся лестницы. Сбежав с эскалатора, Козак обернулся; тяжёлые очки блеснули, левая рука оттянута здоровенным, похожим на пасть бегемота, потёртым портфелем из кожзама. Ванчуков махнул; стоял, как позавчера договорились, в центре зала. В самом-самом, между двумя эскалаторами.
– Давно меня ждёшь? – подал руку Саша. Бухнул портфелем об пол, согнул левую в локте, правой подвинул рукав пальто, коротко взглянул на циферблат нового «полёта». – Я не опоздал.
– Да нет, – пожал тёплую сухую сильную ладонь Олик, – так, недавно приехал. Минут пять, может, семь. – Ванчукову отчего-то было неловко признаться, что торчит он здесь, в гулком подземном станционном просвете, битый час.
– Ты откуда едешь? Издалека?
– Не-а. С «Белорусской».
– Ну да, недалеко. А я в общаге живу на Космонавтов. До корпуса на Кибальчича, если тропинку знать, по шагомеру нащёлкивает чуть-чуть больше километра. Как раз вместо зарядки, утром поспать можно лишних десять минут. А сюда ехать мне даже быстрее, чем тебе. От «ВДНХ» до «Тургеневской» – прямая ветка, без пересадки.
Поднялись на поверхность.
– Поедем или пойдём? – заговорщицки подмигнул Козак, щурясь от яркого почти весеннего утра. Ребята стояли на трамвайном развороте Чистопрудного бульвара возле ажурного стеклянного вестибюля «Кировской».
– Я бы прогулялся, – улыбнулся Ванчуков. В руках он держал небольшую целлофановую сумочку. – Бутерброды, мама соорудила, – кивнул он на сумку. – А у тебя, вижу, портфель тяжёлый?..
– Не особо, – Саша Козак на выпрямленной руке подёргал портфелем вверх-вниз в воздухе. – Книги и журналы для диплома. Конспекты ещё. Устану, отдам портфель тебе.
– Это что, я буду вроде Санчо Пансы? – засмеялся Ольгерд. Он и раньше-то перед Козаком не робел, даром что преподаватель, а теперь вообще почувствовал, что рядом с ним – близкий человек.
– Ага! Только не Санчо, а Ванчо! – скаламбурил Саша. – Тогда решено! Росинанта у нас нет, Буцефала тоже, значит, идём пешком! Тем более нам под горку!
Весело галдя, они перешли рельсовую нитку трамвайного круга, обогнули памятник Грибоедову и пошли по бульварам чуть под уклон, в сторону улицы Чернышевского. Роста почти одинакового; Ванчуков за последние полгода сильно вытянулся, был чуть повыше Саши, но в плечах поуже. Ванчукову – тринадцать, Козаку – двадцать. Разница для начала жизни ощутимая.
Три с лишним года назад Саша приехал поступать в институт из Баку. Документы подал в педагогический, на биофак: настояла мама, школьная учительница биологии.
Отец – тот кадровый военный, фронтовик. Пехота, царица полей. Погиб при исполнении за месяц до Сашиного рождения. Погиб нелепо. Капитан Козак был старшим караула. Пришёл наряд с поста. Стали отсоединять магазины от автоматов. Солдат, вместо того чтобы делать как положено, на стенде, сдуру повернулся к старшему, случайно дёрнул спусковой. Патрон был в патроннике, предохранитель у идиота оказался снят. Магазина уже в пазах не было, но пуля из оставшегося в стволе патрона ушла капитану прямо в грудь с расстояния чуть больше метра. Без шансов. А ведь всю войну, от звонка до звонка, боевое ранение – и вот так, в мирное время… Две жизни всмятку – один в дисбат, другой… а кто ж знает, что там, за чертой.
Саша уродился особым. Даже не так: «звёздочкой». Школа – конечно, с золотой медалью. Мог идти куда угодно, но решил в «пед», в Москву. Приехал, играючи сдал один экзамен; разумеется, на «отлично». Первого сентября начались занятия, третьего была первая лекционная пара по нормальной физиологии. На потоке читала доцент Зорина. Преподавала Людмила Вадимовна давно, студентов за двадцать лет изучила вдоль и поперёк.
Молодой человек в первом ряду был явно не как все: собран, серьёзен, но притом улыбчив. Зорина читала курс давно и, проговаривая десятилетиями затверженный лекционный материал, внимательно следила, как её воспринимают – понятно ли, не слишком ли быстро, не зевают ли. Козак привлёк внимание моментально. Говоря, она между делом наблюдала, как он за ней записывает. Парень обладал скорописью, что на самом деле было большой редкостью. Кроме того, не писал за лектором «простыню», а умудрялся моментально вычленить главное, не теряя мысль и логику предмета в информационном шуме.
Объявив перерыв, Людмила Вадимовна спустилась с кафедрального возвышения.
– Молодой человек, дайте, пожалуйста, ваш конспект.
Козак протянул Зориной тетрадь. Та взглянула мельком – ей было достаточно. Ну да, так и есть. Почерк убористый, чёткий, без помарок. Чернильная ручка, никаких паст и «шариков»: перо летит по бумаге, а шарик корябает, на «шарике» скорости никогда не будет. На страницах заранее, до начала лекции, красным карандашом отчёркнуты широкие поля. Тезисы отделены друг от друга пробельными строками; своя система сокращений общеупотребимых слов; логически понятные подчёркивания и отчерки абзацев. Определённо, кто-то успел научить юного задорного мальчика, как с умом делать конспекты.
– Похвально, молодой человек! – сказала тогда Зорина.
Через два дня она встретила Козака на своей семинарской паре. После занятия Саша подошёл к Людмиле Вадимовне, ещё раз поздоровался и уверенно сказал:
– Я хочу заниматься научной работой на вашей кафедре!
– Почему я не удивляюсь… – добро, по-матерински, улыбнулась ему Зорина.
Научная работа в вузах – совершенно особая статья. Студенты обязаны выполнять учебный план; занятие же научной деятельностью для них дело добровольное. У преподавателей всё по-другому. Кто-то обязан только читать лекционные часы и отсиживать со студентами семинары и лабораторные занятия, но их мало. Это те, кто ничего больше от жизни не хочет – у кого-то всё уже есть (такие редки), а у остальных ничего нет и никогда не будет. Вот и работают они «почасовиками», ни на что другое не претендуя.
Совсем иное дело те, кто находится «в развитии», делает кандидатские и докторские работы. У них всегда завал – всё вместе, и учебный план, и наука. Если с учебным планом всё понятно – неизбежное зло, то для науки нужны время, руки и головы: один в поле не воин. Вот такие преподаватели отбившимися от стаи голодными волками-одиночками и рыщут по студенческим курсам и потокам, отыскивая себе добычу: тех, кто поможет в научных исследованиях; тех, на кого можно будет навесить рабский труд; тех, на кого волей-неволей придётся положиться. Платить помощникам нечем. Материальное стимулирование студентов не предусмотрено в принципе. Значит, остаётся расплата, что называется, «моральным» капиталом: освобождение «своих» студентов от рутинных учебных занятий, от лекций, выставление отличных экзаменационных оценок-«автоматов» без сдачи экзаменов. Включается натуральный обмен: сегодня ты чужому студенту поставишь «автомат», а завтра твоему студенту поставят «автомат» на другой кафедре. Услуга за услугу. Оброк, барщина и крепостное право советских высших учебных заведений двадцатого века.
Студентов-«научников» среди всех обучающихся – всегда единицы. Конкуренция за них среди преподавателей жёсткая. Пединститут ведь вуз далеко не первой категории: не МГУ, не Первый мед, не какой-нибудь прославленный МВТУ. Соответственно, и студенческий контингент здесь подбирается попроще, без особых изысков и амбиций. Здесь приходится довольствоваться тем, что осталось. Всю лучшую «абитуру», словно пылесосы, потребляют модные центральные вузы. Люди редко приходят сюда за журавлём в небе. Насуют в карманы мелких синиц да едут потом по распределению куда подальше, поднимать неподъёмное школьное образование Сизифами на окладе.
Вот почему появление «звёздочки» Козака для Зориной стало событием. Тема её докторской утверждена три года назад. Но когда она раскладывала по столу пасьянс из оттисков опубликованных статей и отчётов о проведённых исследованиях, с ужасом понимала: конь не валялся. Единичные время от времени приходящие полуварёные неотёсанные, то больные, то беременные, девчонки-студентки, из-под палки батрачившие на неё по два семестра за пяток «автоматических» экзаменов, и за десять лет не набрали бы для шефини материал на докторскую степень. Козак же с самых первых дней установил сам для себя жесточайшую дисциплину. Он появлялся в кафедральной лаборатории три вечера в неделю, каждый раз не меньше чем на четыре часа. Уходил не раньше одиннадцати вечера. Зорина кормила его бутербродами и принесёнными в термосе домашними супчиками.
– Вы же знаете, Людмила Вадимовна, – говорил с набитым ртом и котовьей улыбкой Саша, – отсюда до общаги всего-навсего километр. Уж как-нибудь дойду.
Позже, обалдев от такой его прыти, Зорина договорилась с коллегами на трёх других кафедрах, высвободив для студента первого курса биофака Козака целый учебный день. Явки на лекции и практические занятия ему выставляли, что называется, за глаза. Со второго семестра декан факультета назначил именную повышенную стипендию.
Сдав на круглые «отлично» летнюю сессию, каникулы после первого курса Козак вместо стройотряда с первого до последнего дня провёл на кафедре. На втором его выбрали в комитет комсомола института. Саша отвечал за учебную работу. К концу второго курса он был самым известным и успешным студентом на биофаке. Тогда-то и пришла ему в голову идея, вскоре ставшая судьбоносной для жизни ничего тогда ещё не знавшего и не ведавшего Ванчукова.
– Людмила Вадимовна, а давайте устроим вечерние курсы для школьников?!
– Зачем, Саша?
– Сделаем комсомольский почин. Будем подбирать лучших абитуриентов. Это ведь несложно – гарантировать поступление тем, кто и правда достоин? За год-другой будущего студента можно узнать как облупленного…
Зорина задумалась. А ведь и правда. Только что прошёл семнадцатый съезд комсомола. Впереди, чуть больше чем через год, двадцать пятый съезд партии. Если выйти с правильной инициативой, заручиться поддержкой райкома, а потом Мосгоркома, это немало. Единственное…
– Хорошо. Только «курсы» звучит несолидно, как-то дореволюционно, – улыбнулась Зорина. – Пусть будет «школа». Точно! «Вечерняя биологическая школа»! – Людмила Вадимовна ненадолго задумалась. – Саша, скажи, а кто преподавать будет?
– Ну… вы, я… я пару ребят подгоню… у меня есть на примете…
Двое – это, конечно, хорошо, думала Зорина. Но, честно говоря, вешать на себя ещё одно ярмо ей совсем не хотелось. Сегодня есть энтузиасты, а завтра днём с огнём не найти. И загнётся школа, не начавшись.
– Вот что, Саша. Я поговорю с ректором, есть у меня одна мысль.
На приём к ректору Зорина попала неделю спустя. Тот выслушал, воодушевился и дал добро.
– Саша, представляешь, – возбуждённо говорила она Козаку, вернувшись с приёма из ректората, – ректор разрешил засчитывать студентам преподавание в нашей вечерней школе за педпрактику! Теперь у нас отбоя от желающих не будет!
Людмила Вадимовна как в воду глядела. Каждый студент пединститута был обязан – отказ означал отчисление, без разговоров – отработать несколько десятков часов в школе или профтехучилище на практике. Многих перспектива встречи со сборищами оболтусов не прельщала никак. Кроме того, было непонятно, в какую школу пошлют – может, одна дорога по утрам будет два часа занимать. Здесь же всё было идеальным. Ученики – просто «сливки», место обучения – аудитории родного факультета, время – вечера, то есть утром приехал на занятия и никуда переезжать не нужно. А высвобожденные от бестолковой педпрактической школьной повинности часы щедро добавлялись к самостоятельной работе и дипломной практике.
На конкурс желающих преподавать в вечерней биологической школе с разных курсов факультета пришло человек тридцать. После жёсткого многоступенчатого отбора, который вёл Козак под руководством Людмилы Вадимовны, осталось шестеро. Доцента Зорину назначили директором ВБШ. И уже в феврале школа приняла первых слушателей. Каждая программа была рассчитана на один семестр. Поначалу было в параллели готово две программы, а уже через семестр их было шесть. Слушатели, благополучно закончившие одну и сдавшие выпускной экзамен, могли переходить на другую. Иерархии в программах не существовало, каждая самодостаточна. О ВБШ в Москве заговорили – «новая прогрессивная форма обучения для советских школьников». Стали приходить корреспонденты из газет, дважды приезжало телевидение. Заинтересовался методический институт Академии педагогических наук. Инициатива набирала ход.
Саша в школе преподавал с удовольствием. Будучи человеком артистического склада, ярким, не лезшим за словом в карман, контакт с аудиторией любил и ценил. Козак понимал: ВБШ – его шанс на удачное будущее, к тому же от начала и до конца созданный своими руками.
За несколько коротких лет Саша, по сути, сделал больше половины экспериментального материала для докторской диссертации Зориной; плюс, этого уже хватало как минимум на две кандидатские для себя самого. Однако Зориной нужно было провести ещё одну серию экспериментов. Очень специфическую, с применением редкой дорогой аппаратуры. А такой аппаратуры на кафедрах биофака не было в принципе. Надо было искать.
Нужную аппаратуру и всю экспериментальную базу Зорина обнаружила у своей бывшей однокурсницы по биофаку МГУ Светы Дулиной. Светлана Александровна работала старшим научным сотрудником в даборатории специальной патофизиологии Академии наук. Создал лабораторию известный хирург, академик Куваев, всерьёз интересовавшийся вопросами трансплантации органов. Дочь Дулиной, Марина, в прошлом году окончила десятый. Зорина, пользуясь связями, без проблем «поступила» Марину к себе на биофак, обретя тем самым возможность за год-полтора на лучшей редчайшей аппаратуре завершить докторскую. Работать в лаборатории специальной патофизиологии предстояло, конечно, Саше Козаку. Вскоре он познакомился с первокурсницей Мариной и с удивлением понял, что не наукой единой жив человек…
* * *
Ничего этого Ольгерд Ванчуков, топая по московским бульварам весенним утром семьдесят пятого бок о бок с Сашей Козаком, не знал. А если б даже и знал, то вряд ли бы понял: мал ещё.
Ребята прошли перекрёсток с улицей Чернышевского, по Покровскому бульвару до границы с Яузским спустились до пересекающей его улицы Обуха.
– Тут нам налево, – сказал Козак, и не дожидаясь, пока загорится зелёный для пешеходов, пошёл наискосок через абсолютно пустой воскресным утром перекрёсток. Ванчуков, нагруженный теперь Сашиным портфелем, споро последовал за ним.
В переулке возле малозаметной проходной без вывески, криво притулившейся к высокому каменному забору, упиравшемуся в крашенную салатовым стену вросшего в землю по окна первого этажа кирпичного трёхэтажного особняка явно дореволюционной постройки, Козак надавил на кнопку звонка. Дверь открыл вахтёр, почти сразу.
– Я Козак, – сказал ему Саша, – а это мой помощник, Ванчуков, лаборантом будет.
– Ну, проходите, – казённо ответил вахтёр. – Ключи есть? А то я вам с поста не дам.
– Спасибо, есть, – улыбнулся Саша, – у меня свой комплект. – Пошли, – повернулся он к Ванчукову.
– В журнале распишись, – протянул Козаку ручку вахтёр.
Проскочив узкую жарко натопленную проходную, в которой аппетитно пахло шпротами и пряниками, Ванчуков вслед за Козаком вышел во внутренний двор. Двор был узкий и длинный. Слева стоял тот самый трёхэтажный дореволюционный дом, вход в него в виде широкой двустворчатой двери под навесом, обитой дерматином, оказался прямо в трёх шагах от выхода из проходной. Из подвала раздавался собачий лай, явственно тянуло дерьмом.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































