Текст книги "Грустная песня про Ванчукова"
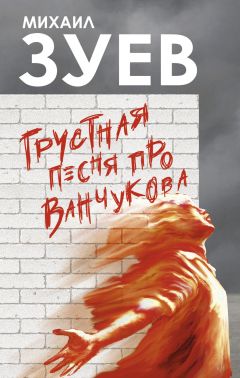
Автор книги: Михаил Зуев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 45 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
– Я – спать, – безразлично сказал Изольде.
– Спокойной ночи, – тоскливо прошептала Изольда с кухни. Слов её за шумом воды Ванчуков не расслышал.
Он проснулся около двух часов ночи. Заворочался.
– Что? – спросила жена.
– Спину ломит, – пожаловался Сергей Фёдорович.
– Давай разотру, – предложила Изольда.
– Давай, – согласился Ванчуков.
Растирание не помогло. Спину продолжало ломить, как ломило. Вдобавок заболела нижняя челюсть. Потом стало трудно дышать.
– Вентилятор включи, – прошептал Сергей Фёдорович.
Изольда щёлкнула клавишей вентилятора и побежала вызывать неотложку.
Бригада интенсивной терапии с Сивцева Вражка[37]37
Пер. Сивцев Вражек, 26/28 – адрес 1-й поликлиники 4-го Главного управления при Минздраве СССР.
[Закрыть] успела вовремя. Поставили подключичку, дали промедол, кислород, антиаритмики, бета-блокаторы, прогнали нитраты по вене, подкапали адреналин, успели спустить на лифте в машину. Остановка сердца развилась уже в автомобиле. Встали на обочине Ленинградки под мигалкой, «завели», повезли в ЦКБ. Довезли живым.
* * *
Олик открыл глаза утром – ровно в семь, по звонку будильника.
Мать сидела на кухне, уже не плача.
– Мама, что случилось?! – спал он крепко, ничего даже не услышал; просто не проснулся.
Через два часа Ольгерду Ванчукову надлежало быть на вступительных экзаменах в биологический класс в спецшколе МГУ на метро «Университет». Документы поданы, к экзаменам допущен. Экзаменов четыре, все в один день: химия, физика, биология, математика. Конкурс, когда Олик неделю назад писал заявление, был двенадцать человек на место. Теперь, наверное, больше…
Кусок, понятное дело, в горло не лез. Ольгерд настрогал два бутерброда. Положил в портфель. Хотел было ещё пару учебников прихватить, но понял – не поможет. Надел школьную форму и вышел из дома.
На четырнадцатом в утреннем забытье сладко нежилась в постели, просыпаясь и вновь засыпая, чудесная Ника.
В опустевшей враз квартире, обрывая в тупом отчаянии телефон диспетчерской ЦКБ, снова плакала мать.
В Кутаиси, городе мая и роз, в старом доме над Риони, таращился карими глазёнками на подвешенные над колыбелькой погремушки незнакомый Ольгерду брат Дато.
Заканчивал читать лекционную пару – как-никак с Москвой четыре часа разницы во времени – брат Лев.
В «кремлёвской» реанимации, где «полы паркетные, врачи анкетные», пища зуммером кардиомонитора «сименс», гораздо надёжнее, чем ночью, сокращалось и расслаблялось получившее пару оплеух сердце шестидесятиоднолетнего любителя жизни и любимца женщин Сергея Фёдоровича.
Олик же ехал наверх той самой лестницей, «а я иду, шагаю по Москве»[38]38
Эскалатор станции московского метро «Университет», где снималась заключительная сцена художественного фильма «Я шагаю по Москве»; «Мосфильм», режиссёр Георгий Данелия, по сценарию Геннадия Шпаликова, 1963–1964 гг.
[Закрыть], навстречу новой жизни. Жизни, которую заслужил: никого не спрашивая, ни у кого не прося помощи; ни на кого, кроме себя, не надеясь.
Глава 15
Ванчуков бывал уже в этом красивом районе. В прошлом году, в декабре: ездил на день открытых дверей биофака МГУ.
Пришло тогда человек сто пятьдесят – главная аудитория оказалась заполненной под завязку. Была она большой, высокой, с круто уходящими в высоту рядами. Пахло разным. Немного – сыростью, ощутимо – пылью, совсем чуть-чуть – формалином и свежим мебельным лаком. Олику оказались по сердцу полы старого дубового паркета. Местами, в проходах – сильно вытертые, зашарканные, лысые. А кое-где, куда, очевидно, не особо ступала нога студента – светлые, вощёные, на вид свежие, будто вчера настеленные.
Надписи на деках высоких аудиторных парт, скрывавших ящики для портфелей и папок, оказались такими же, как и в школе: от «битлз» до «лед зеппелин». Разве что матерных слов не видно. Над доской и по бокам – высокие кронштейны для развешивания таблиц. С трёх сторон аудитории наверху нависал балкон с перилами, опиравшимися на фигурные кегли, будто дело было в старом английском замке. Доска – огромная, четырёхсекционная, раздвижная, цвета тёмного бутылочного стекла, вся в белёсых меловых разводах и наслоениях. Немного оробевший от величественности увиденного Ванчуков сообразил: следить за чистотой доски здесь некому. Очевидно, лекторы сменяли друг друга; уничтожали наскальную живопись от предыдущей лекции небрежно, едва-едва, сберегая силы, чтобы тут же покрыть доску своими собственными нетленными до следующей пары письменами.
Вот и сейчас края доски недотёрты. Несмотря на фрагментарность рисунка после обработки мокрой грязноватой тряпкой, Ванчукову удалось разглядеть фрагмент двойной спирали ДНК в состоянии репликации. Нарисовано было, пока картинку не попытались уничтожить, красиво, твёрдой рукой, цветными мелками. Написанные внизу вытянутыми немного угловатыми буквами с наклоном влево давно знакомые Олику словосочетания «ДНК-гираза», «ДНК-полимераза» и «белки-застёжки скользящего зажима» лишь укрепили в мыслях, что пришёл он по правильному адресу.
Вышел на трибуну весёлый незаносчивый профессор – высокий, астеничный, рыжеватый, в модном коричневом замшевом пиджаке и пижонской жёлто-оранжевой водолазке, оказавшийся деканом младших курсов. Минут с десять, немного картавя и едва заметно шепелявя, рассказывал о факультете. Потом погас свет, минут на пятнадцать прокрутили документальный фильм о факультете. Когда свет снова зажёгся, было объявлено: желающие могут прямо сейчас пойти на экскурсии по кафедрам. Участвовать можно только в одной экскурсии, потому что, как со смешком сказал декан, «пути наши по зданию факультета хотя и неисповедимы, но совершенно точно будут непересекаемы».
Ванчуков спустился вниз, встал у стены под приклеенным скотчем листом ватмана с надписью плакатным пером: «Каф. физиол. чел. и жив.». Желающих посетить «чел. и жив.» набралось пятнадцать-двадцать «чел.».
– Пойдёмте, – сказал серо-седой мужчина, на вид лет сорока-сорока пяти. Он представился, но Ольгерд не запомнил: память на имена с детства плохая, это Олик за собой знал. – Наша кафедра – старейшая на факультете, хотя сам факультет, тоже как будто старейший, но, честно говоря, странный. Преподавание биологии велось в университете с тысяча семьсот пятьдесят пятого года, с того самого момента, как Михайло Васильевич наш университет создал. Вестись-то оно велось, а вот в самостоятельный факультет нас выделили всего-то в тысяча девятьсот тридцатом году. Спрашивается вопрос: чем же мы занимались сто семьдесят пять лет до этого? – седовласый улыбнулся. – А занимались мы тем же самым, что и всегда: учили студентов и двигали науку. Знаете, не важно, как ты называешься. Важно, кто ты и что ты делаешь. А там – потомки как-нибудь разберутся…
Школьники бестолково плелись гуськом за седовласым преподавателем. Задавали вопросы, выслушивали ответы. Ванчуков же молчал. Прошлись по учебным аудиториям, по лабораториям. Зашли в виварий. Посмотрели, не входя внутрь, экспериментальную операционную. Ощущалось, что седовласый устал. Был воскресный день, и, понятно, он с большим удовольствием провёл бы его в другом месте. Наконец экскурсия закончилась. В вестибюле, возле гардеробной, седой попрощался и медленно пошёл вглубь полутёмного коридора.
– Простите, пожалуйста, – сказал Ванчуков и двинулся следом за ним. За две минуты Олик успел рассказать: кто он, что он; зачем пришёл, чего хочет. Ну, по крайней мере, в первом приближении.
– Замечательно, молодой человек, – сказал седовласый, открывая дверь в небольшую каморку, с пола до потолка заставленную аппаратурой. В углу располагался небольшой письменный стол с креслом и двумя стульями поодаль. В комнате было темно, лишь круг света на рабочем столе превращал неказистый загон в уютный центр вселенной. В нём хотелось жить, из него не хотелось уходить. Никогда.
– О, стереотаксис! – показал Олик на стоявшую посреди комнаты блестящую ручками установку. Похожая была в лаборатории, в той комнате, где сидела Светлан Санна.
– Точно! – удивился наличию тайного знания у зелёного восьмиклассника преподаватель. – Садитесь! Чай будете?
Олик смутился. К нему никогда раньше не обращались на «вы». Сам он считал, что для такого обращения ещё мал. Но, судя по тому, как легко и непринуждённо это вышло у седовласого, такая культура была здесь принята.
– Спасибо, с удовольствием! – поблагодарил Ольгерд.
Седовласый поставил зелёный эмалированный чайник на маленькую одноконфорочную электроплитку, уселся в своё кресло, открыл верхний ящик стола, вынул мягкую пачку сигарет с надорванным окошком. Пижонским движением выщелкнул прямо в рот одну штуку, бросил пачку обратно. Снял с подставки малюсенький светящийся раскалённым багровым жалом паяльник и красиво, вкусно прикурил.
Ванчуков любил запах сигареты в тот самый короткий едва уловимый момент, когда прикуривают от электрической спирали. Странное дело, если прикуриваешь сам, то никакого особого запаха не ощущаешь. Но вот если прикуривает кто-то другой… Несколько лет назад летом на каникулах Олик ездил с родителями в Грузию на отдых. Поселили в трёхкомнатном номере. Возили на «волге» по пляжам, ресторанам и горным серпантинам – друзья отца постарались, приняли по высшему разряду. Олик всегда садился в машине сзади справа, прямо за отцом, и ждал, пока тот потянется, надавит пальцем на похожую на шахматную туру кнопку зажигалки под круглым циферблатом часов на панели – чтобы не упустить момент, полной грудью вдохнуть короткий неповторимый сладкий запах разгорающейся сигареты. Запах отца.
Запах от сигареты седовласого был таким же: родным.
Хозяин кабинета надел очки, прихлёбывая чай, слушал Олика ещё и ещё. Задал несколько вопросов, кивал, внимательно слушая ответы. Потом взял листок бумаги, аккуратно написал два телефона:
– Не теряйте зря времени, Ольгерд. Вам – сюда. Весной как раз в девятый класс набирать будут.
Вот в этом-то и состояла причина, по которой притихший немного волнующийся Ольгерд Сергеевич Ванчуков материализовался на знаменитом на всю страну эскалаторе метро «Университет» в восемь часов тридцать шесть минут утра во вторник, двадцать пятого мая тысяча девятьсот семьдесят шестого года. Никита Сергеевич Михалков проехался на том эскалаторе по договору папеньки-гимнописца с режиссёром соцреалистических киношедевров. Ванчуков попал на самодвижущуюся лестницу-чудесницу исключительно самостоятельно. Да и обошлись с ним попроще; без юпитеров.
Так то и понятно: на безродных ванчуковых жизнь зря электричества не тратит.
* * *
– Будешь? – приветливо кивнул Ванчуков, протягивая парню едва начатую мягкую пачку «явы-явской». Сигареты Олик купил сегодня утром на площади Белорусского вокзала по пути к метро, в неприметном покосившемся ларьке «Табак», притулившемся к покрашенной салатовым стене неуютного присутственного дома, выстроенного недобитыми конструктивистами в тридцатых. Ларёк был особый: подходишь, даёшь тридцать пять копеек вместо положенных тридцати и получаешь от хитрого, на пирата похожего, одноглазого деда с кожаной повязкой на отсутствующем глазу пачку дефицитной «явы» «родного» изготовления. Ещё в Москве «яву» делал завод «дукат», но ту курить было нельзя совсем – пожухлая трава, какие-то палки и вонища за полквартала. Разве что некондицию, задёшево, из «пожарных» кульков.
– Не буду, – покачал головой парень. – Спасибо, не курю. Я Игорь… – протянул он руку Ванчукову. – …Абрамзон.
– Я Ольгерд, фамилия Ванчуков. Садись давай, чего застыл?
Игорь незамедлительно впечатался в лавочку рядом.
– На «Абрама», если что, не обижаешься? – спросил Олик.
– Нет. С такой фамилией других вариантов нет. А ты – на «Ванча»?
– Аналогично, – рассмеялся Ольгерд. Состояние у него было дураковатое. Последние четыре часа, проведённые в экзаменационных испытаниях по четырём предметам, среди толпы соискателей, их обезумевших родителей, постоянных перекличек в очередях на вход у кабинетов, где принимали экзамены – всё это заставило голову Ванчукова немного идти кругом. Вдобавок ещё и крепкая сигарета, когда всё закончилось…
– Как думаешь, сколько нам ещё ждать?.. – повернулся новоиспечённый «Ванч» к свежепоименованному «Абраму». Человек с фамилией Абрамзон хрестоматийного Абрама совершенно не напоминал. Короткая стрижка, широкие прямые плечи, обманчиво-неуклюжая расхристанная походка самбиста, тяжёлый волевой профиль с «греческим» носом, начинавшимся прямо ото лба, без малейшего перерыва; круто очерченные скулы, прищуренные чёрные глаза в глубоких тёмных глазницах. «Чувак, тебе бы пару перьев в волосы, – подумал Ванчуков, – и ты вылитый Гойко Митич. Чингачгук Большой Змей…»
– … Пока всех не пропустят, будем куковать.
– Это долго ещё?
– Ну, часа полтора точно.
– Жрать хочешь? – риторически поинтересовался Ванчуков, выуживая из портфеля два раскисших в целлофановом плену бутерброда.
– Дело-то хорошее, – улыбнулся Абрамзон. Он растягивал губы словно ребёнок, но в выражении лица, в фигуре, в осанке недвусмысленно ощущалась немалая, уже мужская и совсем не детская сила.
– Тогда будем жрать, – сказал Ванчуков, напоследок глубоко затянувшись и по-хамски втоптав несогласный с таким неуважением, пыхнувший напоследок снопом искр бычок в песок детской площадки.
Лавочка, куда пришвартовались Ванч и Абрам, располагалась ровно напротив школы, через аккуратно свежеасфальтированный переулочек, в небольшом скверике. Глядя на незнакомую ему доселе школу, Ванчуков явственно удивлялся некоей нереальности происходящего. Само здание, очевидно, выстроенное по типовому проекту, было полной копией той школы, в какой до этого учился Ольгерд, даже выкрашено в два цвета и теми же красками. Но вот всё остальное отличалось, и разительно.
Ванчуковскую школу окружали спрятанные за низким забором постройки бескрайнего ипподрома, убогие хрущёвские кирпичные пятиэтажки; бастион пожарной части со сто лет уж как ненужной каланчой и ядовито-зелёной трёхэтажной деревянной дылдой с фальшивыми оконными проёмами для муштровки солдатиков-пожарных при использовании переносных абордажных штурмовых лестниц. Ещё были там не до конца пока изведённые страшные чёрные двухэтажные бараки, вонявшие зимами дымным печным отоплением; пыхтела денно и нощно кондитерская фабрика, до одури пахнувшая ванилью и раскалёнными, только что из печей, бисквитами. С пригородных вокзальных путей то и дело посвистывали электрички. Шли туда и сюда не очень хорошо, бедновато и неопрятно одетые люди. Даже изредка плелись подводы с лошадями – на хоздворе ипподрома на них возили кормовое сено.
Здесь же школьное здание было окружено аккуратными домами, этажей в семь-восемь, но с высоченными потолками и готическими окнами. Непростые дома все как один были окрашены в глубокий тёмно-красный цвет, по фронтонам украшены всякими архитектурными излишествами и белой лепниной. Тишина стояла просто звенящая. Шум близлежащих проспектов, что Ломоносовского, что Ленинского, намертво экранировался несколькими рядами стоявших уступами друг за другом домов, формировавших район, будто листы слоёного теста складываются в торт «наполеон».
– Устал? – спросил Абрамзон, двигая тяжёлой нижней челюстью, дожёвывая бутерброд.
– Как собака, – честно признался Ванчуков.
– Ага, – улыбнулся Абрам. – Недобрые они тут какие-то.
– При таком конкурсе могут себе позволить, – философски улыбнулся в ответ Ванч.
Утром, ровно в девять, первых сто человек запихнули в актовый зал на последнем этаже. Ещё столько же оставили куковать на улице. Родителей, понятное дело, никаких и никуда не пустили. Ванчукову было без разницы – его родители с ним никогда и никуда не ходили.
– Туалеты – в эту дверь. Вода – в эту, – бесстрастно сказала суровая тётка, по виду завуч. – Сидеть будете здесь. Выходить без приглашения нельзя, – и стала зачитывать фамилии.
Кого выкликали – те подходили к столу. Там другая суровая тётка в блестящих квадратных очках выдавала небольшие тетрадные листки. Ванчуков отстоял недолгую очередь, получил свой, заглянул. Фамилия, имя, дата рождения и – крупно – цифра. Ванчукову присвоили номер «88». Ольгерд улыбнулся: восьмёрка была его любимой цифрой. Откуда-то изнутри Олику улыбнулась Ника, что-то сказала, но беззвучно. А по губам Олик читать не умел.
Потом по номерам приглашали на испытания в каждый из четырёх кабинетов. Экзамены оказались устными, но тяжёлыми. Билетов не предлагали, сразу усаживали за стол к преподавателю – в каждом кабинете одновременно принимали трое-четверо – и начинали гонять. Ольгерд чувствовал себя уверенно: первой у него случилась математика. Её он не знал совсем, но почему-то с ходу получил «хорошо», решив несколько простых уравнений и вдобавок опять же правильно доказав какую-то теорему. Следом ожидались биология, химия и физика. За них Ванчуков не волновался совсем.
Пчелиным ульем нестройно гудящий, апатично клубящийся рой «отсдатых» школьников и обезумевших родителей, возбуждённо зашумев, пришёл в движение и стал всасываться в вестибюль через узкое бутылочное горлышко входной двери.
– Списки вывесили, – прокомментировал Абрам. – Пойдём?
– Я ещё курну, – спокойно сказал Ванчуков, – пусть толпа свалит.
– Тоже правильно, – поддакнул Абрам.
Легко вприпрыжку сбежав по недлинной лестнице, пропоров насквозь «родительскую» толпу, за школьной калиткой остановилась, чтоб отдышаться, воздушно-лёгкая миниатюрная девчонка с раскосыми глазами, восточными чертами лица и чёрной проволочной копной жёстких вьющихся волос.
– Офиге-еть… – уронил нижнюю челюсть Ванчуков. – Шахерезада…
– Ну… – промычал Абрамзон.
– Эй-эй! – замахала им девчонка. – Чего сидим, кого ждём?!
– Тебя, конечно! – включил, было, «казанову» Ольгерд, отклеивая задницу с не так давно окрашенной лавочки.
– А чего не идёте списки смотреть?
– Нам лень, – протянул Абрам. – Ждём, пока рассосётся.
– Твоя фамилия как? – спросила девчонка.
– Абрамзон.
– Можешь не ходить.
– Почему?
– Потому что ты на «а» и торчишь там самым первым в списке. Я запомнила.
– Норма-а-ально… – удовлетворённо пробасил Абрам.
– А твоя – как? – стрельнула девушка в Олика взглядом цвета штормовой ночи. Ника моментально отбила коварный удар.
– Ванчуков.
– Ты тоже не ходи. Я – Гая. Гая Василькова. Можно Гайка, но лучше – Гаечка. Ты в списке передо мной! «Ванчуков, Василькова…»
– Значит, для нас троих всё кончилось?! – не поверил Олик.
– Дурачок! – рассмеялась Гайка. – Как раз для нас-то всё только начинается! Мальчики! Тут на углу двух проспектов кафе-мороженое! Дворами две минуты… Идём?!
На втором было безлюдно. Сели за столик у двухпросветного, начинавшегося этажом ниже окна. Ванчуков жадно глотал пломбир. Гайка – щебетала без умолку. Абрам, с пунцовыми щеками, мучился рядом, почти не притронувшись к своей вазочке, и смущённо вращал на столе чайную ложечку.
«Пора это безобразие прекращать, – отчётливо подумал Олик. – Если не помочь, он сто лет будет сидеть-краснеть. А ещё самбист…»
– Гаечка!
– Чего?!
– Ты где живёшь?
– На Нагорной улице…
– Метро какое?
– «Каховская». Вообще-то нам обещают, что рядом станция будет. Но ветку только ещё строят…
– А можно тебя проводить?
– Ну… – расцвела Гая, – почему же нет…
– Вот и отлично! – вскочил из-за стола Ванчуков, кладя рядом с пустой вазочкой мятый рубль. – У меня куча дел. Тебя проводит Абрамзон! Абрам, оставляю Гаечку на твоё попечение!
Потерявший дар речи Игорь Абрамзон покраснел ещё гуще, ещё отчаянней и комично погрозил Ольгерду из-под стола здоровенным кулачищем.
– Пока-а-а, ребятки!.. – крикнул Ванчуков, ссыпаясь вниз по лестнице. – Адью!.. Увидимся первого сентября!
Олик шёл быстрым шагом к метро. Ему было хорошо. Ника была внутри, и это она сдала сегодня все экзамены вместо него. Ника теперь была его талисманом.
За весь день он ни разу не вспомнил ни о застрявшем у границы жизни отце, ни, тем более – об обезумевшей матери. Если им дозволено не помнить о нём, то – почему?! – почему ему до́лжно быть иным?..
* * *
Какой вкус у счастья? Солёный. Вкус набухших поцелуями губ – не оторваться.
Какой цвет у счастья? Соломенный. Цвет влажных после душа волнистых волос – не выпустить из рук.
Какой запах у счастья? Остро-горький. Запах раскалённого битума, вкачиваемого в щели между плитами стен шестнадцатиэтажки, прилетающий из распахнутого настежь окна, – не надышаться.
Мать, Ольгерда не замечая, по утрам собиралась сосредоточенно, уходила, ничего кругом не видя; вечерами, домой не заходя, ехала в больницу. Ольгерд просыпался, лез под душ; толком даже не вытершись, бегом нёсся двумя этажами выше. Туда, где начиналось его небо.
Её звали Вероника. Ей было двадцать шесть. Она родилась в Берлине и до семнадцати слышала русский лишь дома да в посольской школе. Русского ей так и так хватало; бонусами были нативный немецкий и взращённый не смолкавшим дома «Радио Западный Берлин» американский английский. Окончание школы совпало с возвращением родителей в Москву. Нику «поступили» в «торезник»[39]39
Московский государственный педагогический институт иностранных языков им. Мориса Тореза.
[Закрыть] на «ромгерм». Собственно, поступить она легко могла и сама, но – всегда лучше подстраховаться.
Замуж Ника вышла на четвёртом курсе, развелась на пятом. На том же её пятом развелись и родители. Отец женился на секретарше и снова уехал. Опять в посольство, только на этот раз в Испанию. В Москве остались мама, бабушка и Ника. Бабушке, ветерану войны, в семьдесят пятом, в год тридцатилетия победы, дали однокомнатную в шестнадцатиэтажке, забрав её комнату в коммуналке на Сретенке.
Мама, будучи дамой ушлой, сходила к правильным врачам, оформила бабушке инвалидность с необходимостью постоянного ухода. Нику выписали из родительской кооперативной квартиры и прописали к бабушке в государственную шестнадцатиэтажку: чтоб жилплощадь не пропала, «если что». «Четвёрку»-распашонку в центре Москвы Ника так и так наследовала по праву собственности: «этот подонок», женившись на «этой вертихвостке», от прав на квартиру «в пополаме» с бывшей женой отказался. Бабушка, как понятно, никуда переезжать и не собиралась; ей и с дочкой было хорошо. У Ники же появился свой скворечник на продуваемом всеми ветрами четырнадцатом этаже над ипподромом.
Работала много, но в контору ходила редко. После института отец пристроил штатным переводчиком научных книг в издательство «Прогресс». Тарифицировали её по высшему разряду, потому что занималась Ника «обратным» переводом, с русского на английский и немецкий, что ценилось серьёзно выше, чем обычный «прямой».
Олик был внутри старше своих лет, Ника – моложе, так что на самом деле было каждому лет по двадцать, и совпадали во всём, как инь и янь. Теперь же, когда были уже сказаны друг другу первые слова и смяты горячими телами первые простыни, тем памятным летом семьдесят шестого каждый их день был вот по какому графику. Олик прибегал в девять, когда Ника уже, клюя носом, едва сидела – ночь напролёт работала. Ванчуков хватал в охапку, возносил до небес, оплетал объятьями, наизусть помня прочитанную неделями раньше подсунутую «камасутру». Вскоре, обессиленные, засыпали детским сном, будто не покинув Сидпа Бардо, не видя и не слыша гудящего высоким вольтажом белого-белого дня в распахнутых окнах. Так они спали друг с другом – именно спали – часов до двух, а то и трёх. Проснувшись, в наготе, не имея желания одеться, в четыре руки сооружали на кухне обед, выдирая друг у друга толстую потрёпанную «сталинскую» кулинарную книгу, и снова шли спать друг с другом, уже не нуждаясь в сне.
Они почти не говорили.
– Я устала от слов, – однажды сказала, изнемогая; счастливая; когда он слизывал крупные капли пота, выступившие на её высоком лбу. – Больше не хочу говорить. Хочу делать и чувствовать…
У них была игра: «видеть». Могли, обо всём забыв, часами сидеть на старых стульях и смотреть друг на друга, неотрывно, недвижимо. Он всегда не выдерживал первым. Подходил, хватал, снова садился, сажал на колени, обнимая. Она клала голову на его плечо, и он больше не видел её, лишь только слушал своей грудью, как бьётся её сердце. Их горячие щёки соприкасались, а в зрачках его бежали пролётки по далёкому ипподромному кругу, летели диагональю неба кудрявые облака, а над ними чернела стратосфера. Ольгерд не мог видеть так далеко, но знал: высокая даль видит их, любуется ими, и этого достаточно, чтобы ощущать себя безмерно живым.
Она совсем не терпела пошлости. Когда однажды он, нажав кнопку звонка и будучи впущенным в рай, сдуру хлопнул её по заднице – то был немедля вытолкнут на лестничную клетку; и сидел там, считая прохожих на улице, подоконник протирая, пока не вышла и рукой не махнула: «Заходи, глупый». Он, прощённый, вернулся – и с порога был зацелован до помрачения рассудка.
Они не провели вместе ни единой ночи. Она ночами работала. Он же, когда мать затихала в опустевшей спальне, плотно затворял дверь своей квадратной девятиметровой комнатёнки, садился за стол и просто смотрел вдаль, на едва светящийся в душной ночи Ленинградский проспект. Ощущение её отсутствия откликалось в нём физической болью. Он вслушивался в тишину и вдруг слышал стук её пишущей машинки – хотя то было невозможно. Окна выходили на диаметрально противоположные стороны.
Потом он уставал и растягивался поверх покрывала на скрипучем диване. Ему хотелось думать, неважно – о чём. Он пытался, но сон забирал молодое тело… а потом сверху обрушивалось шумное утро, и первое, что с ним случалось, когда он вспоминал своё имя – была радость. Безграничная, безусловная. Радость от того, что уже утро и сейчас уйдёт мать, а он прыгнет под холодный душ и, толком даже не вытершись, побежит по лестнице вверх, ступеней не разбирая, туда, где терпеливо ждёт счастье, то, что никуда не ушло.
И теперь никогда не уйдёт.
* * *
Мать сказала: «В субботу поедешь со мной к отцу». Ванчукову было всё равно. К отцу так к отцу. Всё равно в субботу мать утром дома, и путь на четырнадцатый перекрыт. Ольгерд помнил про потёртый, в коленкоровой обложке, уголовный кодекс. Держал себя настороженно, понимая: любая его глупость, любая небрежность могут стать причиной непоправимого.
Неделю назад, схватив за руку, потащил Нику на шестнадцатый этаж. Там, рядом с лестницей на чердак, из стены торчал пыльный пожарный короб. В нём – свёрнутый в удава из «38 попугаев» пожарный шланг. Рядом – рубильник с кнопкой подачи воды.
– Видишь?
– Чего, Олька?
– Рубильник!
– Вижу. И что дальше?
– Щель видишь между стеной и рубильником?
Ника присмотрелась – было темновато. Потом кивнула.
– Руку сунь и потяни.
За уголок Ника вытянула из щели бумажный листочек. Развернула. Листок оказался пуст.
– Для примера, – серьёзно пояснил Ванчуков. – Если вдруг что, у меня или у тебя, сюда можно письмо положить. Никто не найдёт. Сюда люди не ходят.
Ника вскинула взгляд озорно:
– В шпионов не наигрался?
– Наигрался, – без обиды ответил Олик. Разве мог он на неё обижаться? Об этом страшно было даже подумать. – Пусть будет на всякий случай. Резервный канал связи…
Путь сегодня предстоял неблизкий, на другой конец Москвы, почти как в новую школу. Только по другой ветке.
– Мам, давай сумку, – сказал Олик, когда только вышли из дома.
Изольда промолчала, как будто не слышала. Раньше бы Ольгерд расстроился; словно заискивая, повторил бы вопрос, невольно превратив его в просьбу. Но теперь всё было иначе. Рядом с прибитой жизнью ажитированной[40]40
Имеется в виду медицинский термин, ажитированная депрессия.
[Закрыть] сорокапятилетней стремительно увядающей женщиной шагал не мальчишка-сопляк, а взрослый мужчина. Поэтому ничего говорить не стал: просто отобрал сумку и молча пошёл дальше. Мать даже не обратила внимания: мыслями, очевидно, была далеко.
На памяти Ольгерда, отец болел очень редко. Олик даже не мог припомнить, когда это было так серьёзно, как сейчас. Впрочем, однажды всё-таки случилось. Тогда отца увезла неотложка прямо из заводоуправления – сердечный приступ. Отвезли сразу в только что организованную кардиореанимацию. Продержали три или четыре дня – мать всё сидела на телефоне. Потом разрешили свидание. Ольгерду было лет семь-восемь. Стояла зима. Бесснежная, но безжалостно ветреная. Выходной: это совершенно точно, потому что Олик тогда не пошёл в школу. Утро, но не раннее, около одиннадцати. Собрали что-то, в такую же сумку. Приехал папин шофёр дядя Петя и повёз мать с Ольгердом через весь город, на самую окраину, в только что отстроенную заводскую больницу. Солнце поначалу сияло ярко, потом стало лениться. Заструилась бурунчиками быстрая необильная позёмка. Олик приоткрыл маленькую щёлочку в дверном окне – в ней устрашающе завыл-засвистел ветер.
– Оль-гер-р-рд! Оль-гер-р-рд! Закрой! Закрой сейчас же-э-э! – безобразно, брызгая слюнями, взвыла мать. На лбу вздулись на рога похожие две продольные вены, лицо пятнами забагровело; кисть правой руки, побелев, сжалась маленьким кулачком. Дядя Петя как ни в чём не бывало крутил баранку и переключал вверх-вниз передачи на «волговском» руле.
Олик, вздрогнув, дёрнул ручку стеклоподъёмника. Стекло встало на место, свист оборвался. Ручка осталась у Ольгерда в руке. Дядя Петя взглянул в зеркало заднего вида. Ольгерд поднял руку с ручкой.
– Что, опять отвалилась? – до́бро улыбнулось дядь-Петино отражение в зеркале. – Не расстраивайся, Ольгерд Сергеевич. Сейчас доедем, приделаем обратно. Поможешь?
Ольгерд, не спуская взгляда с глаз дяди Пети в зеркале, кивнул. Водитель отца был похож на Винни Пуха; не ругался и никогда не повышал голоса. Дядя Петя снова улыбнулся и перевёл взгляд на набегавшую ленту исчёрканного позёмкой неширокого чёрно-серого шоссе.
В больнице мальчика к посещению не допустили: «Детям в реанимацию нельзя».
– Здесь сиди, – коротко, зло рявкнула мать, жестом ткнув в сторону стульев в вестибюле. Олик дождался, пока она скрылась за дверями лестничной клетки, и вышел на улицу.
– Дядь Петь, я готов!
Дядя Петя взял отвалившуюся ручку:
– Ремонт будет тяжёлым и сложным. Без твоей помощи нам не обойтись…
Открыл заднюю дверь. Зажал её между коленями.
– Садись.
Олик влез на сиденье.
– Ручку бери.
Взял.
– Приставляй к штырю! Так, чтобы ручка показывала на «шесть часов».
Олик прислонил оторванную ручку к штырю и вопросительно взглянул на водителя.
– И наступив криктический момент![41]41
Слова из одесской блатной песни, прозвучавшие в том числе в положенном «на полку» фильме «Интервенция» режиссёра Георгия Полоки по сценарию Льва Славина. «Ленфильм», 1968 г. Орфография фразы сохранена по первоисточнику.
[Закрыть] – пропев себе под нос, тот саданул кулачищем левой руки по головке ручки. Нарядная блестящая никелем ручка, попав в зубчатые пазы, мгновенно встала на место.
– Как новенькая! – довольно пробасил дядя Петя. – Тут посидишь? Я мотор заведу, от печки тепло будет…
– Нет, спасибо, я погуляю, – сдавленно пробормотал Ольгерд и выскочил из машины вон. Он не хотел, чтоб дядя Петя увидел его слёзы. Мать всё же заставила его заплакать.
Тем временем позёмка иссякла. Ветер стих. Тучи разбежались. Засияло холодное, мерцающее и двоящееся в слезах солнце. Посреди угрюмого, необжитого, незастроенного поля одиноко торчал новый больничный корпус жёлтого кирпича. Ванчуков, роняя холодные слёзы, шёл по полю. Всё кругом было залито растаявшим снегом; потом по нему ударил мороз, превратив верхний слой воды в лёд. Но в глубине вода и не думала замерзать.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































