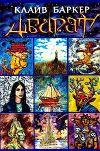Читать книгу "Популярная музыка из Виттулы"

Автор книги: Микаель Ниеми
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
Глава 5
О бесстрашных вояках, о группировках и об искусстве вытаптывать лыжные спуски
Каждый день, когда в Школе домоводства заканчивался последний урок, мимо нашего дома проходили толпы шестнадцати-семнадцатилетних девчонок. Классные телки. Не забывайте, это были шестидесятые – тонны макияжа, накладные ресницы и короткие-короткие клеенчатые сапоги в обтяжку. Мы с Ниилой повадились подглядывать за ними с сугроба у нашего дома. О чем-то переговариваясь, девчонки кучками шли мимо нас, без шапок даже в самую холодную пору (чтоб не испортить прическу). Дымили как паровозы, оставляя за собой приторно-сладкую смесь сигаретного дыма и духов, – этот запах по сей день вызывает у меня сладостные воспоминания. Бывало, они здоровались с нами. Мы краснели и делали вид, что строим снежную крепость. В семь лет у нас уже определенно был интерес. Назвать это похотью, конечно, нельзя – это была скорее томительная нега. Мне хотелось поцеловать их, прижаться. Ластиться к ним, будто котенок.
Как бы то ни было, мы стали кидать в девчонок снежками. Наверное, для того, чтобы они почувствовали, что мы мужики. Как ни странно, это подействовало. Дюжие шестнадцатилетние валькирии пугливо шарахались, как стадо оленей, визжали и пищали, укрываясь косметичками. Вот глупые. Мы ведь и снежки-то толком лепить не умели, кидали свечой, почти не попадая, – снежки мягко планировали, как финские варежки. Однако шороху наводили. Мы были силой, с нами надо было считаться.
Так продолжалось несколько дней. Вернувшись из школы, мы загодя готовили боезапас. Воображали себя двумя виттульскими вояками, двумя матерыми ветеранами, выполняющими спецзадание на чужом континенте. Под ложечкой было щекотно от ожидания. Эти бои приближали нас к тем сладостным ощущениям, о которых мы пока только догадывались. С каждой новой битвой росли наши петушиные гребешки.
И вот наконец показались девчонки. Несколько групп, идут на разном удалении друг от друга, по пять-десять человек. Завидев их, мы прячемся за сугробом. План тщательно продуман. Мы пропускаем первую группу и атакуем их со спины, остальные кучки резко тормозят прямо перед нами. Паника и сумятица. И, разумеется, восхищение нашей удалью молодецкой.
Сидим в засаде. Слышим приближающиеся шаги, девичьи голоса, прокуренный кашель, смешки. Вмиг выскакиваем из-за сугроба. У каждого по снежку в правой руке. Завидев девчонок, как два викинга, с воинственным кличем кидаемся в бой. Но только мы собрались смять их со спины, как обнаруживаем, что одна из девчонок не убоялась. Встала за несколько метров от нас. Светлые длинные волосы, размалеванные глаза. Пристально смотрит на нас.
– Только киньте еще раз, я вам ноги поотрываю, – шипит она. – Так отделаю, что родная мать не узнает…
Мы с Ниилой пугливо опускаем снежки. А девица, напоследок еще раз грозно глянув на нас, идет догонять подруг.
Так мы и стояли. Опустив глаза. А на душе осело какое-то огромное, тревожное смятение.
Детство паяльских мальчишек проходило в постоянной борьбе группировок. Именно так местные пацаны выясняли между собой отношения. Втягивались в группировку с пяти-шести лет и выходили из нее к четырнадцати-пятнадцати годам.
Группировки действовали примерно так. Скажем, поссорились два карапуза. Андерс стукнул Ниссе, Ниссе заревел. Не будем вдаваться в причину ссоры, исконную вражду или возможные межродовые распри. Просто один пацан отдубасил другого, и оба разошлись по домам. С этого начинается цепочка.
Пострадавший, то бишь Ниссе, бежит жаловаться своему брату, который двумя годами старше Ниссе. Старший брат ходит по району, держит ухо востро и, отыскав обидчика, хорошенько отделывает его, чтоб неповадно было. Андерс ревет и бежит жаловаться брату, четырьмя годами старше Андерса. Тот ходит по району, держит ухо востро. Увидав Ниссе или его брательника, отделывает их хорошенько и советует не попадаться ему в другой раз. (Успеваете следить?) Обиженные вкратце излагают суть дела взрослому двоюродному братцу, пятью годами старше Ниссе. Тот отделывает Андерсова брата, самого Андерса да заодно пару дружков, вызвавшихся защищать их. Оба старших брата избитых дружков, шестью годами старше Андерса, ходят по району, держат ухо востро. Всем оставшимся родным, двоюродным, троюродным братьям и прочим родственникам Ниссе вкратце объясняют расклад, хронику того, кто кого бил, когда и в каком порядке, – то же происходит в стане Андерса. Сгущают краски для пущей убедительности. Делаются энергичные попытки привлечь на свою сторону восемнадцатилетних двоюродных братьев и даже отцов, но те отказываются, говоря, что все эти разборки салаг им до одного места.
А разборки тем временем продолжались. В самые большие группировки втягивались школьные товарищи, соседи и все другие возможные приятели, особенно если зачинщики были из разных районов. Тогда Виттулаянкка сходилась с Паскаянккой, Страндвеген шел на Техас, и разгоралась война.
Жизнь группировки длилась от пары дней до нескольких месяцев. Обыкновенно разборки продолжались одну-две недели и проходили по вышеописанному сценарию. На первом этапе, соответственно, раздавались затрещины и хныкала мелюзга. На втором этапе в дело вступали вожаки, они ходили по поселку, держа ухо востро, а мелюзга сидела дома и жалась по углам. Попадись кто из малявок в этот момент, я им ой как не завидую. Именно этот этап был для меня хуже всех – вечный страх на пути между школой и относительно спокойным домом. Последним шел этап разоружения, когда уже никто не мог или не хотел вникать во все эти запутанные расклады и разветвления, и дело предавалось забвению.
Но прежде, как мы помним, вас подстерегали опасности. Зима. Ты гребешь на своем снегокате в лавку, чтобы купить развесных карамелек. Рано смеркается, редкие снежинки падают с бездонного свинцового неба, звездочками мерцая в лучах фонарей. И вот ты гребешь промеж сугробов, полозья твоих самокатных саночек вязнут в свежем снегу, а с Кирунского проезда слышен гудок снегоуборочного трактора, который пыхтит, продираясь сквозь снежные заносы. Вдруг, вон там на перекрестке, появляется кто-то из больших ребят. Черный силуэт старшеклассника. Он идет навстречу, ты останавливаешься, пытаешься угадать, кто это. Уже хочешь повернуть, но сзади откуда ни возьмись выныривает другой старшеклассник. В темноте ты никак не можешь разобрать, кто это, но он большой. Ты окружен, малявка на снегокате. Делать нечего, остается только надеяться. Ты вбираешь голову в плечи и подгребаешь к первому, он внимательно рассматривает тебя, фонарь залеплен снегом, и лицо встречного скрыто во тьме, парень делает шаг вперед, и душа твоя уходит в пятки. Ты готовишься к худшему: сейчас насуют снега за шиворот и в карманы, настучат по черепушке, закинут шапку на березу, сейчас будут сопли, слезы и унижение. Ты замираешь, как теленок на бойне, а парень подходит все ближе. Он вырастает перед тобой, и ты вынужден остановиться. Он здоровый как мужик, и ты его не знаешь. Он спрашивает, из чьих ты будешь, – ты прикидываешь, что сейчас в поселке как минимум три группировки, судорожно перебираешь их в голове, отвечаешь наугад и надеешься, что попал. Парень хмурит брови и сбивает с тебя шапку. Потом цедит:
– Твое счастье!
Смахнув с шапки снег, ты гребешь дальше и мечтаешь поскорее стать взрослым.
Дело близилось к весне, самые лютые морозы остались позади. Дни все еще были короткими, но в полдень уже показывалось солнце, багряным апельсином висело оно над заиндевелыми крышами. Мы пили свет жадными глотками, и огненно-золотистый сок наполнял наши жилы радостью. Мы будто выбрались из берлоги, проснувшись от зимней спячки.
В эту пору мы с Ниилой решили опробовать Лестадианский спуск. Сразу после школы надели наши деревянные лыжи на проволочных креплениях и поехали напрямки через парк. Смеркалось, лыжи сантиметров на двадцать уходили в глубокий рыхлый снег. Ниила прокладывал лыжню, я шел за ним, две неясные тени в мглистых сумерках. Поодаль, за домом-музеем Лестадиуса, колокольнями высились ряды огромных разлапистых елей. Немые и священные исполины – их думы витали много выше наших.
Звонко хлопая лыжами, мы пересекли обледенелый Лестадианский проезд, уже зажглись фонари. Легко взлетели на очередной сугроб и нырнули во тьму, круто уходившую вниз к реке. Прошмыгнули мимо бюста Лестадиуса. Тот следил за нами из-за берез, а на макушке его красовался снеговой чепец. Фонари вскоре пропали из виду, но и без них было не так темно. Свет, преломляясь в миллионах хрустальных снежинок, разрастался облаком и, казалось, плыл над землей. Глаза постепенно обвыклись в темноте. Перед нами открылся склон, длинной и головокружительной лентой уходивший к реке. Правда, пока он не годился для спуска: мы по пояс вязли в снегу. Тогда, поставив лыжи поперек, мы стали утаптывать его. Пядь за пядью спускались по склону. Трамбовали снег, прессовали его тяжестью наших тщедушных тел, прокладывая узкий желобок вниз, до самой речки. Мы работали бок о бок, пот струился под одеждой. Наконец, спустившись, повернули назад. Поднялись той же дорогой, с настырностью осла наступая на собственные следы. Утрамбовали снег еще плотнее, изо всех сил стараясь сделать спуск как можно жестче, ровнее.
И вот мы на вершине. Пришли туда, откуда начали наш непосильный труд. Ноги ходят ходуном, вздымается грудь, а перед нами раскинулся готовый спуск. Широкая ровнехонькая улица длиной в тысячу поперечных лыж. Мы стоим рядом – я и Ниила. Всматриваясь во мглу. Спуск растворяется в зыбком, сумрачном мире грез, точно леска исчезает в проруби. Расплывчатые тени, еле слышное колыхание в глубине. Тонкая нить, канувшая в сон. Переглядываемся. Потом разворачиваемся лицом к спуску, отталкиваемся бамбуковыми палками. Одновременно ухаем вниз.
Летим. Скользим. Вихрем мчимся в ночь. Хрустит снег. Мороз рвет щеки. Два распаренных мальчика, две дымящиеся сосиски, брошенные в морозильник. Все быстрее, все яростнее бег. Локоть к локтю, два открытых рта, два теплых зияющих жерла, всасывающие ветер. Как здорово утрамбовано, просто класс! Колени – пружины, ноги – колья, плотно упакованные в лыжные штаны. И ветер, растущий в теле ветер, и скорость, почти немыслимая скорость, сверкающий снег, вой ветра, вихри.
И вот, наконец. Раскатистый гром сотрясает лед Турнеэльвен до самой Перяяваары, и пространство колется, как зеркало. Мы преодолели звуковой барьер. Небо становится жестким и колючим, как щебень, мы врезаемся в него, падаем одновременно. Лежим бок о бок в курящемся облаке снега, два дымящихся ядра, руки раскинуты, палки устремлены вверх, в пространство, каждая – к своей сияющей звезде.
Глава 6
О том, как старуха села одеснуґю Господа Бога, а также о превратностях дележа земных богатств
Промозглым весенним днем Ниилина бабушка покинула сей бренный мир. Пребывая в здравом рассудке до самого конца, предсмертным шепотом исповедалась она на смертном одре, лизнула просвирку кончиком коричневого языка и окропила губы вином. Тут старуха сказала, что видит свет, видит, как ангелы небесные пьют ряженку из ковшей, и преставилась; при этом тело ее полегчало на два грамма – ровно столько весила ее бессмертная душа.
Улосвейсу, поминки для ближайших родственников, назначили в тот же день. Сыновья пронесли покойницу в открытом гробу ногами вперед по всем комнатам, чтобы та могла проститься с домом; собравшиеся пели псалмы, пили кофе, потом наконец тело увезли в морг.
Тогда стали готовиться к самой панихиде. Паяльский телефонный узел раскалился добела, из почтового отделения по всему Норботтену, в Финляндию, Южную Швецию, в Европу и другие части света устремились потоки траурных извещений. Немудрено, ведь всю свою жизнь бабуля без устали плодила потомство. Двенадцать детей было у нее, ровно по числу апостолов, и, подобно апостолам, разбрелись ее дети по всей земле. Одни жили в Кируне и Лулео, другие под Стокгольмом, третьи в Вексшё и Кристианстаде, Франкфурте и Миссури и даже в Новой Зеландии. Только один по-прежнему жил в Паяле – то был отец Ниилы. И все собрались на похоронах, даже оба покойных сына старухи, о чем впоследствии поведали собранию ясновидящие тетушки. Они сказали, что еще во время зачинного псалма поинтересовались, что там за мальчики склонились у гроба, но позже заметили, что по краям от мальчиков исходит какое-то свечение, а ноги парят на вершок от земли.
Еще там были внуки и правнуки со всего мира, удивительно опрятные существа, говорящие на всевозможных диалектах. Внуки из Франкфурта лопотали по-немецки, американцы и новозеландцы картавили на смеси шведского с английским. Из юного поколения только Ниила и его братья с сестрами знали наше турнедальское наречие, да они большей частью помалкивали. Эта чудовищная каша из языков и культур, бурлившая во время службы в Паяльской церкви, лучшее свидетельство тому, сколь велика детородная сила одной-единственной плодовитой турнедальской утробы.
Провожая старуху в последний путь, говорили много и обильно. Заверяли, что покойница трудилась в поте лица, жила постом и молитвами. Таскала и поднимала, поднимала и таскала, ходила за коровами и детьми, управлялась с сеном почище кобылы с тремя боронами, наткала полкилометра половиков, собрала три тыщи ведер ягод, натаскала сорок тыщ ведер воды из колодца, вырубила добрый остров леса, выстирала гору белья, без единой жалобы выкачала бочки дерьма из выгребной ямы, а когда копала огород, строчила картошкой в ведро, как из пулемета. И это лишь малая часть.
В последние годы, прикованная к постели, она осьмнадцать раз прочла Библию от корки до корки – разумеется, в старом финском переводе, которого не коснулась скверна этих новомодных безбожников из комиссий по современному переводу Библии. Писание, конечно, не идет ни в какое сравнение со Словом Живым – тем, что двуострым мечом разит скверну во время молитв, – но раз уж у бабули было время…
Как обычно бывает на похоронах выдающихся турнедальцев, проповедники в основном говорили об адских муках. Подробно живописали вечно пылающую угольную дыру, где грешники и маловеры шипят, аки шкварки в кипящем смоляном котле, а сам хозяин Преисподней прокалывает их вилами, чтобы стек сок. Народ на лавках скорчился, старухины дочки с накрученными волосами и в модных тряпках, те так вообще лили крокодиловы слезы, а жестокосердые зятья беспокойно ерзали на месте. Однако теперь им дается шанс одним махом разнести семена раскаяния и милости чуть не по всему земному шару, и нет прощения тому, кто не использует такой шанс. А кроме того, бабушка оставила после себя целую тетрадку записей, где подробно расписала, как ее следует хоронить; пожелала, чтобы в проповедях было побольше Наставлений, поменьше Евангелия. Ну и чтобы никаких дешевых отпущений направо и налево.
И вот наконец небесные врата отворились, хоры ангелов сладостным дыханием осенили Паяльскую церковь, земля содрогнулась – и бабушка была допущена к Отцу Небесному. Тут тетушки в платках задрожали, зарыдали и бросились лобызаться во имя тела и крови Христовой, в проходах и на скамьях запахло свежим сеном, здание церкви оторвалось на полвершка от фундамента и, гулко громыхнув, встало на место. А праведным явился также свет, райский свет, как если сквозь сон на мгновение открыть глаза в безмолвную полярную ночь, – вы выглядываете в окно и на ночном небосклоне видите зарницу полярного солнца, лишь один миг, и снова лениво закрываете глаза. А когда просыпаетесь поутру, вас распирает какое-то великое, небывалое чувство. Наверное, любовь.
После панихиды всех позвали пить кофе с выпечкой. Тоска сразу улетучилась, появилась даже какая-то беспечность. Бабушка-то теперь у Христа за пазухой. Можно расслабиться.
И только на лице Исака застыла угрюмая маска. Он бродил в потертом сюртуке проповедника, и хотя все знали, что он давно ожесточился сердцем, все-таки надеялись услышать от него хоть пару слов у могилы матери. Покаяние блудного сына. Кто знает, может, его вновь коснется пробуждение? На похоронах родителей, когда думы о суетности и бренности мира разом одолевают скорбящего, случались и не такие чудеса. Перст Божий раскаленным железом пронзал черствые сердца – и таял лед, и являлся Святой Дух, и скорбь о прегрешениях исторгалась из сердца раскаявшегося, как помои из грязного горшка, после чего даровалось ему очищение, и становился тот горшок Божественным Сосудом, из которого сочился, орошая землю, елей. Но Исак только тихо пробормотал что-то невнятное, про себя. Даже на первом ряду не разобрали.
Детям дали сок и булочки. Нас было много, поэтому мы ели по очереди. Нииле явно было душно в туго застегнутой чистой рубахе. Пусть большие галдят, как стая черных ворон, мы же тем временем выбежали наружу. К нам присоединились малые из Миссури. Восьмигодовалые двойняшки в костюмах с галстуками. Они говорили друг с другом по-английски, мы с Ниилой – по-турнедальски, они то и дело скучающе озирались по сторонам и ежились. Оба были коротко острижены под морпехов, огненно-рыжие, как их отец-американец ирландского происхождения. Было видно, что они еще не отошли от внезапного приобщения к Старому Свету и корням их матушки. На дворе стоял май, таяли снега, но на речке еще держался лед. Березы были голые; на лугу, где только-только сошел снег, желтела пожухлая прошлогодняя трава. Близняшки топали за нами в своих лакированных ботинках, опасливо высматривая, нет ли поблизости какого-нибудь полярного хищника.
Из любопытства я помаленьку начал расспрашивать их. Раскатисто рыча на смеси американского со шведским, они поведали, что, добираясь сюда через Лондон, видели живых Битлов. Хватит заливать, сказал я им. Но они упрямо продолжали твердить, что Битлы ехали мимо их отеля в длиннющем открытом “кадиллаке”, а вокруг бесновались толпы девиц. Все это снимали на пленку с грузовика, который ехал следом.
Близняшки и прикупили кое-чего. Из бумажной сумки они вытащили пластинку с английским ценником.
– “Битлз”, – медленно прочитал я. – Роскн ролл музис.
– Рок-н-ролл мьюзик, – поправили они меня, посмеиваясь над моим произношением. И отдали пластинку Нииле. – Итс э презент. Ту наш казин.
Ниила взял пластинку обеими руками. С взволнованным видом вытащил виниловый диск и уставился на филигранные дорожки. Держал так бережно, точно боялся, что пластинка треснет у него в руках, как тончайшая корочка льда на дне ведра. Правда, черного цвета. Черная, как грех.
– Киитос, – промямлил он. – Спасибо! Фэнк ю!
Ниила поднес пластинку к носу, понюхал пластмассу, потом поднял над собой, любуясь, как дорожки играют под весенним солнцем. Близнецы переглянулись и хмыкнули. Они уже сочиняли историю о встрече с аборигенами, которую выложат своим приятелям в Миссури, жуя гамбургеры и потягивая колу в какой-нибудь забегаловке.
Ниила расстегнул пару пуговиц и спрятал пластинку за пазухой, к самому сердцу. Он немного помялся. Потом махнул близнецам, призывая следовать за ним. Повел их по лугу промеж последних почерневших сугробов; теряясь в догадках, я поплелся за ними.
Мы остановились у сточной канавы. Поперек дороги была врыта бетонная труба. Склонившись, мы обнаружили круглое белое отверстие. Грязная вешняя вода текла по трубе, с шумом выливаясь у наших ног в продолговатую заводь. Рядом кучей серых застиранных простыней таяли и оседали снежные сугробы. Ниила указал вглубь мутного ручья.
– Презент, – ласково сказал он близняшкам.
Те заинтересованно нагнулись. Прямо у поверхности воды лежали большие склизкие комья. Вблизи можно было разглядеть, как внутри них что-то шевелится. Там колготились черные зародыши. Рядом в темной воде мельтешили уже готовые головастики.
– С кладбища, – коротко сказал Ниила.
Близняшки непонимающе уставились на меня, а я, как мог, растолковал им, что именно хотел сказать Ниила.
– Когда тает снег, вода течет сквозь гробы, – сказал я замогильным голосом, – и приносит сюда души мертвецов.
Ниила раздобыл старую ржавую жестянку из-под кофе. Близняшки тем временем изучали пучеглазых головастиков в луже.
– Ангелы, – пояснил Ниила.
– Да, если посадить их в банку, они превратятся в ангелов и улетят на небо, – подтвердил я.
Один из близняшек взял жестянку и принялся расшнуровывать лакированные ботинки. Другой, помявшись, последовал его примеру. Они быстренько стянули носки и наутюженные брюки со стрелками, оставшись в мешковатых американских кальсонах, и босиком встали на край сугроба. Мелкими, неуверенными шажками засеменили в грязь. И вскоре ловля душ уже шла полным ходом. Талая вода доходила ловцам до бедра. Близнецы стучали зубами от холода, но не уходили, увлеченные своей забавой. Немного погодя, издав ликующий вопль, они торжественно подняли банку, в которой плавало несколько головастиков. Губы у ловцов посинели.
Тем временем из трубы показался новый темный и мягкий комок и плюхнулся в лужу.
– Бабуля! – заорал Ниила.
Один из близнецов тут же сунул руки в воду и начал шарить. Но поскользнулся и упал. Голова исчезла, над нею сомкнулась слизь. Другой близнец успел схватить брата, но не удержался и, всплеснув руками, колтыхнулся сам. Отфыркиваясь, оба выползли на берег, окоченевшие так, что смогли подняться только с нашей помощью. Зато на траве их ждала жестянка, в которой плавали головастики.
Мы с Ниилой молча стояли, восхищенные такой отвагой, а близнецы тем временем пытались одеться. Они совсем продрогли, их колотила дрожь, мы помогли им застегнуть пуговицы на рубашках. Кальсоны они сняли и выжали, потом – каждый своим изящным черепаховым гребнем – вычесали дрянь, набившуюся в волосы. При взгляде на кофейную банку глаза у братьев сияли. Целая пригоршня головастиков с вертлявыми хвостами. Наконец один из братьев протянул нам свою окоченевшую ладонь и сердечно пожал руки:
– Фэнк ю! Спасибо! Китос!
С жестянкой в руке они пошли от нас по направлению к дому, что-то оживленно обсуждая на своем языке.
Вечером того же дня родственники начали делить наследство. Дождались окончания ритуалов. Когда соседи и проповедники ушли, двери были наглухо заперты от посторонних. И вот представители разных ветвей, побегов и привоев этого многочисленного рода собрались в просторной кухне. Выложили на стол документы. Извлекли из сумочек пенсне и нацепили их на скользкие, потные носы. Откашлялись. Смочили губы твердым кончиком языка.
И началось.
В принципе, бабушка, конечно, оставила завещание. Оно было написано от руки в той самой тетрадке и выглядело весьма пухлым, если не сказать больше. Каждая страница была вдоль и поперек испещрена дрожащей старческой рукой. Этому отписано то, другому – сё. Однако, поскольку старуха начала готовить свой уход лет за пятнадцать, да к тому же отличалась капризным нравом, многое в ее записях было исправлено, перечеркнуто, дополнено на полях, да еще прилагался целый листок с кучей невнятных пояснений. Одних она лишала наследства, потом прощала, и так по нескольку раз. Другие могли получить наследство только тогда, когда выполнят ряд условий, – например, в присутствии всей родни громко заявят о своей живой вере, отрекутся от зеленого змия или перед лицом собравшихся и Иисусом Христом покаются в грехах, содеянных ими в былые годы (подробный учет всех грехов велся в той же тетради). Весь текст был неоднократно заверен и скреплен печатями – увы, за исключением того важного листка. При этом все завещание было составлено на турнедальском наречии.
Только чтение завещания в душной избе заняло несколько часов. Каждое слово надо было перевести на шведский, финский, английский, немецкий и фарси (дочка из Вексшё вышла замуж за пришлого суннита). С не меньшими трудностями было сопряжено чтение отрывков о вере. Непременным условием для всех было следовать живой вере, а большинство турнедальцев считали живой верой исключительно лестадианство. Против такого толкования выступили суннит, зять-иудей из Новой Зеландии и франкфуртская дочка, принявшая баптизм, – все они поочередно заявили, что их вера такая же живая, как и у всех остальных. Тогда младший брат бабушки из Уллатти прогремел во всеуслышание, что раз он западный лестадианин, то, стало быть, и есть самый правильный христианин из всей компании; это заявление жестоко оскорбило его двоюродную сестру из восточных лестадиан, еще одну из Собрания перворожденных, да пару староверов[1]1
Христианские секты на севере Швеции и Финляндии.
[Закрыть]. Восточная лестадианка моментально отключилась, начала прыгать и биться в экстазе, так что пот брызгал во все стороны. Остальные, не теряя времени даром, присоединились, стали оживленно размахивать руками, рыдать, обниматься, валиться ничком на половики, каясь во всех смертных грехах.
Тут Исак не выдержал, встал и рявкнул на всех по-шведски и по-фински, чтоб заткнули пасти. Тем временем троюродный брат, забулдыга из Каинуласъярви, попытался вставить в завещание пару слов от себя, но был пойман на месте преступления и вышвырнут вон. После чего было объявлено перемирие, и, когда схлынула волна протестов, воцарилось напряженное спокойствие. Несколько человек потребовали занести в протокол факт того, что они только что покаялись, и все остальные доказательства их живой веры, – большинством голосов предложение было принято.
Закончив читать, все полностью и окончательно запутались. Тишайший инженер из Упсалы, разбиравшийся в вычислительной технике, предложил записать завещание со всеми поправками и добавлениями на перфокарту и, обработав его пару раз с помощью логической программы, разделить имущество по справедливости. Все тут же закричали, что этому южанину, обабившемуся интеллигентишке и седьмой воде на киселе лучше закрыть паяло и не соваться, когда решаются столь важные семейные дела. Братья и сестры, двоюродные братья и двоюродные сестры, зятья и невестки стали разбиваться на группы по тактическим соображениям. Началось оживленное шушуканье. Высылались парламентеры, выдвигались и отвергались предложения, возникали и рушились альянсы, гомонящие группки через посыльных обменивались более или менее скрытыми угрозами. Двое мужиков вместе вышли до ветра, потом вернулись в подозрительно веселом расположении духа. Скрещивались взгляды. Закатывались рукава рубах. Писарь с жиденькими волосами, отвечавший за протокол, постучал ручкой о чашку и попросил внимания. Народ, тяжело дыша и гневно шикая друг на друга, обступил кухонный стол.
Кхм… Гммммм…
Писарь сказал, что, будучи лицом незаинтересованным, он понял так, что все хозяйство, постройки, двор, мебель, добро, банковские счета и еще небольшой лесной клочок надо поделить на сто сорок три равные доли, исключая прялку, которая отойдет соседке.
Его заглушила буря возмущенных голосов.
Приказчик, отставной таможенник, попросил внести в протокол его замечание. По его пусть скромному, но в высшей степени беспристрастному мнению, предыдущий оратор не учел одно дополнение, содержащееся на открепительном листке, абзац три. А именно слова о падении и нравственном разложении Южной Швеции. А потому сам дом и мебеля должны отойти сыну Исаку, а все остальное добро причитается только тем родственникам, которые живут в Паяле.
Вопли усилились. Соседка попыталась спросить, где ее прялка, но ее бесцеремонно оборвали.
Племянник, работавший на северных Кирунских шахтах, заявил, что его Кируна уж никак не Южная Швеция, да к тому же у него дача в Саттаярви рядом с Паялой, а значится, он требует записать в протоколе, что он живет в Паяле, и баста.
Другой племянник, из Киэксияисваары, заметил первому, что тот, видно, запамятовал один пункт на странице четырнадцать, где покойная называет Кирунский обогатительный комбинат Северным Вавилоном, – значит, и всем рабочим с его комбината гореть в аду, а нахаловка в Саттаярви вообще не считается.
В это время забулдыга, оставленный снаружи, кинул в дверь поленом и стал ломиться, требуя впустить его.
Еврей рванул суннита за ворот рубахи, но, получив тычка, упал в кресло-качалку. Они стали кричать и ругаться, а их жены стояли рядом и переводили. Уже чуть не каждый требовал слова, стук писаревой ручки утонул в гаме.
Немудрено, что в конце концов был занесен кулак. Отмытый по торжественному случаю от грязи рабочий кулак – он, словно гриб после дождя, выскочил из черного перегноя. Затрясся на широкой ножке, завертелся во все стороны, как филин. Это было предупреждение. Что чаша терпения переполнилась.
Миг – и рядом вырос его собрат. Потом еще один. Люди загалдели, уже не слушая друг друга. Посыпались проклятия на всех мыслимых языках и наречиях, якорными цепями загремели угрозы, стены избы сотряслись подобно вавилонским.
И понеслось.
Из уважения к ближним остановимся на этом месте. Я не буду описывать, как трещали скулы, как царапались ногти, как текла юшка, как летали вставные челюсти, как ломались очки на переносице, ни эти коварные пинки, ни эти пальцы, вцепившиеся в горло. Я отказываюсь перечислять сковородки, стулья, резиновые сапоги, совки, собачьи миски, финскую фамильную Библию и все другие подручные средства, пошедшие в ход. Я опускаю все эти яростные проклятия, всю брань, прежде всего – неисчерпаемый кладезь турнедальских ругательств, все эти упреки в глупости, уродстве, кровосмешении, старческом слабоумии, умственной неполноценности, нетрадиционной сексуальной ориентации, которыми обменивались в пылу борьбы разгоряченные родственники.
Достаточно просто сказать: это был ад кромешный.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!