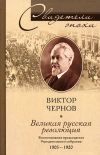Читать книгу "Страницы моей жизни"
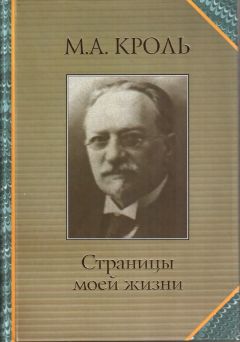
Автор книги: Моисей Кроль
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
После долгих и горячих дебатов было решено, чтобы в день, когда будет назначена к отправке первая наша группа, все заперлись в одной камере, забаррикадировались в ней и отказались бы ехать. Все знали, что протест прежде всего поставит в очень тяжелое положение товарищей, подлежащих отправке, знали также, что двери камеры будут взломаны и что дело дойдет до жестокой драки. Но большинство точно были охвачены лихорадкой протеста.
О возможных печальных последствиях этого сопротивления властям не хотели думать.
Наступил день, когда назначена была отправка нашей первой группы в Нижний Новгород. В эту группу попали девять человек: Богораз, Коган, Пикер, я, Бреговский, Зунделевич Лев, Гринцер, Левит и Шаргородский.
Протестанты взялись за работу в шесть часов утра. Было решено, что в протесте принимают участие лишь те, которые ему сочувствуют и считают его целесообразным. Подавляющее большинство присоединились к протесту, отказались в нем участвовать человек пять-шесть, в том числе и я. С щемящим сердцем мы прислушивались к лихорадочной работе, которая велась в камере, где заперлись протестанты. Слышен был грохот нагромождаемых друг на друга столов, стульев, коек…
«Чем все это кончится?» – спрашивали мы себя.
В 9 часов утра в «Часовую башню» нагрянули солдаты. С неописуемым волнением мы, не участвовавшие в протесте, смотрели, как эти солдаты, с тюремным начальником во главе, взбегали на 3-й этаж. У некоторых солдат были в руках топоры. Мы слышали, как начальник тюрьмы предложил протестантам открыть дверь, – на это предложение не последовало никакого ответа.
Тогда заработали солдатские топоры.
Что было дальше, я уже не слыхал, так как двое надзирателей вошли в камеру, где я находился, и, предложив мне следовать за ними, вывели меня на колоссальный тюремный двор, где уже были собраны несколько сот уголовных арестантов, которые тоже подлежали отправке в Нижний Новгород.
Позже некоторые товарищи-протестанты мне сообщили, что в камере, где они заперлись и куда солдаты ворвались, взломав двери и разбросав баррикаду, происходили душераздирающие сцены. Ярость солдат вывела из себя некоторых протестантов, и между ними и озверевшими солдатами началось страшное побоище. Особенно досталось Богоразу. Большой силач, взбешенный диким нападением на него солдат, он вначале расшвырял их во все стороны, но в конце концов пять-шесть солдат его одолели и стали тащить за ноги по лестнице, не обращая внимания на то, что голова его стукалась о каменные плиты. Как он остался жив, просто непонятно.
Я помню момент, когда Богораз показался на большом дворе тюрьмы, где я уже находился. Этот момент врезался в моей памяти на всю жизнь. Два солдата вели его под руки, а третий его подталкивал подзатыльниками. Рубаха на нем была разодрана и висела на его голом теле клочьями. Лицо его было покрыто слоем пыли, а в глазах стояли крупные слезы от сознания своего бессилья и горькой обиды.
Огромный двор тюрьмы представлял собою своеобразную картину. Под чистым голубым небом и ярким солнцем стояла плотная масса уголовных арестантов в своих серых халатах, в цепях и с бритыми головами. Их окружал конвой из нескольких десятков солдат. И все ждали привода «взбунтовавшихся» политических.
Для арестантов насильственный привод Богораза и других был необыкновенным и очень занимательным зрелищем.
В особо отведенном месте стояла небольшая группа политических. В воздухе чувствовалось напряженное ожидание. Возбужденные и злые лица солдат, гневные взгляды тюремных чиновников, которые нетерпеливо ожидали конца «бунта», и сдержанное любопытство многих сотен уголовных арестантов составляли редкий контраст со спокойным голубым небом и мягкой теплотой майского солнца.
А что мы, два человека, в протесте не участвовавшие, пережили в это драматическое утро, не поддается описанию.
Когда привели остальных «бунтовщиков» и мы все немного успокоились, то мы обратили внимание на одного арестанта в сером халате, закованного в кандалы и с бритой головой, который стоял рядом с нами. Мы сразу сообразили, что это арестант политический. Гигантского роста, он поражал нас необыкновенной своей бледностью. Он молчал, но в его глазах стояла невыразимая печаль. Видно было, что насильственный привод товарищей и дикое озлобление солдат его глубоко потрясли.
Кто это? – спрашивали мы себя.
Ответ на этот вопрос мы получили лишь тогда, когда нас привели на вокзал и посадили вместе в один вагон. Это был Василий Андреевич Караулов, кажется, первый шлиссельбуржец, отбывший срок каторги в страшной крепости и освобожденный оттуда с тем, чтобы быть отправленным в Сибирь на поселение. И на его долю выпало новое испытание: быть свидетелем тяжелых и диких сцен, которые разыгрались в описанное мною утро на большом дворе Бутырской тюрьмы.
В Нижнем Новгороде нас посадили на огромную баржу, и оттуда мы начали наше долгое и томительное путешествие по воде, по железной дороге, в телегах и пешком. Проплывали реки, переваливали через горы, прорезывая леса и безбрежные равнины, пока каждый из нас не достиг того пункта, где ему было предопределено прожить лучшую пору своей жизни – свои молодые годы.
Но прежде чем я приступлю к подробному описанию нашего многомесячного передвижения по обширным и захватывающе интересным просторам Сибири, мне хочется посвятить светлой памяти Караулова несколько дружеских и товарищеских строк.
Караулов был очень деятельным и ответственным членом партии «Народная воля» и находился в очень близких отношениях с героическим Исполнительным комитетом партии. Когда Дегаев сознался в том, что он был провокатором, партия устроила над ним суд и в числе судей был также Караулов. Как известно, заграничная делегация партии обещала Дегаеву не преследовать его за его предательство, если он убьет Судейкина, доверенным агентом которого он состоял. Дегаев принял это условие и вместе с Куницким, Стародворским и Росси убил Судейкина у себя на квартире в Петербурге. Роль Караулова в этой трагической истории, по-видимому, стала известной департаменту полиции, и поэтому Караулов, приговоренный всего к четырем годам каторги, все же был посажен в Шлиссельбургскую крепость. Попал Караулов в эту живую могилу в то страшное время, когда там свирепствовал палаческий режим медленного истребления политических заключенных. На эти именно годы выпал наибольший процент смертей, сумасшествий и самоубийств среди шлиссельбургских узников.
Об этих ужасах Караулов рассказывал нам целые вечера.
В последний год пребывания Караулова в крепости режим там значительно смягчился. Заключенным разрешили разводить небольшие огороды, совершать прогулки вдвоем, причем можно было часто менять товарища по прогулке. Это, конечно, было большой радостью для узников. И только тогда, когда они получили возможность встречаться друг с другом, выяснилось, какие страшные трагедии разыгрывались в крепости и какие тяжелые потери понесли шлиссельбургские мученики в первые годы своего заключения.
Когда Караулов был арестован, он был на редкость здоровым и крепким человеком. После четырехлетнего сидения в крепости он оттуда вышел с хроническим катаром легких и тяжелым бронхитом. Кто из заключенных имел силы заниматься умственным трудом, те много читали и даже писали. Караулов тоже очень много времени уделял чтению книг, и проглотил он их несчетное количество. Но он также много думал о «проклятых вопросах» и додумался до чрезвычайно интересных вещей. Свои эти мысли, которыми он с нами делился, были всегда своеобразны и чрезвычайно ясны.
Из крепости он вышел весьма умеренным революционером. Он пришел к убеждению, что с неподготовленным народом невозможно провести победоносной революции, если бы даже правительственная власть перешла в руки революционеров. Поэтому он предполагал, что глубокие экономические и социальные реформы могут осуществиться и войти в жизнь только постепенно.
Но этот его взгляд был очень далек от богоразовского «культурничества» и политического квиетизма. Напротив, подобно Фаусту, он не переставал повторять: «Только тот заслуживает свободы и жизни, кто каждый день должен их завоевывать».
Для него была так же непререкаемой аксиомой мысль, что только в живительной атмосфере свободы может народ созреть для великих социальных преобразований.
Как русскому, ему местом поселения назначили не Якутскую область, а г. Балаганск Иркутской губернии, где он провел немало лет.
В 1905 году, после манифеста 17 октября, он был амнистирован, а в 1907 году он вступил членом в конституционно-демократическую партию, она же партия «Народной свободы». Позже эта партия выставила Караулова своим кандидатом в 3-ю Государственную думу и провела его успешно в члены думы. Выступал он в думе очень редко, но одно его выступление прогремело на всю Россию. Это, собственно, была даже не речь, а реплика, но эта реплика с такой яркостью рисует нравственный облик Караулова, что я позволяю себе процитировать ее целиком.
Записанный в очередь, Караулов после целого ряда ораторов поднялся на думскую трибуну, чтобы высказаться по стоявшему на повестке вопросу, но в этот момент черносотенный священник Вараксин ему крикнул с места: «Каторжник!»
И на этот наглый выкрик Караулов ответил так:
«Что? Каторжник? Да, господин член Государственной думы, я был каторжником. С бритой головой, в кандалах, я долгие месяцы мерил бесконечно длинный путь на Владимирку. И мое преступление заключалось в том, что я хотел вам дать возможность сидеть на скамьях, которые вы сейчас занимаете. В море слез и крови, которое вас вознесло на эти места, есть и мои слезы, и моя кровь».
«Бурные аплодисменты на всех скамьях», отмечает стенографический отчет об этом заседании. «Значительная часть депутатов встали со своих мест, аплодисменты превращаются в такую овацию, которой дума до этого никогда не видела».
Таков был Караулов, с которым судьба свела нас на большом дворе Бутырской тюрьмы при вышеописанных обстоятельствах.
Глава 8
Мои тюрьмы
Наша баржа, которую вел на буксире большой пароход, была в сущности плавучей тюрьмой. Каюта, в которой мы помещались, имела вид большого каземата. Окна были крошечные, с крепкими железными решетками. Несмотря на летнее время, в каюте было холодно, и воздух в ней был тяжелый.
От помещения, где находились уголовные арестанты, нас отделяла очень тонкая дощатая перегородка, а потому к нам свободно врывались все специфические крики и шумы необузданной толпы с ее дикими выражениями, невообразимыми ругательствами и ссорами, легко переходившими в драку.
Это нестерпимое соседство нас сильно нервировало. Зато Волга доставляла нам невыразимое удовольствие. Ее величественная мощь, красота ее мягких, залитых солнцем берегов приковывали к ней все время наше внимание. Целыми днями мы не отрывали от нее наших глаз. Она нам казалась символом неукротимой силы, опрокидывающей все барьеры и гордо, и спокойно несущей свои воды до конечной цели, до воссоединения ее с Каспийским морем.
Начиная с Казани, наша плавучая тюрьма свернула в приток Волги, могучую Каму. Тон и краски развертывавшихся перед нашими глазами пейзажей резко изменились. Под серым небом эта большая река катила темно-зеленые волны, и в этой тихой и в то же время могучей громаде вод чувствовалась неизмеримая сила. Нам казалось, что Кама даже глубже и полноводнее, чем Волга. Недаром среди прикамских крестьян распространено поверье, что настоящая Волга – это Кама.
Но самое глубокое впечатление на нас производили ее берега. Огромные, густые, темные леса тянулись по обеим ее берегам. Они казались непроницаемыми стенами, за которыми спрятаны несметные сокровища. В этих дремучих лесах сотни лет тому назад спасались многие русские сектанты. Гонимые и преследуемые и царской властью, и православным духовенством, они в глубине этой таинственной чащи устраивали свои «скиты», далеко от гонителей их веры, далеко от людей вообще. И чем дальше они забирались в леса, тем безопаснее было для них. Там они находили покой, и там они могли молиться Богу, как они хотели. И их пламенная вера совершала чудеса. Она освещала их жизнь особым светом и наполняла их души внутренней радостью. Она превратила мрачные леса, где они селились, в новую дорогую им родину. Так велика была сила их веры!
«Почему же и нашей вере не творить чудес в тех гиблых местах, где нам суждено провести долгие годы?!» – спрашивал я себя не раз.
Много дней и ночей плыли мы от Казани до Перми. А от Перми до Тюмени мы вновь поехали по железной дороге. Было обидно, что Урал с его удивительными ландшафтами мы перевалили ночью, а в Тюмени нас опять погрузили на «баржу», и пароход, к которому мы были прицеплены, начал свое долгое плавание по гигантской реке – Оби.
Грустное впечатление производила на нас эта грандиозная сибирская река! Плоские берега, то болотистые, то поросшие карликовыми березками. Березки стояли еще оголенные, несмотря на то, что май уже подходил к концу. Серое, низкое небо, почти непрерывные дожди – все это наводило тоску. И чем дальше мы продвигались на север, тем безотраднее становился пейзаж. Медленно скользила наша баржа по мутным струям Оби, и бывало, что мы целыми днями не встречали ни на воде, ни на суше ни одного живого существа. Раза два-три пароход причаливал к каким-то заброшенным поселкам, и эти остановки были настоящими событиями в нашей жизни.
Жители этих деревушек «остяки» занимались исключительно рыболовством и охотой. Они буквально атаковывали наш пароход и настойчиво предлагали его капитану и команде купить у них рыбу. Мы были поражены тем, как баснословно дешево продавали они свой товар. Я помню, что за огромную связку стерляди, весом с полпуда, они просили всего 50 копеек. Вместо денег «остяки» охотно брали хлеб, сахар, табак и т. д. Они обыкновенно окружали пароход своими лодками, полными рыбы, и поднимали невероятный крик. Мокрые от дождя, грязные, одетые в какие-то лохмотья, они взбирались на пароход и рассыпались по всей палубе, ища покупателей. Они невероятно кричали, приставали к пассажирам и матросам, перебегая от одного к другому и торопясь сбыть товар. А перед тем как пароход отчаливал, команда вынуждена бывала силой сгонять их на берег, т. к. они добровольно ни за что не хотели сойти.
Обширный мир с его утонченной цивилизацией, с его невзгодами, с научными и техническими достижениями, с острой борьбой народов за лучшую жизнь – все это уходило от нас дальше и дальше. Моментами нам казалось, что это плавание по Оби сквозь туманы и дождь никогда не кончится.
Наше подавленное настроение внезапно изменилось, когда капитан парохода сообщил нашему старосте Бреговскому, что в Якутске произошло с политическими ссыльными большое несчастье: там разыгрался страшный конфликт между этими ссыльными и местной администрацией.
Подробности якутской трагедии тогда взволновали весь цивилизованный мир, о ней позже было написано много статей и даже книг. Поэтому я здесь не стану описывать подробно печальных событий, которые составляют одну из самых кровавых страниц в истории русского царизма.
Крайне взволновавшее нас сообщение рисовало якутскую драму в таком виде.
Большая группа политических ссыльных отказалась отправиться из Якутска в Колымск в самый разгар тамошней суровой зимы, потому что такое путешествие представляло большую опасность для жизни. Они просили, чтобы отправка их к берегам Ледовитого океана была отложена до более теплого времени. Но губернатор наотрез отказался удовлетворить их ходатайство и распорядился, чтобы ссыльные были отправлены в Колымск немедленно и в том порядке, какой был намечен администрацией.
Тогда все те, которые подлежали отправке, решили, что они добровольно не поедут и что они окажут самое энергичное сопротивление, если их захотят увести силой. Они заперлись в большом доме, где жили несколько ссыльных, с решимостью противопоставить силе силу же.
Явился отряд солдат, и их начальник потребовал, чтобы четверо ссыльных, назначенных к отправке, немедленно собрались в путь. Когда же со стороны ссыльных последовал решительный отказ подчиниться требованию администрации, солдаты открыли стрельбу по дому с такой яростью, точно они брали неприятельскую крепость. Несколько ссыльных были убиты, большое число их были ранены, и все участники этого протеста были преданы военному суду по обвинению в вооруженном сопротивлении властям.
Вот эту страшную новость сообщил нам капитан парохода.
Мы были все потрясены обрушившимся над нашими якутскими товарищами несчастьем. Вместе с тем якутская трагедия нам еще раз напомнила, что наш враг, царский деспотизм, силен и безжалостен, что наше подневольное странствование лишь недавно сравнительно началось и что у нас далеко нет уверенности, что мы благополучно доберемся до конечного пункта нашего путешествия – места нашего поселения.
С величайшим нетерпением ждали мы дня прибытия нашего парохода в Томск, где мы надеялись узнать от местных ссыльных подробности якутской драмы. Но наши надежды не оправдались. В Томске еще ничего не знали о том, что произошло в Якутске. В то время в Якутске еще не было телеграфа, и почта оттуда до Иркутска шла очень долго.
В департаменте полиции, конечно, знали уже все подробности разбойного нападения солдат на ссыльных, но частные письма шли от Якутска в Европейскую Россию месяцами. К тому же такие письма пересматривались, и было небезопасно писать подробно о таких событиях, как якутская бойня.
С тяжелым чувством мы покинули Томск и начали свое долгое странствование этапным порядком в сторону Иркутска по проторенному десятками и десятками тысяч арестантов сибирскому тракту. Впереди шла огромная партия уголовных арестантов, человек в 600, а позади их плелись мы, небольшая группа политических. Нас стало десять человек – десятого нам подкинули в Томске.
Это был очень подозрительный тип – худой, болезненный, в темных очках. Начальник томской тюрьмы нас заверил, что он тоже политический ссыльный, но манера его держать себя, его разговор нам крайне не понравились. На наши многочисленные вопросы он давал такие несуразные и странные ответы, что он не только не рассеял наших подозрений, но укрепил их. Но так как полной уверенности в том, что он подосланный «шпик», у нас не было, то мы его поневоле терпели, хотя он нам испортил немало крови в пути.
Шли мы в таком порядке. Впереди маршировали уголовные арестанты, все в кандалах и с бритыми головами. Мерными ударами отдавался привычный тяжелый шаг этой огромной массы людей, а звон кандалов как бы являлся аккомпанементом к гулкому и отчетливому их шагу.
За этой сомкнутой в тесные ряды колонной тянулись телеги с больными арестантами и всем багажом партии. Замыкали шествие несколько крестьянских телег, на которых разместились мы, политические, с нашим багажом.
Партию уголовных арестантов сопровождал конвой из 40–50 солдат с ружьями. Мы же, политические, были удостоены особого внимания: каждый из нас имел своего конвоира, который лично нес ответственность за сопровождаемого им политического. Поэтому наши конвоиры не спускали с нас глаз.
Имея право все время ехать в телеге, мы, однако, очень часто предпочитали ходить пешком, так как тащиться в тряской телеге шагом позади уголовной партии было крайне томительно. И как только кто-нибудь из нас соскакивал с телеги, чтобы размять затекшие члены, его конвоир, как тень, следовал за ним. Двинулись мы в путь из Томска в конце мая, когда долгая сибирская зима с ее метелями в марте и апреле внезапно, как по волшебству, сменяется ясным, солнечным, жарким летом.
Неделю спустя мы вступили в полосу сибирской «тайги». Было истинным наслаждением дышать удивительным, свежим воздухом дремучего леса, любоваться ясным голубым небом и согреваться под горячими лучами сибирского летнего солнца. Сколько лет мы были лишены этого удовольствия! Непосредственная близость природы вливала в нас новые силы и будила новые чувства. Особенно благотворно действовали красоты природы и свежий воздух на меня: ко мне постепенно возвращался голос, я стал произносить довольно громко целые фразы, и сознание, что я перестал быть немым человеком, наполняло меня большой радостью.
Во время этапного нашего путешествия у нас установился следующий образ жизни. Вставали мы в 5 часов утра. Спешно готовился чай. Наскоро закусывали и укладывали вещи, а в 6 часов утра мы уже трогались в путь. Около одиннадцати часов утра делали «привал», т. е. останавливались не надолго, чтобы передохнуть – на опушке ли леса или в поле, обычно недалеко от какого-нибудь поселения. Место привала было заранее определено, и ко времени прихода арестантских партий туда съезжались торговцы съестными припасами, преимущественно крестьяне.
Это было то золотое время, когда сибирские крестьяне славились своей зажиточностью, а съестные продукты продавались по баснословно дешевым ценам. За огромный кувшин молока в 6–8 стаканов платили всего три копейки, за фунт превосходного масла – десять копеек, за жареную курицу или утку – тридцать копеек и т. д. Торговцы выстраивались в два ряда вдоль дороги, и на этом своеобразном рынке можно было также достать всякие деликатесы, – пирожные, превосходное сдобное печенье, конфеты.
Арестанты набрасывались на продукты, как саранча, и через несколько минут на базаре почти ничего уже не оставалось.
Ежедневно мы делали от 30 до 35 верст. До ближайшего этапа мы добирались обыкновенно в 6–7 часов вечера. После двух дней ходьбы мы отдыхали целые сутки – это называлось «делать дневку». Все этапные здания были построены по одному образцу. Обед мы варили во дворе на кострах.
Само собою разумеется, что рядом с этапными зданиями всегда выстраивались торговцы съестными продуктами, и нашему старосте, Бреговскому, разрешалось в сопровождении конвоира закупать все, что нам было нужно.
Нашим поваром был Зунделевич Лев, брат знаменитого революционера Аарона Зунделевича. Этот Лев Зунделевич в своем родительском доме, конечно, никогда не подходил даже к печке, не то чтобы исполнять обязанности кухарки. Но в пути он выразил желание быть нашим поваром и, надо ему отдать справедливость, делал он свою работу в высшей степени старательно. Понятно, что наша кухня была весьма непритязательная.
На этапах нам, политическим, отводилась всегда особая камера. Уголовные же арестанты занимали две, а то и три колоссальных размеров камеры, а так как в них были места более удобные и менее удобные, то начальство ввело такой порядок размещения в них арестантов: партия выстраивалась в несколько рядов перед широкими воротами этапного двора в ожидании, пока откроют их и пока конвой не даст сигнала. И как только конвой возглашал, что можно занимать места в камерах, вся эта масса в 500–600 человек, за минуту до этого спокойная и выстроенная в правильные ряды, устремлялась с дикими криками во двор этапа, а затем и в камеры, чтобы занять лучшие места. Это было страшное зрелище, которого нельзя забыть тому, кто хоть раз его наблюдал. Звеня кандалами, сотни людей мчались во весь опор, стараясь друг друга перегнать, толкая друг друга и топча ногами случайно поскользнувшихся и упавших. Это была человеческая лава, которую никакая сила не была бы в состоянии остановить. Конечно, лучшие места доставались наиболее ловким и сильным, а слабым и отставшим приходилось устраиваться где попадется – у дверей, где они не имели минуты покоя, или под нарами, где стоял нестерпимый смрад и буквально нечем было дышать. Кто ввел этот варварский способ размещения арестантов, неизвестно было, но он крепко привился и практиковался в течение многих лет.
На первый взгляд может показаться, что условия, при которых мы совершали наше этапное путешествие, были довольно сносными. Но в действительности это было не так. Прежде всего, наше благополучие зависело от характера конвойного начальника. Если этот начальник оказывался более или менее приличным и культурным офицером, то и конвоиры вели себя по отношению к нам вежливо и корректно. Но когда конвойный начальник бывал антисемитом или просто озлобленным человеком, то и конвоиры относились к нам отвратительно и между нами и солдатами возникали весьма острые столкновения. Несколько раз мы были доведены гнусным и издевательским отношением к нам конвоиров до такого состояния, что мы были на волос от кровавого конфликта.
Дни и ночи, которые мы проводили на этапах, нередко для нас превращались в настоящие кошмары. Я уже не говорю о клопах, блохах и вшах, которые нам не давали спать целыми ночами. Но было нечто неизмеримо худшее, чем эти насекомые, это – близкое соседство уголовных арестантов.
Как только кончалась вечерняя поверка и нас запирали в наших камерах, за нашей стеной начинались невероятные оргии. Шла дикая, азартная игра, и во время этой игры происходили омерзительные сцены: ссорились, яростно дрались. Откуда-то у уголовных появлялась водка, а когда арестанты напиваются, они превращаются в настоящих зверей, и в их камерах совершались такие ужасные вещи, о которых невозможно писать.
Для естественных надобностей в общем коридоре ставилась полубочка огромных размеров, и мы буквально задыхались от смрада, проникавшего в нашу камеру. К утру содержимое бочки заливало уже пол коридора, и мы с отвращением перебегали через этот страшный коридор, чтобы вырваться на свежий воздух.
Так мы мерили «московский тракт» в Сибири. В Канске или Мариинске – я уже не помню точно – меня ждал приятный сюрприз: конвойный начальник разрешил двум местным политическим ссыльным посетить нас.
Легко себе представить мою радость, когда одним из этих ссыльных оказался мой старый товарищ Комарницкий, о котором я подробнее писал в одной из предыдущих глав.
Как выяснилось, Комарницкий, несмотря на свое положение ссыльного, занимал место дорожного мастера, т. е. инженера, наблюдавшего за работой по содержанию «тракта» в исправности. И эта должность создала ему очень видное положение в обществе. Образованный и талантливый человек, он, естественно, очень импонировал местному начальству, а также конвойному офицеру. Благодаря этому, Комарницкий без труда получил разрешение нас посетить и провести с нами несколько часов.
Само собой разумеется, что мы могли ему сообщить много вещей, о которых он не имел представления: о том, что стало с партией и со многими его друзьями; о положении многих членов Исполнительного комитета героического периода партии, заключенных в Шлиссельбургской крепости, об общественных настроениях в Петербурге, Москве и вообще в России и т. д. В свою очередь, Комарницкий нам рассказал немало интересного о жизни наших товарищей-ссыльных. От него же мы узнали, что В.Л. Бурцев бежал из ссылки, пробрался в Болгарию и там издает революционную газету «Свободная Россия».
Сообщил нам также Комарницкий, что в России возникло нелегальное конституционное движение и что основным лозунгом этого движения является «народоправство».
Все эти вести нас очень порадовали, так как мы их истолковали как неоспоримое доказательство того, что даже черная реакция Александра III не в силах была окончательно задушить революционные настроения в России.
Четыре месяца продолжалось наше этапное путешествие от Томска до Иркутска. Сколько сот верст дремучей тайги мы оставили позади себя, через сколько рек больших и малых мы переправились, сколько хребтов мы перевалили – просто не счесть!
Мы двигались все дальше на восток, в глубь Сибири, пока не добрались до Иркутска. Там наконец нас отделили от уголовных и поместили в просторной камере, рассчитанной человек на 30–40. Но застали мы в этой камере всего человек 7–8 политических заключенных. И часа через два после того, как мы, новоприбывшие, устроились более или менее на новом месте, мы узнали ужасающие подробности якутской трагедии.
С чувством глубокой скорби и ужаса я выслушал страшную весть, что мои товарищи Гаусман и Коган-Бернштейн были бесчеловечно приговорены к смертной казни и повешены при кошмарных обстоятельствах. Нам также стало известно, что процесс, на котором разбиралось дело о якутских ссыльных, обвинявшихся в вооруженном сопротивлении властям, велся гнуснейшим образом. Палачам-судьям было мало, что солдаты во время своего нападения на ссыльных убили семь невинных человек и многих тяжело ранили; они – эти палачи в мундирах – вынесли смертный приговор всем обвиняемым, в том числе и семи женщинам. Так приказал департамент полиции.
Но даже у этих судей, покорных исполнителей приказов сверху, не хватило духу казнить всех, и они сами возбудили перед якутским генерал-губернатором ходатайство о смягчении приговора в отношении огромного большинства подсудимых. И смертная казнь для многих была заменена вечной или долголетней каторгой.
Такой трагический исход процесса вызвал в прогрессивных общественных русских кругах бурю негодования, и эта реакция русской общественности нашла горячий отклик в Европе и Америке.
Среди сибирских ссыльных трагическая участь якутских протестантов вызвала необычайное волнение. Люди были вне себя от ужаса и негодования. Готовились ответить на якутские казни террористическими актами. Выносились протесты в различных формах, как, например, группа политических, отбывавших административную ссылку в г. Балаганске Иркутской губ., выпустила прокламацию, в которой беспощадно клеймилось гнусное поведение судей, участвовавших в позорном якутском процессе, и смело обвинялось царское правительство в жестокой расправе с якутскими политическими.
Составители прокламации имели мужество подписать под нею свои фамилии. Это были: Грабовский, Виктор Кранихфельд, Ожигов, Улановская и Новаковская. Конечно, их всех предали суду, который приговорил их к ссылке на поселение. Они тоже подлежали отправке в Якутскую область, и мы их застали всех в Иркутской пересыльной тюрьме.
Каждую неделю в Иркутск прибывала новая группа политических ссыльных из тех, которых мы оставили в «Часовой башне». В ноябре 1889 года наша огромная камера была уже переполнена. Женщины помещались в особом корпусе, но мы с ними ежедневно встречались во время прогулок. В нашей камере вечно стоял шум, велись громкие разговоры, часто спорили, немало дурили и школьничали. Несмотря на все это, многие умудрялись читать серьезные книги и изучать языки.
Грабовский сочинял стихи на украинском языке, и даже весьма талантливые. Помню, с каким увлечением он взялся переводить байроновского «Шильонского узника» на любимый им украинский язык. Это была для него весьма трудная задача, так как английского языка он не знал. Но он попросил меня перевести ему эту знаменитую поэму на русский язык, по возможности ближе к подлиннику, и, руководствуясь этим дословным русским переводом, Грабовский написал «Шильонского узника» очень хорошими стихами на украинском языке. Ни шум, ни крики, ни толкотня в переполненной камере нисколько не стесняли его. Он уходил весь в себя и работал очень успешно. Спустя много лет Грабовский поселился в Галиции и прославился как талантливый украинский поэт.