Текст книги "Страницы моей жизни"
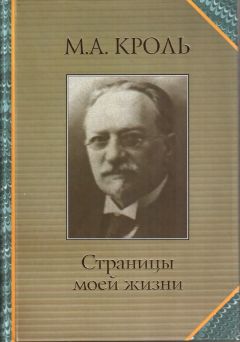
Автор книги: Моисей Кроль
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 57 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
– Дорогой Лев, как я счастлив тебя видеть! – Губы шевелились, но слов не было слышно.
– Дай на тебя хорошенько посмотреть, – сказал Лев в полголоса, но слова его прозвучали гулко под сводами коридора.
Мы потянулись друг к другу, хотели расцеловаться, мы прикладывались губами к окошечку, но решетка была частая, и мы целовали только прутья решетки.
Растроганные и глубоко взволнованные, мы долго смотрели друг на друга, пытливым взглядом стараясь прочесть в глазах и на лице другого, что им было пережито и выстрадано за годы разлуки. Хотелось пожать друг другу руку, но наши руки касались только кончиками пальцев, которые можно было с большим трудом просунуть между прутьями решетки.
Это было счастливое, но вместе с тем мучительное свидание! Нам было радостно, но в то же время невыразимая скорбь щемила сердце. Как это все нелепо и бессмысленно! Юные, жизнерадостные, мы были воодушевлены самыми лучшими стремлениями. Мы хотели строить новую жизнь для всех, жизнь прекрасную, счастливую. А темные силы бросили нас в эти казематы, отравили нашу молодость и надсмеялись над нашими светлыми мечтаниями.
Неужели эти силы победят? Нет! – кричал в нас голос веры. Нет и нет!..
Лев говорил мне что-то очень ласковое. В его прекрасных глазах светилась такая глубокая привязанность, что я забыл о тюрьме и обо всем окружающем.
Но надо было кончить это необыкновенное свидание. Мы опять горячо поцеловали решетку, и Лев удалился.
И сейчас еще меня неотступно занимают вопросы: оказались ли мы рядом в камерах случайно, или жандарм нарочно дал нам возможность встретиться? Забыл ли жандарм запереть дверь, или он сознательно оставил ее отворенной?
Наши беседы через стену повторялись ежедневно, и мы так усовершенствовались в перестукивании, что могли переговариваться целыми часами и на самые разнообразные темы.
Мы очень увлекались в это время английской и итальянской поэзией и часто делились впечатлениями о прочитанном: о поэзии Шелли, Данте и т. д. Штернберг имел терпение перевести на итальянский язык несколько глав из лермонтовского «Демона», и часть перевода он мне прочел, выстукав его через стену.
И с каждым днем, к великой моей радости, самочувствие Льва становилось все лучше и лучше. К нему вернулась его прежняя, бившая ключом жизнерадостность. Его любимым рефреном в это время были слова: «Моисей, мы еще увидим лучшие дни! Наша звезда еще высоко стоит над горизонтом!»
У нас стало совсем весело и шумно, когда в мою камеру перевели товарища Перехватова, а в камеру Льва – Саула Пикера, впоследствии игравшего видную роль в российской социал-демократической партии под псевдонимом Мартынов.
Моя встреча с Перехватовым носила довольно драматический характер и произошла она так.
Однажды я услышал в неурочный час знакомые шаги жандарма. Он остановился у дверей моей камеры и стал ее отпирать.
«Что-то случилось необыкновенное», – подумал я.
В это время жандарм ввел Перехватова. Едва узнав его – так он изменился, – я бросился к нему, чтобы его обнять, но был поражен его видом. Это был раньше крепкий, широкоплечий молодой человек, жизнерадостный, прекрасный рассказчик с раскатистым, заразительным смехом. Казалось, что ему море по колено. А сейчас передо мною – изможденный, исхудалый человек с черными кругами под глазами.
На мое бурное товарищеское приветствие он ответил слабым голосом тяжелобольного человека:
– Здравствуй, Моисей!
Он был так слаб, так беспомощен, что я должен был тотчас же его посадить – он едва держался на ногах. Жандарм нас оставил, и я узнал от Перехватова, что он уже несколько месяцев страдает сильнейшими припадками печени, которые его измучили. Он неделями не поднимался со своей койки.
Расспросив его хорошенько, какое лечение ему прописал врач, и узнав, что он почти не выполнял его предписаний, я стал требовать, чтобы Перехватов строго исполнял все советы доктора. Ему было запрещено лежать: он должен был заниматься хоть слегка гимнастикой, не есть жирного и т. д. Я его заставлял гулять по камере, благо она была весьма просторная.
И совершилось буквально чудо. Через неделю у него прекратились боли, самочувствие его становилось с каждым днем лучше, он окреп, и постепенно к нему возвращалось его прежнее настроение.
Конечно, тут сыграл немалую роль и психологический фактор: общение с близкими товарищами, их нравственная поддержка, их постоянные заботы о нем и т. д.
Пикер сразу внес в нашу жизнь массу оживления. Стук через стену шел непрерывный. Вскоре начались разговоры между узниками двух смежных камер. Говорили громко, нередко даже вели между собою споры в весьма страстных тонах. Дошли наконец до такой дерзости, что позволяли себе петь во все горло. Жандармы на все эти нарушения тюремного режима не обращали ни малейшего внимания.
Тогда мы поняли, что следствие по нашему делу закончено и что поэтому отпала необходимость держать нас в строжайшей изоляции.
И тогда наша молодость вступила в свои права. Шалили, прыгали, проделывали всякие гимнастические фокусы, пели во весь голос. Пикер обладал недурным голосом, хорошим слухом и очень любил петь. Принялся он и Штернберга обучать пению, хотя тот особенной музыкальностью не отличался. И я вспоминаю, с какой настойчивостью и усердием Пикер учил Штернберга петь некоторые арии из «Демона».
И странно и вместе с тем радостно мне было слушать, с каким прилежанием Штернберг выводил арию: «Я то-от, которому внимала…»
Наша довольно привольная тюремная жизнь длилась недель шесть. Кончилась она так же неожиданно, как и началась. В один не прекрасный день жандарм нас всех перевел обратно в политический корпус. Но и в политическом корпусе меня не разъединили с Перехватовым, и Штернберга тоже не отделили от Пикера. Каждый имел свою маленькую камеру, где проводил ночь. Дни же я проводил совместно с Перехватовым, а Штернберг совместно с Пикером.
С первого же дня нашего возвращения в политический корпус мы заметили большую перемену в тюремном режиме. В камерах и коридоре, где прежде царила жуткая тишина, заключенные стали вести себя довольно шумно. Отправляясь на прогулку, узники вели громкий разговор с жандармом – их смех порой был слышен по всему коридору. В самих камерах целыми днями стоял стук от переговоров через стену. В первый же день после нашего переселения в политический корпус мы узнали, что за время, которое мы провели в уголовном корпусе, туда посадили целую группу «новеньких».
Это были совершенно молодые революционеры и среди них одна очень молодая девушка. Их преступления, по-видимому, были не очень тяжелые, т. к. жандармы к ним относились весьма добродушно. Молодежь эта была веселая, бодрая, особенно девушка поражала своей жизнерадостностью. Она нас всех очаровала своим смехом, чистым и звучным, как колокольчик. Даже лица жандармов озарялись хорошей, человеческой улыбкой, когда эта девушка смеялась, а мы, все заключенные, испытывали истинное удовольствие, когда до нас доносился этот чарующий, беззаботный, почти детский смех. Он нам говорил без слов, что есть еще на свете настоящая молодость, что есть светлая радость и нравственная сила, которая смеется над произволом жандармов и над всеми их ухищрениями.
Вскоре я узнал, в чем заключается преступление этой удивительной узницы. Случилось так, что ее перевели из отдаленной камеры и посадили рядом со мною. Конечно, я воспользовался случаем, чтобы узнать, кто она и кто ее товарищи, в чем их обвиняют и т. д. И вот какую историю она мне выстукала через стену.
Среди арестованных был ее приятель по фамилии Кабцан. Это был еще совсем юный революционер, который довольно часто приходил к ней в гости. Он был пропагандистом, а она бедной швеей. Конечно, он с ней беседовал о социальных вопросах, иногда он приносил книжку и читал ей вслух. Кабцан также был бедняком, и девушка в шутку прозвала его «Далес» (игра слов – Кабцан по-еврейски значит бедняк, а Далес – нищета).
Однажды девушка кому-то написала письмо, в котором она просила передать привет «Далесу». Жандармы перехватили это письмо. Вскоре Кабцан был арестован и в одно время с ним была арестована и эта девушка за то, что она поддерживала сношения с нелегальным революционером, имевшим «кличку» Далес. И из-за такого идиотски нелепого обвинения девушку продержали в тюрьме месяцев семь.
Как невысок был умственный уровень этой милой девушки, можно судить по тому, что, как-то перестукиваясь со мною, она меня попросила ей объяснить, что собственно означает слово «республика». И все же она была необыкновенной девушкой! С жандармами она себя держала с таким редким достоинством и с такой гордой независимостью, что мы все ею восхищались.
Вообще мой опыт мне показал, что обыкновенные юные революционеры себя держали с жандармами выше всякой похвалы. Если им часто не доставало опыта, то за то они обладали несокрушимой нравственной силой, которая помогала им давать решительный отпор всем жандармским подвохам и интригам.
Наступил наконец день, когда мы узнали, какую участь нам уготовили жандармы. По особому высочайшему повелению вся наша группа, как члены нашего Исполнительного комитета, так и те, которые находились с ними в близких сношениях, были приговорены к административной ссылке в отдаленные места Сибири – первые на десять лет, а остальные на пять и шесть лет.
Для революционеров-евреев это тогда означало ссылку в отдаленные места Якутской области, в Верхоянск, Средне-Колымск и т. д. Некоторые из нас были приговорены к ссылке на остров Сахалин, куда обыкновенно посылали самых закоренелых уголовных каторжников. Это был Штернберг, которого жандармы считали опаснейшим террористом, и трое интеллигентных рабочих: Карпенко, Суворов и Хмелевцов. Все они были сосланы на десять лет.
Тот факт, что нас не предали суду, объясняется тем, что царское правительство решило не ставить политических процессов, т. к. они слишком популяризуют революционеров и волнуют как русское, так и иностранное общественное мнение. Гораздо удобнее и спокойнее было похоронить заживо политических преступников в суровых тундрах Сибири, на берегу Ледовитого океана, в административном порядке.
Я должен сознаться, что как суров ни был вынесенный нам приговор сам по себе, нам всем он показался сравнительно легким. Мы ожидали каторги. Мы были уверены, что нас замуруют в Шлиссельбургской крепости, а вместо этого перед нами открылась возможность по прибытии на место ссылки зажить сравнительно свободной жизнью, свободно передвигаться в известных границах, свободно работать, встречаться с товарищами и местными жителями. Мы сможем получать книги, газеты, переписываться с родными, товарищами, друзьями, – словом, мы сохраним живую связь с тем широким миром, от которого нас насильно оторвали.
Все это имело для нас огромное значение. Но к моей радости, равно как и к радости Штернберга, примешивалась большая печаль. То обстоятельство, что меня ссылали в отдаленные места Сибири, а его на Сахалин было для нас обоих жестоким ударом. Расстаться на целых десять лет нам было очень тяжело! Эти десять лет нам казались вечностью. Перед ними тускнели все планы, блекли все надежды.
Тюрьма отняла у нас нашу молодость, а что сделает с нами десятилетняя ссылка? Нам было бы гораздо легче, если бы мы оставили на воле могучую партию, героически продолжающую борьбу за освобождение России. У нас была бы надежда, что волшебница-история вдруг перевернет страницу своей таинственной книги, и мы сможем вернуться из ссылки с тем, чтобы снова занять подобающее место в рядах партии.
Но извне к нам доходили самые мрачные вести. Пессимизм и безнадежность овладели русским обществом. Высокая, революционная волна времен героической «Народной воли» сменилась упадочными и узкомещанскими настроениями. Мы уходили в ссылку в мрачный период безвременья, когда черная реакция торжествовала победу не только над революционерами, но и над всей передовой русской общественностью.
Ни один бодрящий огонек не освещал нашего пути в страну изгнания. Надо было искать нравственную силу и бодрость в себе самом, в нашей вере в творческую силу жизни и в светлое будущее России. И эту веру мы в себе нашли и тщательно берегли во все время нашей ссылки.
Глава 7
Мои тюрьмы
26 ноября 1888 года нас повезли на одесский вокзал с тем, чтобы отправить в Москву. Нас было пять человек: Я, Пикер, Гринцер, Левит и Шаргородский. Провожало нас мало народу – близкие родственники и несколько друзей. На душе было тяжело… прощание с родителями, братьями и сестрами нас всех сильно взволновало.
Меня провожала старушка-мать, приехавшая нарочно из Житомира, чтобы повидаться со мною перед долгой разлукой. Я все еще был без голоса и мог только взглядом и нежными поцелуями выразить всю глубину моей любви к ней. Если бы я был в состоянии говорить, я нашел бы для нее слова утешения. Я бы ей объяснил, что иду в ссылку за то, что боролся за счастье людей, и она меня поняла бы, потому что и она по-своему желала всем людям счастья и добра. А вышло так, что она меня утешала и словами ободрения будила во мне мужество и веру в то, что я увижу еще лучшие дни. Глубоко верующая и богобоязненная женщина, она на прощание мне крикнула: «Сын мой, Бог тебя не оставит!», а крупные слезы бежали по ее щекам.
Поезд тронулся, все быстрее и быстрее он движется, а моя мать бежит за ним изо всех сил – ей хочется хоть еще раз взглянуть на меня, она машет рукой и исчезает из моих глаз. Я потрясен этой сценой, и одна мысль сверлит мой мозг: увидимся ли мы когда-нибудь, или это наше последнее свидание?
С московского вокзала нас тотчас же повезли в Бутырки. Это была центральная пересыльная тюрьма, куда с разных концов Европейской России свозили политических преступников, которые были приговорены к ссылке в Сибирь.
Посадили нас в небольшой корпус, известный под названием «Часовой башни», где мы застали уже несколько десятков политических заключенных и среди них моих двух близких товарищей Богораза и Захара Когана.
«Башня» имела три этажа, и в каждом этаже была только одна обширная камера, рассчитанная человек на 10–12. Когда мы прибыли, камеры были уже переполнены. Нас встречают радостно и шумно, но когда товарищи узнают, что я без голоса и абсолютно лишен возможности разговаривать, на их лицах изображается неподдельное огорчение.
Через два-три дня мы, новоприбывшие, уже близко знаем всех обитателей «Часовой башни», т. к. все три камеры открыты днем и ночью. К тому же мы могли пользоваться все время довольно просторным двором, примыкавшим к «Башне».
Наша небольшая кучка пленников, членов некогда грозной партии «Народная воля», состояла на 90 % из совсем молодых людей в возрасте от 20 до 25 лет. Все почти, кроме трех – четырех рабочих, были студентами разных университетов и высших специальных учебных заведений.
Это был очень интересный отбор людей, которые шли на борьбу за свободу и справедливость, готовые принести в жертву этой борьбе все свои силы, и если понадобится, то и жизнь. Многие из них остались в живых только благодаря счастливому случаю. И среди них было несколько оригинальных и высоко одаренных натур, которые представляли собою ценнейший материал и для психологов, и для художников.
И сейчас, как живой, встает передо мною Циммерман, молодой красавец, ростом гигант, сильный и прекрасно сложенный. На редкость одаренный и высокообразованный, он мог бы сделать блестящую научную карьеру. Сын очень богатых родителей, он располагал самыми широкими возможностями вести научные занятия. В высшем Строгановском техническом училище[3]3
Строгановское училище – художественное, а точное название технического училища, где учился Циммерман, – Императорское московское техническое училище (в наст. время – МГТУ им. Баумана).
[Закрыть] он был на прекрасном счету. И этот талантливый, судьбой столь облагодетельствованный молодой человек избрал тернистый путь революционера, путь, полный опасностей и тяжелых испытаний.
Другой товарищ, Даль, был полной противоположностью спокойному, уравновешенному Циммерману. Необычайно остроумный, с пламенным темпераментом, он как бы находился в состоянии непрерывного кипения. Его нельзя было не любить, хотя он не стеснялся часто говорить товарищам горькую правду в лицо. Его смелый, горящий взгляд напоминал взгляд Льва. Чувствовалось, что для этого смелого и мужественного человека не существует никаких препятствий. В нем гармонично сочетались оригинальный ум, огненная страсть и редкая работоспособность. Все мы были убеждены, что Даль совершит нечто необыкновенное или как революционер, или в научной области, или на художественном поприще. Но злая судьба разрушила все наши надежды: она принесла ему преждевременную смерть, когда он отбывал ссылку.
Богораз был в 1885–1886 годах, бесспорно, одним из виднейших и талантливейших руководителей партии. Его феноменальная память, его энциклопедические знания и большие организаторские способности буквально поражали. Поступив в университет на 17-м году, он в 20 лет уже производил впечатление ученого. Его неисчерпаемая энергия вызывала среди товарищей всеобщее удивление. С 1884 года он отдался революционной работе телом и душою. Ему приходилось нередко недоедать, недосыпать, но это нисколько не отражалось на его работе. Он обладал изумительной трудоспособностью: он мог писать самые серьезные и ответственные статьи в вагоне, в подвале, где помещалась тайная типография, стоя в любом, самом неудобном положении. Несмотря на не совсем отчетливое произношение, он умел воспламенять революционную молодежь своими выступлениями. И еще одним большим достоинством обладал Богораз. За ним не замечалось никаких «генеральских» замашек. Он был всегда очень скромен и чрезвычайно прост с товарищами, со всеми товарищами.
Таким я знал Богораза до его ареста. Два года одиночного заключения в Петропавловской крепости значительно изменили его взгляды и его психологию. Его прежний энтузиазм остыл. Разочарование и горечь часто чувствовались в его беседах. Точно его крылья были подрезаны.
В тюрьме он стал писать стихи, которые часто вскрывали его интимнейшие переживания и настроения. На нем наши поражения, гибель «Народной воли» оставили глубочайшие и печальнейшие следы.
Мне хочется здесь дать характеристику еще трех моих товарищей, очень дорогих мне друзей. Я имею в виду уже упомянутых мною Гринцера, Левита и Шаргородского.
Гринцер не имел возможности выявить своих больших достоинств как революционера и человека до своего ареста. Его бросили в тюрьму совсем еще молодым. Но он был несколькими головами выше среднего уровня студентов-революционеров. Он не любил много говорить, но его внутренний мир был очень богат переживаниями. Утонченная натура с большим художественным чутьем, он охотно замыкался в этот свой внутренний мир и, будучи на людях, все же жил какой-то своей особой жизнью. В то же время он обладал необыкновенно острым критическим умом и несокрушимой логикой. За эту его железную и неумолимую логику я его прозвал «Сен-Жюстом» по имени знаменитого монтаньяра Великой французской революции. Беседовать с Гринцером по вопросам литературы или искусства было большим удовольствием, но спорить с ним по вопросам политическим и социальным было очень и очень нелегко. По возвращении своем из ссылки Гринцер стал социал-демократом, но и его социал-демократизм был тоже особенный, свободный от узкого догматизма.
Левит был человеком совершенно иного душевного строя, чем Гринцер. Никто, кроме разве самых близких друзей его, не слыхал, чтобы Левит когда-либо громко с кем-нибудь спорил, вел длинные беседы. Это была мягкая, нежная и в то же время мужественная натура, готовая в любой момент пожертвовать собою во имя справедливости и в защиту человеческого достоинства своего, своих друзей и любого постороннего лица. Его, я сказал бы, святая любовь к людям светилась в его прекрасных, бездонно-глубоких глазах и чувствовалась в каждом его движении. Он почти постоянно молчал, но там, где требовалась кому-нибудь помощь в виде ли моральной поддержки, или в виде работы, хотя бы самой тяжелой, – там Левит был первым. Какая-то женственная мягкость проникала его отношения ко всем окружающим, но там, где дело касалось вопросов морали и справедливости, там он был тверд, как сталь. Его преданность социалистическому идеалу была какая-то особенная. Он служил ему всей душою и всеми помыслами.
Такого же душевного склада, как Левит, был Шаргородский. Необычайно скромный, он излучал из себя какую-то особую, мягкую доброту. Он привязывал к себе людей своей необыкновенной человечностью и готовностью служить им при всех обстоятельствах и как только мог. Он тоже не любил много говорить и очень редко участвовал в товарищеских спорах и дискуссиях, но все мы в нем чувствовали глубокую натуру, человека высокой, я бы сказал, просветленной морали. Меня лично глубоко трогало любовное, чисто братское отношение Шаргородского ко мне, и я ему платил за это отношение горячей любовью.
Было ли это случайностью или счастливым совпадением, но подавляющее число товарищей, которых я застал в Бутырках, были, несомненно, нравственной «элитой». И это впечатление нисколько не ослаблялось тем, что всеми нами было очень много пережито в годы предварительного заключения.
Да, мы все себя чувствовали уставшими и немало подавленными нравственно. И это обнаружилось только в Москве, в Бутырках. Пока мы ожидали решения своей участи, наши силы – физические и моральные – были крайне напряжены. Перед лицом своего врага, готовившего нам жестокий удар, мы должны были быть гордыми и мужественными, ни на одно мгновенье не проявлять слабости и глубоко таить в себе все наши тяжелые переживания. Но после объявления приговора у всех нас наступила сильная реакция.
Тогда только мы стали считать раны, которые нам нанесли годы одиночного заключения, разочарования, интимные огорчения. Конечно, каждый нес свою боль в себе молчаливо, но страдали этой болью все.
Крайне волновали нас и огорчали известия, доходившие до нас с воли о политическом положении в России. Родственники некоторых товарищей имели с ними свидание два раза в неделю, и т. к. контроль во время этих свиданий был крайне слабый, то товарищи имели возможность говорить со своими родными о чем угодно.
И всегда после таких встреч мы получали о воле самые безотрадные вести. Реакция бушевала. Революционное движение замерло. Голос русской общественности был задушен. Молодежь находилась в состоянии полной растерянности; она искала новых путей, но долго их не могла найти.
Крайне примечателен был тот факт, что, будучи все революционерами и политическими борцами, мы тщательно старались не вести бесед на политические темы. Без сговора мы избегали всячески затрагивать эти больные вопросы. Мы не хотели бередить наших наболевших ран.
Один только раз наша тюремная коммуна поставила на обсуждение очень острый политический вопрос. И произошло это при следующих обстоятельствах.
Богораз кому-то сообщил, что, сидя в Петропавловской крепости, он написал обширный очерк, в котором он оценивал историческое и общественное значение русского революционного движения с момента освобождения крестьян до гибели партии «Народная воля». Уже сама тема нас всех заинтересовала. Когда же выяснилось, что этот очерк попал в руки департамента полиции, то мы, естественно, захотели ознакомиться с его содержанием подробнее и попросили Богораза изложить нам основные мысли его исторического обзора, составленного в столь необычной обстановке.
Чтобы выслушать доклад Богораза, собрались все обитатели «Часовой башни». И велико было наше волнение и огорчение, когда мы узнали, что Богораз в своем очерке признал ошибочными все свои прежние взгляды на роль революционного движения в России. Его исторический анализ общественного развития России привел его к заключению, что русский народ еще не созрел для политической свободы и для конституционного строя; что революционная борьба с царизмом была преждевременной, потому что русский народ еще крайне отсталый народ. Все это привело Богораза к убеждению, что в России надо вести исключительно просветительную работу, чтобы подготовить русский народ к свободной жизни.
Никто из нас не сомневался в искренности Богораза, но такой решительный отказ от прежних взглядов и такое осуждение всей той работы, которой он отдал несколько лет своей жизни, произвели на нас очень тяжелое впечатление. Мы хорошо понимали, что Богораз должен был пережить глубокую трагедию, так радикально меняя свое прежнее мировоззрение, и нам было очень больно за него. Но мы были чрезвычайно огорчены, что об этом коренном переломе во взглядах Богораза узнал департамент полиции. Богораз мог под влиянием самых разнообразных причин переоценить все прежние ценности – это было его право, это было делом его совести. Но гордость и человеческое достоинство требовали, чтобы департамент полиции, наш лютый враг, об этом его душевном переломе не узнал, чтобы не дать этому врагу случая злорадствовать и ликовать по поводу того, что один из самых ответственных руководителей «Народной воли» осудил и ее программу, и всю ее деятельность.
Следует отметить, что после сообщения Богораза никто не сделал ни единого замечания, не поставил ему ни одного вопроса. Все молчали. Но это было мучительное молчание. У нас всех было такое чувство, точно мы потеряли что-то очень дорогое.
Все же наши отношения к Богоразу оставались дружескими и товарищескими, хотя каждый из нас чувствовал, что что-то между нами и им оборвалось.
После этого события мы еще старательнее избегали бесед на политические темы. Зато мы с жадностью набрасывались на имевшиеся в нашем распоряжении книги.
Почти каждый из нас имел с собою известное число особенно ценившихся им книг. Очень много книг привез с собой Циммерман. Кроме того, его родные (Циммерман был москвичом) приносили ему каждую неделю все новые и новые книги. Не помню, кому из нас пришла мысль составить из всех имевшихся у нас книг библиотеку. Мысль эта была подхвачена всеми, и в несколько дней у нас образовалась библиотека из многих сотен томов на пяти языках – русском, немецком, французском, английском и итальянском. Среди этих книг были капитальные труды по истории, философии, социологии, политической экономии, истории литературы, а также произведения великих европейских поэтов в оригинале.
Наша «Часовая башня» стала настоящим университетом, в котором многие из нас работали с величайшим удовольствием.
Это не мешало нам проводить целые часы во дворе тюрьмы. Там мы гуляли, бегали, устраивали разные игры. Эти игры нас вернули ко времени нашей ранней юности. В нас снова проснулась придавленная долгим одиночным заключением жизнерадостность. У некоторых из нас во время игр обнаружились такие черты характера и такие способности, о которых никто не подозревал: сыпались очень меткие остроты, проделывались очень ловкие акробатические фокусы, пускались в ход во время определенных игр замысловатые «военные хитрости» – словом, молодость праздновала свой кратковременный, но шумный праздник!
Я припоминаю, как мы встречали новый 1889 год в Бутырках. Родственники, друзья, товарищи прислали нам в тюрьму кучу тортов, пирожных, конфет и всяких деликатесов, чтобы мы отпраздновали встречу Нового года как можно веселее. Особая комиссия выработала подробную программу предстоявшего вечера.
И было в этот вечер на что посмотреть! Декламировали стихи, пели хором, с большим удовольствием мы прослушали нескольких солистов, обладавших довольно хорошими голосами и певших с большим чувством. Затем пошли танцы; несколько гребенок изображали оркестр, и наше «высокопоставленное» «бутырское» общество с наслаждением смотрело фантастический балет, который группа товарищей сочинила и сама же исполнила.
Если бы наши дедушки нас видели в тот вечер, они, наверное, сочли бы нас сумасшедшими; но на самом деле это было неотразимым доказательством того, что мы оживаем после долгого пребывания в одиночестве в мрачных стенах тюрьмы.
Материальная сторона нашей жизни в Бутырках тоже была организована на разумных и справедливых началах.
Спали мы по 10–15 человек в каждой камере. Тут мы ничего не могли изменить. Вначале, после долгого пребывания в одиночном заключении, общение с десятками товарищей было чрезвычайно приятно, но спустя некоторое время более нервные товарищи немало страдали от необходимости вечно находиться среди людей. Постоянные громкие разговоры, споры, непрерывный шум, стоявший в камерах, их раздражали и возбуждали, и лучшими часами для этих нервных товарищей были те, когда мы гуляли во дворе или увлекались там играми. Не раз мы нарочно оставались во дворе целыми часами, чтобы дать нашим нервным товарищам возможность насладиться покоем и тишиной, в которых они так нуждались.
Наше хозяйство велось на коллективных началах. Циммерман был избран старостой. И он организовал наше питание чрезвычайно целесообразно и экономно. Он добился того, что вместо тюремной пищи нам выдавался денежный паек: 6–7 копеек в день на человека.
Некоторые товарищи получали ежемесячно небольшие суммы денег от родных. Эти суммы тоже поступали в общую кассу. Заведовал кассой Циммерман же, и он же ежедневно заказывал тюремному повару обеды для нас.
Так как наши средства были очень скудны, то наши обеды, естественно, были очень и очень скромные, они состояли большей частью из горохового супа и каши. Для слабых и больных товарищей готовили раз в день мясное блюдо, главным образом из конины, так как это был самый дешевый сорт мяса. Утром и вечером пили чай с хлебом. Словом, питались мы весьма скудно, но были сыты и физически чувствовали себя весьма бодро.
Гораздо хуже было наше моральное состояние. Нет сомнения, что свежий воздух, свободный тюремный режим и постоянное общение с товарищами на нас действовали благотворно, но внутренне мы часто переживали весьма тяжелые моменты. Мы были молоды и полны энергии, а между тем каждый из нас чувствовал, что его вырвали с корнями из живой жизни. На долгое время весь смысл нашего существования был потерян. Нас не только оторвали от работы, в которую мы вкладывали всю нашу душу и с которой мы связывали наши лучшие надежды, но сама эта работа – борьба за освобождение русского народа, на известное время перестала существовать.
Наши нервы были крайне напряжены. В течение многих месяцев у нас все шло как будто гладко, потому что более спокойные товарищи старались всемерно поддерживать полное согласие в нашей маленькой коммуне, а также предотвращать всякие трения между нами и тюремным начальством. Но чувствовалось, что при первом же серьезном столкновении с ним наши нервы не выдержат.
И такое столкновение произошло перед нашей отправкой в Сибирь.
Я сейчас даже не могу вспомнить, из-за чего разгорелся конфликт. Мы чего-то требовали, а начальник тюрьмы решительно отказался удовлетворить наши требования. Тогда кто-то предложил «протестовать» против отказа тюремного начальника. Некоторые товарищи поддержали это предложение. Тогда началась дискуссия о том, протестовать или нет, а если протестовать, то в какой форме.









































