Текст книги "Страницы моей жизни"
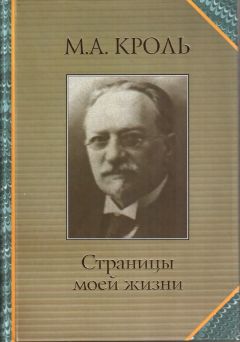
Автор книги: Моисей Кроль
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 21 (всего у книги 57 страниц)
Многим обыкновенным явлениям, весьма важным и серьезным, я не уделял должного внимания, если они не имели непосредственного отношения к той освободительной борьбе, к которой я примкнул. Но по возвращении из Сибири я уже смотрел на повседневную жизнь совсем иными глазами: я старался расценивать обыденные житейские явления с возможной объективностью.
Само собою разумеется, что в мои тридцать три года я не мог не быть иным, чем в восемнадцать лет или даже в двадцать два года. Но не в разнице в возрасте лежала главная причина той перемены, которая во мне произошла. Она явилась результатом многолетней, иной раз довольно-таки мучительной внутренней работы. Но лучше всего научили меня понимать реальную жизнь во всех ее сложных проявлениях мои странствования по бурятским улусам. Наблюдая жизненный уклад бурят, кочевников и охотников, я не только понял, но чувствовал, что, если каждому человеку и каждому человеческому обществу присуще стремление к лучшей жизни, к некоему идеалу, то они – человеческая личность и человеческий коллектив – должны вместе с тем иметь для каждого настоящего дня определенную культурную и моральную базу, которая в них поддерживала бы энергию и мужество в их тяжелой борьбе за существование.
Это значит, что каждое сегодня, при всех его недостатках и теневых сторонах, должно в себе содержать нечто ценное и привлекательное для людей, будь это горячая вера в Бога, любовь к семье и роду, уважение окружающих за приносимые в их интересах тяжелые жертвы – физические или нравственные и т. д. Не будь у людей этих внутренних стимулов, их существование было бы немыслимо.
И точно так же, как я старался проникнуть в смысл бурятской жизни, чтобы понять, из какого источника эти простые люди черпают силу и энергию для своей неустанной борьбы за существование, так я по прибытии в Житомир стал искать у моих братьев-евреев ту святую святых, которая давала им силы переносить всю боль и все муки их нестерпимой жизни под гнетом непристойных и жесточайших преследований. И эти поиски я продолжаю до сих пор. Много моральных сокровищ я разыскал в их душах с тех пор, хотя эти сокровища нередко находились под грудами шлака. Но порой мне кажется, что самые ценные из этих сокровищ до сих пор еще скрыты от меня…
Меня сильно интересовал вопрос, чем живы юные еврейские поколения, выросшие в проклятой черте оседлости за годы моего отсутствия? Что их вдохновляет, на что они надеются, о чем мечтают? Я имел довольно широкое поле для наблюдений – множество племянников и племянниц, их товарищей и подруг. Часть из них учились в старших классах гимназии, другие уже посещали университет. Одни учились с большим прилежанием, другие менее прилежно, но все по горло были заняты личными делами. Политическое положение в России как актуальная проблема их нисколько не интересовало. Я сказал бы, что им было совершенно чуждо то «святое беспокойство», которое составляло характерную особенность прогрессивной учащейся молодежи и интеллигенции 60-х, 70-х и начала 80-х годов.
Окружавшая меня молодежь ко мне относилась прекрасно; она даже слишком меня идеализировала, но мои юношеские искания, мое участие в русском освободительном движении были для них чем-то вроде очень занимательной, даже захватывающей страницей истории. Среди этих молодых людей и девушек были лица с большими способностями и даже с талантами, но их внутренний мир, их аспирации носили ярко выраженный индивидуалистический характер. Так, в Житомире я застал двух братьев моего большого друга Льва Штернберга, о котором я писал довольно подробно в предыдущих главах. Это были очень одаренные молодые люди, только что окончившие медицинский факультет в Киевском университете. Они восхищались и гордились своим старшим братом, отбывавшим еще ссылку на острове Сахалине. Они были даже радикально настроены и глубоко возмущались правительственным террором и жестокими гонениями на евреев, но вступать в борьбу с произволом у них не было потребности. Их юношеская энергия и душевный пафос нашли иной выход. Они были страстными театралами и вообще увлекались искусством – поэзией, музыкой. Будучи еще студентами, они издавали еженедельный журнал, посвященный литературе и искусству. При нормальных условиях такого рода их деятельность была бы явлением естественным и достойным всяких похвал, но при том положении, в котором находилась Россия в 90-х годах прошлого века, увлечение молодежи вопросами искусства было показателем того, в какой степени реакционная политика Александра III парализовала духовную энергию русского общества и какие страшные удары она нанесла революционному движению.
Первые недели после моего возвращения в Житомир я почти все свое время проводил со своими родителями и родственниками. Мне пришлось подолгу им рассказывать, как прошли мои тюремные годы и как я жил в Сибири. Вопросам не было конца.
С своей стороны, и я живо интересовался тем, как прожили мои старики эти долгие годы, как устроились мои сестры, чем занимались мои братья – как им всем жилось. Конечно, перемен было много. Узнал, что материальное положение моих родителей было довольно-таки тяжелое. Отец мой был очень опытным подрядчиком, и все же подряды – преимущественно казенные – его разорили. И если бы не скромные доходы с дома, которым отец в свое время обзавелся, положение его было бы критическим.
Но ни отец, ни мать не жаловались на свою судьбу, хотя они с трудом сводили концы с концами. Меня же они старались окружить всяким возможным в их положении комфортом.
Мои беседы с родителями касались самых разнообразных вопросов и, прислушиваясь к их речам и наблюдая их повседневную жизнь, я стал их ценить и относиться к ним совсем иначе, чем в годы моей юности. Вернее будет сказать, что в юности я был слишком занят самим собою и моими революционными идеями и планами, а потому я мало думал о характере моих родителей и об их душевных качествах. Многого я в них просто не замечал, так как мои мысли меня уносили далеко от семейной обстановки и житейских забот. Не удивительно, что в юности мне казалось, что я и мои родители представляют собою два разных мира, если не враждебных, то во всяком случае мало похожих. Встреча же моя с родителями после возвращения из Сибири раскрыла передо мною настоящим образом их души, и я с большой радостью увидел и почувствовал, что при всей казавшейся большой разнице в наших взглядах на жизнь и убеждениях между нами была глубокая духовная близость. С каждым днем я все больше убеждался, что как мой отец, так и моя мать морально и интеллектуально были головой выше средних евреев и евреек той среды, где они жили.
Мой отец был ученым талмудистом, но «миснагидом», со всеми присущими этой категории евреев особенностями: с критическим подходом к хасидским суевериям, их «фантазиям», их «выдумкам». В молодости у него было большое влечение к поэзии и он даже писал стихи по-древнееврейски. Он также живо интересовался светской наукой и жадно набрасывался на всякую серьезную книгу, по истории ли, естествознанию, литературе. Я помню, как усердно мой отец читал все почти книги, которые я, будучи гимназистом старших классов, брал из публичной библиотеки, – Дарвина, Бокля, Шлоссера, Гервинуса и др. А так как у него была очень хорошая голова и превосходная память, то он с течением времени приобрел такие знания, что отлично разбирался в самых сложных политических и социальных вопросах. Он не любил общества евреев, с которыми он сталкивался по своим житейским делам. Слишком он разнился от них умственно и психологически, а потому он производил впечатление весьма замкнутого человека. Зато, когда он встречался с образованным человеком с большим идейным багажом, он оказывался очень интересным собеседником. Я не помню, чтобы мой отец имел «друзей» в обычном смысле этого слова, кроме одного, с которым он всегда встречался с особенным удовольствием, и этот один был покойный Абрамович, «дедушка еврейской литературы» – он же Менделе Мойхер-Сфорим. Их беседы всегда были захватывающе интересны. Отец мой говорил умно и содержательно, а Абрамович блистал и сверкал всеми красками своего большого таланта и как оратора, и как неподражаемого рассказчика.
Как сильна была у моего отца жажда к знанию, свидетельствует тот факт, что он, несмотря на свой преклонный возраст (когда я вернулся в Житомир, ему было около 75 лет), почти ежедневно посещал публичную библиотеку и проводил там по несколько часов за чтением газет и серьезных книг.
Когда я был студентом, отец был очень недоволен тем, что я «вмешивался» в революционные дела, хотя дома он сам жестоко критиковал царский режим, но он сильно боялся, чтобы моя революционная деятельность (а он чувствовал своим отцовским сердцем, что я к ней причастен) не разбила мою жизнь. Он меня крепко любил и сильно опасался, чтобы со мною не случилось несчастье. Кроме того, он имел слабость возлагать на меня весьма преувеличенные надежды. Ему казалось, что мне суждено свершить в жизни нечто необыкновенное, а потому ему, естественно, хотелось, чтобы я жил спокойно и имел возможность оправдать его надежды. Не удивительно, что мой арест и моя ссылка были для него страшным ударом. Тем неожиданнее и больше была его радость, когда я вернулся из Сибири здоровым, бодрым и к тому еще с репутацией молодого ученого-этнографа. А мое намерение продолжать свою научную работу и вообще завоевать себе «место под солнцем» доставляло ему огромное удовольствие.
Поражала меня в моем отце его способность понимать и чувствовать дух времени. Ему были понятны настроения передовой еврейской молодежи, и многие их стремления и чаяния находили в его сердце сочувственный отклик. Он не кипел гневом против молодых людей, позволявших себе писать в субботу, и не предавал их проклятию за то, что они курили в субботу, что у набожных евреев считалось тяжким грехом. Пробуждение еврейских рабочих к новой жизни его сильно радовало, хотя некоторые их эксцессы его удручали. Особенно высоко он ценил отвагу и доблесть, проявленные еврейской молодежью в страшные дни погромов.
Я никогда не забуду одного разговора, который отец вел со мною спустя несколько лет после моего возвращения из Сибири.
Я приехал из Петербурга в Житомир на несколько дней по делу и кстати повидаться с моими родными. В субботу после обеда отец мне предложил немного прогуляться. Любимым моим местом для прогулок была дорога к польскому кладбищу, и самое кладбище, которое представляло собою прекрасный парк с темными аллеями и чистенькими, таинственными дорожками, терявшимися в густой тени деревьев. Там царила тишина и пахло лесом – и там у меня всегда рождалось особое настроение: хотелось забыть все тревоги и горести повседневной жизни и унестись мыслью в тот неведомый и таинственный мир мечты, по котором тоскует всякая душа, недовольная несовершенным и часто печальным миром.
Кажется, тогдашний разговор моего отца был первым, когда он делился со мною самыми интимными своими переживаниями. Я увидел его в совершенно новом свете. Эта беседа продолжалась долго. Наконец, мы оба, взволнованные, замолкли, и каждый отдался своим мыслям. И так, молчаливые, мы покинули кладбище и отправились домой.
И тут по дороге нам стали попадаться навстречу группы еврейской молодежи – молодые люди, девушки. Вид у них был жизнерадостный, они вели оживленные беседы, часто звенел молодой смех. Было что-то радостное, бодрящее в их громких разговорах и в их юношеском веселье.
– Посмотри, Моисей, – сказал мне отец, – какое новое поколение растет сейчас! Посмотри, какой гордый пламень горит в глазах этой молодежи! До сих пор в глазах каждого еврея стоял невыразимый страх, как у загнанного животного! Еврей всегда имел согбенную спину, точно он сгибался под бременем обрушивающихся на него гонений и несчастий. А теперь посмотри, сколько гордости и смелости в глазах еврейской молодежи – как они выпрямили свою спину, как независимо они себя держат! Эти не дадут уже себя вырезать, как баранов! Да, юная еврейская рабочая масса возрождается, и евреи еще покажут миру, какие подвиги они способны совершить.
Все это отец высказал с особым чувством, и я был поражен тем, до какой степени его мысли совпадали с моими. Таков был мой отец.
Совершенно иной была моя мать. Прежде всего, она была горячей «хсиде», т. е. верила в цадиков и их божественное предназначение, причем эта ее вера носила глубокий мистический характер. Она серьезно верила, что цадики это «святые» люди, которые осенены божьей благодатью и могут своими молитвами выпросить у Бога необыкновенные милости. И со своей точки зрения она имела все основания так думать и верить. Моя мать была вдовой, когда она вышла вторично замуж за моего отца, тоже вдовца. От первого брака у нее были три дочери и два сына, но оба сына умерли, и моя мать была вне себя, что у нее не будет наследника. От брака с моим отцом у нее родилась еще дочь, и мысль, что у нее не будет больше сыновей, буквально терзала ее. Тогда она стала ездить к цадикам и умоляла их, чтобы они выпросили для нее у Бога сына. Посетила она также кобринского цадика, рабби Мойше, и велика была ее радость, когда тот ее благословил и обнадежил, что у нее будет сын. Старый цадик вскоре после этого умер, а мать действительно через некоторое время родила мальчика. Глубоко веря, что это именно «святой» старик выпросил для нее у Бога наследника, она нарекла новорожденного Моисеем. Это был я.
С тех пор ее вера в цадиков еще больше укрепилась и, как только в семье случалась большая неприятность или несчастье она тотчас же отправлялась к какому-нибудь цадику искать у него утешения, совета или просто нравственной поддержки. Пару раз она меня брала с собою, когда я был еще мальчиком лет одиннадцати-двенадцати. И я никогда не забуду, с каким благоговением и священным трепетом она входила в комнату, где ее ждал цадик. В жгучих слезах она изливала перед ним свою душу, подробно ему рассказывала о всех своих горестях. Цадик обыкновенно утешал ее, ободрял и обнадеживал, что все будет хорошо, что Бог ее не оставит своей милостью, – и она уходила успокоенная, просветлевшая. Сказать правду, на меня настроение и переживания матери производили гораздо больше впечатления, чем несомненно хорошие слова цадика.
Я не думаю, чтобы моя мать имела ясное представление о концепции хасидизма, и все же она насквозь была проникнута хасидской мистикой, хасидской психологией, которая кладет на человека свою особую печать и делает его носителем особой морали. В глазах моей матери все евреи были равны, и относилась она одинаково к крупному богачу и к последнему бедняку. Все они были для нее братьями-евреями. Основным свойством моей матери была человечность. Я никогда не слыхал от нее ни одного грубого слова, и она не переносила никакой ругани. Ко всем она обращалась со словами «друг мой!», а женскую прислугу она не называла иначе, как «дочь моя». И эти слова в ее устах звучали так, как будто иначе с людьми нельзя обращаться.
Она соблюдала целый ряд старых, очень хороших традиций. Так, когда она на зиму солила огурцы, или квасила капусту, или «ставила» бураки, она неизменно готовила особые бочки с этими овощами для бедных, и в течение зимы к ней непрерывно приходили бедные женщины и дети с горшками и тарелками, чтобы получить свою порцию огурцов, капусты и бураков. Независимо от этого наши двери всегда были открыты для бедняков. Женщины и мужчины приходили к матери за советами, за помощью в критические моменты или просто, чтобы выплакать свое горе.
У моей матери было сильно развито общественное чувство. Она считала своим долгом по мере своих сил делать добро для окружающих. Она собирала деньги для бедных невест, доставала из-под земли средства, чтобы помочь бедным больным. Она не могла оставаться равнодушной, когда на ее глазах кем-нибудь совершалась несправедливость. Помню, как моя мать при весьма своеобразной обстановке играла не раз роль третейского судьи. Против нашего дома был расположен ряд жалких лавчонок, в которых вели торговлю бедные еврейские женщины. Там продавали селедки, лук, коржики, махорку, спички и т. д. Товару в каждой лавчонке было на считанные гроши и, если лавочница за весь день зарабатывала 20–30 копеек, то это было уже очень хорошо. И вот иногда начиналась между лавочницами ссора из-за покупателя или по другому какому-нибудь поводу. Ссора – это шум, крики, ругань, галдеж собравшейся толпы. И вот, как только до моей матери доносились знакомые ей выкрики ссорящихся, она выбегала на улицу и принималась успокаивать и мирить разъяренных женщин и убеждать взволнованную толпу разойтись. И ее авторитет был настолько велик в глазах лавочниц, что ей почти всегда удавалось водворять мир и порядок. Труднее бывала роль моей матери, когда возникала ссора между лавочницей и покупателем-крестьянином. Крестьяне ее не знали и, вмешиваясь в конфликт, она рисковала быть обруганной, но это ее не останавливало. С большим мужеством и спокойствием она старалась успокоить расходившиеся страсти ссорившихся. И, невзирая на то, что моя мать говорила на особом языке – своеобразной смеси польского, украинского и русского наречия, – она почти постоянно успешно ликвидировала конфликты. Она умела как-то особенно убеждать людей, и не столько силой своей аргументации, сколько тоном, в котором она говорила: даже обозленный крестьянин чувствовал, что ею руководит желание восстановить справедливость.
Моя мать была чрезвычайно активной натурой, и ее энергия всегда искала какого-нибудь дела в интересах окружающих ее людей. Когда она узнавала, что кто-нибудь находится в большой нужде, она тотчас же искала способа помочь, и все, что она делала для других, она делала с каким-то радостным чувством, потому что считала оказываемую другим помощь богоугодным делом.
Я припоминаю такой случай. Отец и мать как-то вечером с горьким чувством говорили о жестоких ограничениях, введенных для евреев в царствование Александра III, и тут же отец сообщил, что он только что вычитал в газетах об одном решении сената, которое, в противоположность антисемитской политике правительства, предоставляет евреям-виноторговцам какие-то облегчения. Мать выслушала это сообщение отца с нескрываемой радостью, а на следующий день я узнал, что мать поднялась в пять часов утра и обошла всех житомирских виноторговцев-евреев с тем, чтобы их оповестить о состоявшемся радостном для них разъяснении сената.
Что меня всегда поражало в моей матери, это ее мужество и смелость. Она никого не боялась. Если надо было обратиться за пожертвованием к какому-нибудь грубому и скупому богачу, к которому никто не хотел идти, чтобы не нарваться на неприятность, то за это дело бралась моя мать, и ей каким-то образом удавалось вырвать у этого человека нужное пожертвование. Еще лучше характеризует мужество моей матери следующий факт.
Я уже упомянул, что мой отец был подрядчиком. Как таковому ему приходилось иметь дело с инженерами, как частными, так и состоявшими на государственной службе. Нередко эти инженеры чинили отцу большие неприятности – это означало, что надо откупиться и «выплачивать им известный процент», а в переводе на простой язык – дать взятку. В такие моменты отец, очень нервный человек, ходил, как потерянный. Надо было идти к «генералу» «объясниться», т. е. вручить ему известную сумму денег, но отец не решался, его трясло от волнения, и он был сам не свой. Тогда он посылал вместо себя мать, и она находила это вполне естественным. Как она объяснялась на своем польско-украинском наречии с генералами, было загадкой и для отца, и для меня, но результаты ее визитов к генералам были всегда чрезвычайно успешными. Она быстро ликвидировала «недоразумение», генерал получал то, что ему следовало, и мать возвращалась домой веселая и довольная удачно выполненной ею миссией. И удивительная вещь! Когда отец, успокоившись, являлся по делу к «генералу», тот неизменно отзывался о матери самым лестным образом.
«Аарон Абрамович, – говорил он ему, – у вас на редкость умная и симпатичная жена!» И это была сущая правда.
Было бы, однако, большой ошибкой хоть на одну минуту подумать, что моя мать принадлежала к той категории женщин, которых называют «бой-баба». У нее не было ни одной черты, свойственной «бой-бабе». Она была очень мягкой женщиной и считала большим грехом кого-либо обидеть или к кому-нибудь относиться сурово. Ее главной особенностью была человечность в благороднейшем смысле этого слова. И благодаря этой ее особенности, ее набожность тоже носила своеобразный характер. Глубоко религиозная, она была очень далека от фанатизма. Ее терпимость меня иногда прямо поражала. К грешникам, нарушавшим божьи заветы, она относилась приблизительно так: «Да, они грешат, и это очень нехорошо! Но если Бог это допускает, то, верно, так нужно. Бог знает, что делает». Выходило, что ответственность за совершаемые людьми грехи прежде всего несет сам Бог. Так набожность и человечность сливались у моей матери воедино и поднимали ее, как моральную личность, высоко над той средой, в которой она жила.
После данных мною характеристик отца и матери станет понятным, почему моя совместная жизнь с моими родителями после моего возвращения из Сибири меня чрезвычайно сблизила с ними.
Прошло несколько месяцев. Я пробовал разобраться в моих материалах и приступил даже к писанию моей монографии о бурятах, но работа не клеилась. Мне недоставало надлежащей обстановки для научной работы.
По намеченному мною плану моя монография должна была охватить все стороны бурятской жизни, – экономическое положение, этнографию, историю, религию и т. д. Как обильны ни были мои материалы, я не мог обойтись без специальной библиотеки и хорошего этнографического музея. Но этого как раз в Житомире не было. Таким образом я оказался перед неразрешимой задачей. Никакой надежды попасть в столицу или хотя бы в университетский город у меня не было, а без нужных книг и музея я не имел никакой возможности выполнить намеченный мною план.
К тому же меня очень удручало тяжелое материальное положение моих родителей, и мысль, что я ничем им не могу помочь, мне не давала покоя. Надо было найти какой-нибудь заработок, но чем я мог заняться в Житомире? Давать уроки или поступить на службу за 40–50 рублей в месяц? Все это не соответствовало тем надеждам, которые я возлагал на свой возврат в Россию.
И чем больше я задумывался над своим положением, тем тяжелее становилось у меня на душе. Я себя стал чувствовать в Житомире, как рыба, выброшенная на сушу. Как на беду, я еще сильно простудился, и у меня обострилась моя старая горловая болезнь. Доктор, лечивший меня, нашел, что если я хочу уберечь свой голос, я должен серьезно полечиться на специальном заграничном курорте, именно в Райхенгале.
Этот добрый совет врача-специалиста вверг меня в большое уныние, потому что поездка в Райхенгаль должна была стоить немалых денег, а их не было ни у меня, ни у моих родителей. А между тем мысль о поездке за границу мне очень пришлась по сердцу, и не только потому, что я там мог бы основательно полечить свою застаревшую горловую болезнь, но также потому, что мне очень хотелось посмотреть на широкий европейский свет, на европейскую жизнь, которой я в ее конкретных формах совершенно не знал.
Так я и носился несколько недель с этой мыслью, хотя она казалась мне чистейшей фантазией. Но моя мать отнеслась к совету врача серьезно и решила достать во что бы то ни стало необходимые для поездки за границу деньги. Она списалась с двумя моими более или менее состоятельными сестрами. Была придумана какая-то финансовая комбинация, и в один прекрасный день я получил 300 рублей на поездку за границу. Осталось выхлопотать заграничный паспорт. Я находился под негласным надзором полиции, и сильно опасались, что мне откажут в выдаче заграничного паспорта, но, к великому своему удивлению и удовольствию, паспорт мне был выдан без всяких затруднений, и в июне 1896 года я выехал из Житомира за границу, имея в виду по пути в Райхенгаль остановиться в Вене.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































