Текст книги "Страницы моей жизни"
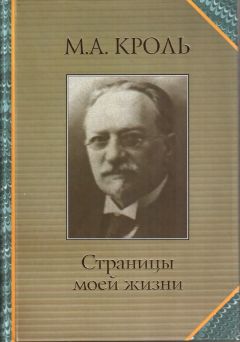
Автор книги: Моисей Кроль
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 57 страниц)
Глава 17
Годы ссылки
Наступило лето 1894 года, и меня снова стало тянуть в бурятские улусы. Само собою разумеется, что я прежде всего вызвал к себе моего славного, преданного Маланыча, чтобы с ним вместе выработать наш план работы. Маланыч немедленно приехал, и первая же моя беседа с ним совершенно изменила ранее мною намеченный маршрут.
Дело в том, что Маланыч привез мне очень теплый привет от Номтоева и настойчивое его приглашение приехать к нему в гости не на день, не на два, а на несколько недель. Номтоев предлагал мне поселиться в его довольно просторном русском доме, состоявшем из нескольких очень чистых и светлых комнат и устроиться в нем, как у себя дома, хотя бы на все лето. Номтоев также просил Маланыча объяснить мне, почему он хотел бы иметь меня своим гостем на продолжительное время. Во-первых, он желал меня иметь своим соседом, чтобы обстоятельнее обсуждать со мною интересовавшие его социальные, научные и нравственные проблемы; во-вторых, он полагал, что для того чтобы действительно узнать бурятскую жизнь, я должен ее наблюдать спокойно и в течение продолжительного времени в ее повседневных проявлениях, во всей ее прозаической простоте – не как почетный, случайно заезжий гость, но как человек, к которому жители данного улуса привыкли, к которому относятся, как к доброму соседу, которого не боятся. А такое отношение ко мне может создаться лишь при условии, если я поселюсь в улусе на долгое время. То же обстоятельство, что я буду его, Номтоева, гостем, может значительно облегчить мою основную задачу – узнать повседневную жизнь бурят такой, какая она есть.
Маланычу не пришлось долго мне доказывать, насколько разумны и убедительны были доводы Номтоева. Я сразу понял всю их неотразимость и с удовольствием принял предложение поселиться на лето у Номтоева.
Но чем и как я заполню свое время в маленьком улусе? Конечно, я буду часто беседовать с Номтоевым; конечно, я заведу знакомство с другими бурятами и постараюсь поближе подойти к ним и узнать их. За всем тем я предвидел, что в моем распоряжении будет много свободного времени. Как я его использую?
И тут мне пришла в голову такая мысль. В течение двух лет я вел во время моих странствований по бурятским стойбищам подробные дневники. Не заняться ли писанием моих «Путевых впечатлений»? Я поделился своей мыслью с Брамсоном.
– Мне хочется описать мои путевые впечатления, – сказал я ему. – Их было у меня очень много, и некоторые из них были чрезвычайно яркие и захватывающе интересные. Но такая работа имеет смысл лишь тогда, когда она выполнена с талантом; боюсь, чтобы мой труд не пропал даром.
– Не бойтесь, – сказал со смехом Брамсон. – Мне даже странно слышать, что вы боитесь. Возьмитесь за работу без колебаний. Когда вы рассказываете о своих странствованиях, я вас всегда слушаю с неослабным интересом. Думаю, что ваши писания тоже будут удачными. Пишите, я уверен, что вы не пожалеете о затраченном времени и труде.
Через пару дней Маланыч увез меня в Ирхерик – так называлась местность, где жил Номтоев. Я поселился в его русском доме – старик со своей семьей уже жил в летней своей юрте. Несколько десятков других юрт, составлявших улус Ирхерик, раскинулись вдоль узкой пади (долины), по которой протекала маленькая, но довольно быстрая горная речка, тоже носившая название Ирхерик. По ночам ее тихий рокот нарушал тишину, царившую в улусе, и приятно было слушать это журчание, в котором было так много таинственного и сказочного.
На другой день после моего приезда в Ирхерик я уже приступил к работе. Мой день проходил так: все утро до полудня я писал свои путевые заметки; днем я много гулял и, взбираясь на горы, выбирал для своих прогулок наиболее уединенные места и обдумывал то, о чем собирался писать на следующий день, а перед вечером, когда буряты освобождались от своих работ, я пытался завязывать знакомство с моими соседями.
Я с ними заводил разговоры на простые, житейские темы и постепенно преодолевал их обычную сдержанность. Много содействовало моему сближению с ирхерикскими бурятами прекрасное ко мне отношение Маланыча и всей его семьи. Они меня встречали с таким трогательным радушием, так сердечно, что и другие буряты стали на меня смотреть, как на благожелательного человека, заслуживающего их доверия.
Когда я входил в юрту Маланыча, все, и взрослые и дети, меня приветствовали, как родного. От времени до времени я приносил им подарки – очень скромные, но принимались они с искренней радостью. Взрослые члены семьи Маланыча объяснялись недурно по-русски, с ребятами же я говорил по-бурятски. Часто я с ними шалил – в молодости я умел пошкольничать, и юрта оглашалась криком, молодым детским смехом. Старикам мои шалости тоже доставляли удовольствие. Словом, я делал все, от меня зависящее, чтобы буряты забыли, что я – «номчи хун» (ученый человек), и чтобы они относились ко мне, как к обыкновенному хорошему знакомому. И это мне в значительной степени удалось.
В летние месяцы буряты празднуют целый ряд праздников. Эти торжества обыкновенно происходят в яркие солнечные дни под открытым небом и почти всегда на возвышенном месте – часто на вершине какой-нибудь горы. Конечно, я не пропускал ни одного из этих зрелищ, происходивших в нашей местности. И мое присутствие на этих праздниках уже никого не удивляло. Ко мне привыкли. Моя дружба с Номтоевым, конечно, тоже сыграла очень большую роль в процессе моего сближения с ирхерикскими бурятами. Если Номтоев относился так хорошо к этому человеку, рассуждали буряты, значит, он наш друг.
К Номтоеву я заглядывал несколько раз в день, и между нами установились настоящие хорошие, дружеские отношения. Наши вечерние беседы часто затягивались чуть ли не до полуночи. Особенно оживленный характер носили эти беседы, когда Номтоев выпивал изрядное количество араки – бурятской молочной водки. Старик тогда становился особенно интересным собеседником. Говорил он ярко и образно и обнаруживал несомненный полемический талант. Естественно, что эти беседы мне доставляли огромное удовольствие, и я храню о них самую теплую память.
Вот в какой обстановке я писал свои «Путевые впечатления». Более благоприятные условия для моей работы трудно было себе представить.
Свыше двух месяцев я прогостил у Номтоева, и за это время мне удалось написать работу чуть ли не в двадцать печатных листов.
Пришло время расстаться с идиллией, которую я, благодаря Номтоеву, пережил в Ирхерике. И я должен признаться, что я покидал этот улус с некоторой грустью. Там я работал с большим увлечением и что-то создал, там мне удалось немного заглянуть в сердца простых, бедных людей, работавших без устали и все же сумевших сохранить по-своему живую душу. И природа также была ко мне весьма благосклонна. Все время в Ирхерике стояла прекрасная погода. Ослепительно сверкало солнце на голубом небе. Воздух был свеж и прозрачен. Окрестные горы, окаймленные лесами, и царившая тишина действовали на меня успокаивающим образом. Что же еще нужно человеку, желающему хоть на короткое время уйти от мук и страданий, которых на свете так много, слишком много?..
Брамсон меня встретил радостно и первым делом спросил меня, закончил ли я свои «Путевые впечатления»?
– Почти, – сказал я ему. – Завтра я вам прочту пару глав, и вы должны будете мне сказать правду, годится ли на что-нибудь моя работа, или я зря потратил время.
На следующий день я держал экзамен перед Брамсоном и его женой, и экзамен этот прошел благополучно: то, что я им прочитал, им понравилось.
– Это настоящее литературное произведение, – сказали они мне. – Вы должны его обработать и послать в Петербург.
Совет был хорош. Но временно я должен был отложить в сторону его выполнение. Мне необходимо было составить отчет о своей исследовательской работе для Восточно-Сибирского отдела Географического общества. Уроки тоже у меня отнимали много времени. Кроме того, мне надо было привести в порядок свои материалы и ответить на массу писем (от товарищей и родных), которые очень долго оставались без ответа. Словом, на время я даже перестал думать о своих «Путевых впечатлениях».
В Петербург я тогда своей рукописи не послал, но спустя три года я сам попал в Петербург и редактор народнического журнала «Новое слово» Кривенко охотно принял мои «Путевые впечатления» для печатания. Они появились в журнале под заголовком «По кочевьям забайкальских бурят». К сожалению, только небольшая часть этих очерков увидала свет. Журнал «Новое слово» вскоре перешел в руки марксистов – Струве, Туган-Барановского и др. Дух и направление его резко изменились, и печатание моих очерков было приостановлено.
А затем жизнь моя потекла по совершенно иному руслу, и я ничего не предпринял, чтобы мои очерки были где-нибудь напечатаны. Они оставались в моем архиве двадцать лет, пока не пришли большевики. Я был вынужден бежать в Харбин тотчас же после колчаковского переворота (я жил тогда в Иркутске), и что стало с моими очерками, а также со всеми научными материалами, на собирание которых я потратил много лет, я не знаю. Может быть, они погибли, а может быть, и лежат где-нибудь и гниют под толстым слоем пыли…
* * *
Зима 1894–1895 годов прошла у меня в напряженной работе. Мне удалось уже написать несколько глав большой монографии о бурятах, которую я задумал.
Много времени ушло у меня на приведение в порядок моих записей и анкет, которые были разбросаны в многочисленных тетрадях. И во время этой работы я убедился, что мне недостает целого ряда книг по первобытной культуре, этнографии и истории, особенно по этнографии и истории монголов и вообще сибирских инородцев. Недоставало мне также хорошего музея.
Все это – и хорошо подобранная литература по этнографии и первобытной культуре, равно как и музей, – имелось в Иркутске при Восточно-Сибирском отделе Географического общества.
Но как я могу попасть в Иркутск? Расстояние между Верхнеудинском и Иркутском было, по сибирским понятиям, совсем небольшое – всего 500 верст, но Иркутск находился за пределами Забайкалья, а Иркутская губерния составляла часть другого генерал-губернаторства. Это значило, что для выезда в Иркутск я должен был иметь разрешение не только генерал-губернатора Дальнего Востока, но также иркутского генерал-губернатора.
По правде сказать, я не слыхал, чтобы генерал-губернаторы разрешали политическим ссыльным такого рода переезды, а потому я считал, что мое желание попасть в Иркутск было чистейшей фантазией, но эта мысль так меня захватила, что просто не давала мне покоя.
В один прекрасный весенний день я решил пойти к исправнику и спросить его, возможно ли вообще добиться разрешения на временный выезд в Иркутск для научных работ в тамошней библиотеке и музее, – это был наилучший способ положить конец моим «бессмысленным мечтаниям».
Исправник, с которым я не раз встречался у моих хороших знакомых-евреев, принял меня чрезвычайно любезно. И велико было мое удивление, когда он на мой вопрос спокойно ответил следующее:
– Губернатор отлично осведомлен о вашей исследовательской работе. Думаю, что и генерал-губернатор знает о ней, и я уверен, что вы без труда получите разрешение выехать на определенный срок в Иркутск. Подайте генерал-губернатору надлежащее прошение и укажите, для какой цели вам необходимо поехать в Иркутск. Генерал-губернатор, разумеется, запросит заключения губернатора и моего, а мы, конечно, вам мешать не станем. Кстати, – заметил исправник, – вы пришли в добрый час. Через несколько дней генерал-губернатор приезжает в Верхнеудинск. Он едет в Петербург и остановится здесь на день-два. Пойдите к нему. Это очень важно, чтобы он видел вас лично.
Я поблагодарил исправника за добрый совет, и через несколько дней я уже был на приеме у генерал-губернатора.
И то, что мне казалось игрой моей фантазии, несбыточным желанием каким-то чудом преодолеть железный барьер строжайшего запрета ссыльным отлучаться с своего места ссылки, – стало действительностью. Генерал-губернатор меня внимательно выслушал и сказал просто:
– Мне известно, что вы занимаетесь изучением бурят, и я понимаю, что вам здесь не хватает книг и что вам необходим музей, поэтому я согласен дать вам разрешение на выезд в Иркутск сроком на шесть месяцев. И сегодня же мною будет сделано распоряжение, что вы можете воспользоваться этим разрешением, когда вы сочтете это для себя удобным.
Не скрою, что такое быстрое и благоприятное разрешение вопроса о моей поездке в Иркутск меня сильно поразило. В первый момент я прямо не верил своим ушам. Но придя к себе домой и подумав хорошенько, я понял, что проявленное ко мне генерал-губернатором благоволение было не случайностью, оно ясно говорило о том, что в отношении правительственных кругов к политическим ссыльным в Сибири произошла определенная перемена. Политические ссыльные, занимавшиеся исследованием Сибири и населяющих ее племен, как бы вновь открыли этот безмерный край как для науки, так и для русского государства.
В то время русское правительство придавало огромное значение вопросу о переселении «избыточного» населения Европейской России в Сибирь. Исследование Сибири с точки зрения ее способности принять новые миллионы переселенцев считалось задачей первостепенной важности. Естественно, что исследовательская работа политических ссыльных приобретала в глазах правительства особую ценность. На них стали смотреть как на весьма полезных людей, к которым надо относиться бережно и которым надо идти всячески навстречу.
Вспомнил я при этом, что огромная работа по статистико-экономическому обследованию четырех сибирских губерний – Тобольской, Томской, Енисейской и Иркутской – была проведена в восьмидесятых годах прошлого столетия в значительной своей части политически «неблагонадежными» статистиками при деятельном сотрудничестве немалого числа политических ссыльных.
Словом, генерал-губернаторский жест объяснялся весьма просто.
Как бы то ни было, но дорога в Иркутск для меня была открыта. Мне предстояло еще объехать два обширных района – Баргузинский и обширную Агинскую степь; в последнем районе жили буряты, сохранившие еще в нетронутом виде кочевой образ жизни. Обследованием этих двух ответвлений бурят должно было закончиться мое знакомство со всеми бурятскими племенами, населяющими Забайкалье.
Но предварительно я решил съездить в Иркутск месяца на два, чтобы поработать там в музее и в библиотеке.
Так я и сделал. Я покинул Верхнеудинск в феврале и вернулся туда обратно в последних числах апреля, так как я решил возобновить свою исследовательскую работу в начале мая.
Но перед самым отъездом в бурятские улусы я имел две встречи, доставившие мне много радости, и мне хочется их описать хотя бы вкратце.
Стоял теплый летний день, и я усердно готовился в дорогу: укладывал свои вещи и тетради, приводил в порядок бумаги, осталось только вызвать из Ирхерика Маланыча с лошадьми. Вдруг является прислуга и сообщает, что меня желает видеть какая-то женщина.
– Попросите ее войти! – сказал я.
Через минуту я увидел перед собой мою хорошую старую знакомую Розу Федоровну Франк-Якубович. Я бросился к ней. Мы расцеловались и, крайне взволнованные, смотрели друг на друга без слов.
Роза Франк! Рой воспоминаний пронесся у меня в голове. Я вспомнил нашу первую встречу в Петербурге в 1880 году на конспиративном собрании. Ее жизнерадостность, ее умная и содержательная речь произвели тогда на меня сильное впечатление. Ее черные глаза, которые «блестели, как звезды» – как описывал их ее будущий муж, поэт Якубович, – обладали чарующей силой. Все ее любили за ее веселый характер, который у нее гармонически сочетался с большой серьезностью. Энергия в ней кипела, и она брала на себя самые опасные и ответственные поручения с веселой улыбкой.
Такой я знал Розу Франк в годы 1880–1882. Мы встречались нечасто, так как работали в разных районах, но чувство взаимной симпатии у нас возникло со дня нашей первой встречи.
С тех пор прошло около тринадцати лет, для нее тринадцать страшных лет, в течение которых она пережила ряд потрясающих трагедий: смертный приговор, вынесенный ее жениху Якубовичу, – приговор, который, к счастью, был заменен 20-летней каторгой. Она пережила все ужасы якутской бойни в 1889 году, когда три ее друга, пламенные революционеры, были повешены, а остальные протестанты были приговорены к вечной или многолетней каторге. Сама Роза Франк, как участница бесчеловечного якутского процесса «о вооруженном сопротивлении властям», получила четыре года каторги, которую она отбыла в Вилюйской тюрьме, той самой, где долгие годы томился великий мученик русского освободительного движения Чернышевский. Страдания и муки, выпавшие на долю Розу Франк, могли бы сломить даже героя. И эта Роза Франк сейчас стояла передо мною и улыбалась своей обычной подкупающей улыбкой.
Время и тяжелые переживания наложили на ее благородное лицо глубокую печаль. На лбу лежали преждевременные морщины, в черных волосах серебрилась седина, но глаза блистали почти по-прежнему глубоким внутренним светом.
– Ну, как же вы живете? – прервала первая Роза Федоровна наше молчание.
В ответ я стал ей рассказывать о себе. Рассказывал долго, чтобы преодолеть охватившее меня волнение. Вскоре я позвал Брамсона, который пережил с Розой Федоровной страшную якутскую драму.
Он прибежал вне себя от радости, и их трогательная встреча меня еще больше взволновала. Не веря своим глазам, перебивая друг друга, не зная, о чем спросить друг друга раньше, мы беседовали несколько часов подряд.
С большим огорчением мы услышали от Розы Федоровны, что она может остаться в Верхнеудинске всего один день. Она спешила к своему мужу Якубовичу, который отбывал каторгу в Акатуйской каторжной тюрьме и который ее ждал с лихорадочным нетерпением.
Я смотрел на Розу Федоровну и поражался ее спокойствию и самообладанию. Как будто за эти тринадцать лет, что мы не виделись, ничего особенного не произошло! О себе она говорила немного, больше расспрашивала нас – но как умно, с каким трогательным вниманием! Одной только вещи она не скрывала: что она горит желанием возможно скорее свидеться с Якубовичем, быть возле него.
Она знала, она чувствовала, что ее приезд в Акатуй вольет в большой талант Якубовича новые силы, что радость встречи с ней поможет ему широко расправить свои поэтические крылья и создать новые, высокой ценности, художественные произведения.
Наша беседа, носившая необычайно сердечный и интимный характер, продолжалась до вечера. И когда мы простились и она уехала, мне показалось, что чудесный день моей юности заглянул на минуту в мое окно и исчез.
Я совсем было уже собрался в путь, но приезд в Верхнеудинск нового товарища опять меня задержал.
Этим товарищем был Михаил Иванович Дрей, только что окончивший свою каторгу и вышедший на поселение.
Дрея я раньше не знал, но я в свое время слышал, что он держал себя на процессе, когда его судили, как настоящий герой и рыцарь.
Как только он вошел в мою комнату и поздоровался со мною, он сразу внушил мне глубочайшую симпатию. Типичное, одухотворенное еврейское лицо (он был сыном известного в Одессе врача), приветливая улыбка, глубокие черные глаза и необыкновенно спокойная манера держать себя. Он говорил совсем тихо, но его мягкий, проникающий в душу голос, буквально ласкал слух.
Три дня я провел с Дреем в беседах, и не было, кажется, ни одного наболевшего вопроса, которого мы бы не затронули. И все это время Дрей неизменно сохранял свое благородное спокойствие. К самым жгучим, проклятым вопросам у него был свой, какой-то особый подход. Например, когда мы, я и Брамсон, расспрашивали его о некоторых трагических происшествиях на каторге, о жестокости каторжной администрации и о драмах, которые разыгрывались среди политических каторжан в связи с начальственным произволом, его ответы и пояснения сводились приблизительно к следующему.
– Конечно, свободный человек, у которого сильно развито чувство собственного достоинства и справедливости, не может оставаться равнодушным, когда деспотизм бушует вокруг него. Он вступает в борьбу с этим деспотизмом, хотя бы он при этом рисковал своей жизнью. Но природа деспотизма такова, что он может держаться только насилием. Произвол поэтому является одним из самых существенных атрибутов тирании, и совершенно естественно, что борьба между защитниками свободы и безжа-лостным деспотизмом неизбежна. Ясно также, что в этом жестоком поединке многие, многие борцы за справедливость и свободу обречены на гибель и на всяческие муки. Это исторический закон. Поэтому все, поднявшие этот крест и вступившие в борьбу с деспотизмом, должны быть готовы ко всему, даже к самому худшему. Но это тяжелая, очень тяжелая жертва, требующая подчас сверхчеловеческих сил. Вот почему таких борцов очень мало. От средних людей такой жертвенности требовать, конечно, нельзя.
Несмотря, однако, на такую довольно пессимистическую философию, Дрей был большим оптимистом и глубоко верил в конечное торжество правды и справедливости. И этот идеализм удивительно гармонировал со всем существом Дрея – с его мягким, приятным голосом, с его ясным взглядом, с его спокойными, благородными жестами.
И еще одна своеобразная черта отличала его: это его тонкий, добродушный юмор, который проникал в его речь и придавал ей особенную мягкость и сердечность.
Словом, пребывание у нас Дрея было и для меня, и для Брамсона настоящим праздником. Больше я Дрея никогда не встречал, но радостная память о нем до сих пор живет в моем сердце.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































