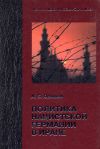Текст книги "Дом на солнечной улице"

Автор книги: Можган Газирад
Жанр: Исторические приключения, Приключения
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Иран, Иран, Иран, всплеск пулеметного огня,
Иран, Иран, Иран, страна крови, смерти и огня,
Завтра настанет весна, в твоих долинах тюльпаны зацветут
На крови твоих мучеников и крови сирот,
Иран, Иран, Иран.
Революционеры играли эту песню вместо азана – призыва к молитве, – который разносился каждый день на закате. Мы бежали мимо ворот мечети, когда какой-то молодой человек закричал мама́н:
– Ханум!
Мама́н замерла на месте. Мы все повернулись к нему. Он был одет в камуфляж с патронташем на поясе, а вокруг шеи была намотана куфия. В одной руке у него была винтовка, а в другой – коробка с пахлавой. Он приблизился к нам, поднес мама́н коробку и сказал:
– Угощайся пахлавой, ханум. Наконец Иран свободен!
В резком свете мечети я увидела, как побелело мамино лицо. Она с запинкой поблагодарила его и дрожащей рукой взяла три кусочка, по одному каждой из нас. Она дала нам с Мар-Мар липкие кусочки и сказала:
– Ешьте! И поблагодарите ака. – Мужчина пристально смотрел на нас, не спуская руки с винтовки. Я проглотила сладкий комок, мысленно желая оказаться подальше от вооруженных мужчин, что окружали нас в окопах.
Мы поспешили мимо семи фонтанов Хафт Хоза и прошли несколько перекрестков. Все были забиты машинами. У некоторых водителей в руках были флаги, которыми они размахивали из окон. Другие гудели в ритм со слоганами, которые выкрикивали мужчины на улицах. Мужчины с оружием стреляли в воздух, празднуя новое начало для страны. Толпа меня пугала. Рука болела от того, что мама́н все время за нее тянула, а на пятках были мозоли от ботинок. Шнурки мама́н завязала так туго, что ноги онемели от боли. Я всем сердцем молилась, чтобы ковер-самолет Ала ад-Дина поднял нас в небо и перенес к дому ака-джуна.
Стояла уже кромешная темень, когда мама́н наконец нашла такси в узком проулке километрах в трех от площади Хафт Хоз.
– Ака, не отвезешь нас, пожалуйста, на площадь Пастер? – спросила мама́н водителя.
– Дорога дальняя, ханум. На улицах пробки, – сказал он.
– Мои девочки устали, ага. Мы уже давно идем. – Она поставила сумку на землю и вцепилась в полуоткрытое окно. – Я заплачу вдвое больше обычной цены.
Он склонил голову набок и посмотрел на нас с Мар-Мар. В тот момент мы, должно быть, выглядели настолько несчастными, что он не стал просить больше и согласился отвезти нас в дом ака-джуна. Это был молодой человек с орлиным взглядом, и он быстро переключал передачи, стоило ему заметить на улице проблемы. Он повез нас задними проулками, не той дорогой, которой обычно возила мама́н. Едва мы свернули на Солнечную улицу, мама́н наклонилась вперед и сказала:
– Хода омрет беде[14]14
Еще одно выражение, означающее пожелание долгих лет жизни, здесь также может значить «благослови тебя бог». – Прим. ред.
[Закрыть], ака. Благослови тебя Бог, что довез нас, ака.
Он посмотрел в зеркало заднего вида и сказал:
– Не за что, ханум. Небезопасно было вам на улице, особенно с детьми.
Я не помню, сколько мама́н заплатила ему, но знаю, что количество его обрадовало. Он довольно кивнул и пожелал нам счастья, здоровья и безопасности.

Я никогда не забуду лицо человека, который предложил нам коробку пахлавы накануне Исламской революции. Он часто преследовал меня во снах, заставляя давиться тем, что я не хотела есть. Его куфия стала символом страха, потому что она означала революционеров, которые носили на улицах оружие и заставляли нас надевать на людях хиджабы, которые никогда прежде не были в Иране обязательны. Оглядываясь назад, я не могу осмыслить то, что мама́н сделала накануне 11 февраля 1979 года. Любая логика утверждает, что она должна была запереть двери и остаться в ту ночь дома. Ее, должно быть, переполняли волнение и тревога, раз она потащила двух испуганных маленьких девочек в бешеный восторг людей, поднимающих на улицах восстание. Когда я стала старше, я спросила мама́н, почему она в ту ночь была так лихорадочна.
– Можи, дом ака-джуна был моим единственным убежищем. Я должна была туда вернуться, – сказала она. – Небезопасно было дальше оставаться в квартире. Те люди, что выстрелили в «Жук», могли просто ворваться к нам с желанием убить отца. Небезопасно было сесть в машину и дать соседям знать, что мы уезжаем, как небезопасно было и выходить. Надо было выбрать что-то одно, и я решила выйти на улицу.

Заря революции
И жар вина разлился по ним, и они потребовали музыкальные инструменты, и привратница принесла им бубен, лютню и персидскую арфу, и календеры встали и настроили инструменты, и один из них взял бубен, другой лютню, а третий арфу, и они начали играть и петь, а девушки закричали так, что поднялся большой шум.
«Рассказ о носильщике и трех девушках»
После страшной ночи Исламской революции мы несколько недель не возвращались домой. Мы оставались у бабушки с дедушкой до Новруза, персидского Нового года. Каждую неделю мама́н умоляла Резу сходить к нам домой и удостовериться, что с квартирой все в порядке. Он откладывал поездку туда раз за разом, пока его не попросил ака-джун. Однажды вечером Реза все-таки заглянул к нам на квартиру и пришел в гостевую спальню, где мы разложили на полу матрасы и готовились ложиться спать. Мы с мамой сидели по разным сторонам комнаты, застилая матрас белой простыней. Реза прислонился к дверному косяку и какое-то время молча наблюдал за нами. Когда мы закончили, он сказал:
– Я слышал, как жильцы говорили о твоем муже на лестнице.
– Что они говорили? – спросила мама́н, наклоняясь, чтобы разгладить складки на простыне.
– Ходят слухи о том, что он сбежал из Ирана. Они говорили, что он работал на САВАК.
Мама́н на мгновенье замерла, а затем выпрямилась.
– Ублюдки! – сказала она. – Как они смеют так говорить, когда мы так о них заботились?
– Ну а кто поверит, что он уехал в Америку на учебу за четыре дня до революции? – сказал Реза. – Любители Америки покидают Иран. Разве нет у них права считать его беглецом? Он ведь был верным сторонником шаха, не так ли?
– Да, конечно. Он много лет служил на границе, пока эти сплетники валялись дома на диванах.
– А почему бы тебе это им не объяснить? Думаешь, они поверят?
Мама́н закончила заправлять последний уголок простыни под матрас и поднялась с пола. Она встала прямо перед Резой и отрезала:
– Не сомневайся, объясню.
Реза пожал плечами и вышел из комнаты, закрыв за собой дверь. Мама́н целую минуту прожигала взглядом дверь после его ухода. Она расчесала волосы пальцами и поскребла кожу головы, как делала всегда, размышляя о серьезных вещах.
– Мама́н, ты не хочешь спать? – спросила я.
Она очнулась от своих мыслей и бросила на нас с Мар-Мар быстрый взгляд. Мы ждали, когда она уложит нас и подоткнет одеяло, как делала каждую ночь.
– Отправляйтесь в постель, – сказала она. Она накрыла нас шерстяным одеялом и поцеловала на ночь. Затем отправилась в угол комнаты, где оставила на столике с вазой свою сумку, достала из бокового кармашка зажигалку и пачку «Уинстона» и выскользнула за дверь, погасив за собой свет.
Едва она ушла, я на цыпочках прокралась к французским окнам и выглянула из-за тюля. Старая смоковница в саду стала ее убежищем с тех пор, как мы покинули квартиру.
Она села на ствол дерева там, где он разделялся надвое. Огонек зажигалки на несколько секунд осветил ее лицо. Она протяжно втянула воздух через сигаретный фильтр и тряхнула зажигалкой, чтобы погасить ее. Кончик сигареты тлел во мраке.
– Она курит? – прошептала Мар-Мар.
– Да.
Мар-Мар спрыгнула с матраса и подошла ко мне. Мы обе рассматривали ее в темноте. Мама́н стеснялась курить в присутствии отца, но с тех пор как он уехал, курила часто и у всех на глазах. Она сгорбилась и зябко обняла себя. Мне хотелось, чтобы она просто вернулась в постель. Вместо этого, качаясь взад-вперед, она выкурила три сигареты подряд, прикуривая одну от мерцающего красного кончика другой. У меня мурашки бежали по коже каждый раз, когда она много курила.

Весна в доме ака-джуна была беспокойным временем. Все должны были что-то делать в преддверии Новруза. Две горничные помогали Азре с генеральной уборкой. Они стирали шторы и одеяла, мыли окна и протирали пыль с мебели. Азра приготовила суманак – сладкий пудинг из побегов пшеницы. Готовить этот десерт было сложно, и я помню, как она часами мешала густое как мед коричневое тесто в большом котле на переносной газовой плитке. Каждый год Реза приносил плитку из подвала и ставил в центре кухни для всей той готовки, которой Азра занималась на Новруз. Нам в кухню ходить было запрещено. Мы могли только стоять в дверях и наблюдать за тем, как она готовит. Волшебный аромат суманака приносил запах весны в каждый уголок и щелочку дома. Тети накрывали традиционный стол Хафт син, вокруг которого мы собирались в момент равноденствия. За несколько недель до Новруза они выращивали семена кресса на поверхности горшков с узкими горлышками. Мне всегда было интересно, как семена прорастали на горшках. В тот год Саба показала мне. Она положила маленький керамический горшок внутрь своего прозрачного нейлонового чулка и рассыпала влажные семена по его поверхности. Полный воды горшок она несколько дней держала в солнечном углу. Семена проклюнулись, корни переплелись через петли чулка, а побеги волшебным образом выросли на горшке.
За день до Новруза Реза принес стопку писем из нашего дома.
– Вам открытка из Америки! – прокричал он, едва зайдя в коридор.
Мама́н вылетела из гостевой спальни и вырвала у него письма. Он снял ботинки и готовился повесить пальто на стойку.
– Полегче, полегче. – Реза в голос засмеялся. – Слава богу, у тебя есть прислужники, ханум-джун.
Мама́н поспешила обратно в гостевую спальню, а мы с Мар-Мар побежали следом, узнать, что же добралось до нас из Америки. Поверх других писем лежал голубой конверт с английскими буквами. Она попыталась пальцами сорвать резинку с пачки, но резинка была толстой, и вручную порвать ее было невозможно. Мама́н сбегала в кухню и принесла маленький ножик. Она разрезала резинку, просунула лезвие ножа под краешек конверта и открыла его. В ее руках расцвела великолепная карточка. Эта карточка была первым свидетельством отцовского выживания в Америке. Под тонкой полупрозрачной пленкой была блестящая картинка прекрасного поля с тюльпанами. Я понятия не имела, где это поле, но решила, что оно там, где живет баба́. Внутрь открытки он вложил собственную фотографию. Он стоял в бело-голубой полосатой рубашке перед домом со скошенной черепичной крышей – такие я видела только в мультиках и кино из Америки. Мама́н в тишине читала письмо папы, и на глазах у нее блестели слезы.
– Мама́н, что баба́ написал в открытке?
Она оставила себе фото и передала мне карточку.
– У него все хорошо. Он желает нам счастливого Новруза.
Я взглянула на папино письмо. Он написал мама́н несколько абзацев, и в его почерке я могла узнать многие слова. Я увидела мамино имя, свое, имя Мар-Мар – все они повторялись в письме.
Мама́н обняла нас с сестрой и сказала:
– Он хочет, чтобы я поцеловала вас за него.
Отца все-таки не захватил в плен ифрит. Открытка и фото доказали мне, что он безопасно добрался до Америки.

Это был лучший Новруз из всех, что у меня были. Быть в доме ака-джуна и проводить время с радостными тетями, которые пели, наряжаясь в яркие новые платья на Новруз, было превыше любых мечтаний шестилетней девочки. Даже для такой привереды, как я, хрустящие маленькие печенья были соблазнительны. В тот год весеннее равноденствие было утром. Мама́н рано нас разбудила, нарядила в новые вельветовые платья: Мар-Мар в кирпично-красное, а меня в темно-синее, расчесала нам волосы и послала наверх.
Гостевая комната на втором этаже оставалась для нас загадкой, потому что ее дверь в резной раме была закрыта весь год. Это была единственная комната в доме с мебелью во французском стиле. Азра хранила свой самый старый фарфор в вишневом буфете со стеклянными дверьми. Пол украшал старинный ковер сарук. Мы собрались вокруг укрытого терме дубового стола в центре комнаты. Саба и Лейла поместили вазы с крессом по четырем углам терме и расставили семь символических предметов Хафт сина в позолоченных блюдцах. На первый день Новруза Азра надела ожерелье с бирюзой поверх белой кружевной блузы. Она подкрасила волосы хной и вплела в них льдисто-голубой шелковый шарфик. С подкрашенными волосами она выглядела намного моложе. Она подогрела сотейник с суманаком и налила его в хрустальную миску, чтобы раздать вскоре после точки равноденствия. Ака-джун приколол белую куфи к редким седым волосам и надел фисташково-зеленый халат – тот, который носил только на Новруз. Он сел за стол и взял Священный Коран из центра Хафт сина. На обложке Корана был крупный золотой ромб, украшенный переплетением крошечных цветов. Под ромбом я могла прочитать слово «Коран», написанное крупным шрифтом – арабский алфавит не сильно отличался от персидского. Ака-джун прочитал несколько аятов на арабском. Я не поняла ни слова, но было что-то мистическое в его приятной позе и успокаивающем тоне, отчего я сидела тихо и спокойно. Мужчина в фисташковом халате читал слова на поэтичном языке, что казался мне волшебным.
Вскоре после равноденствия мы получили свои подарки. С первой страницы Корана ака-джун достал новые хрустящие банкноты и раздал каждому по десять туманов. В то время это были большие деньги. Мы все обнялись и поцеловались – как целуются иранцы, в каждую щеку. С улицы доносилась волынка. Тети танцевали под весенние мелодии. У них была особенная пластинка, которую они проигрывали на граммофоне на Новруз. Они даже попросили мама́н потанцевать с ними. Я редко видела, чтобы мама́н танцевала, но она встала и пустилась с ними в пляс. Все нарядились в цветочные длинные юбки, которые ака-джун привез из хаджа в Мекку. Цвета юбок сливались, когда они кружились, раскидывая весенние бутоны вокруг Хафт сина. Мы с Мар-Мар носились между цветами, пытаясь двигаться в ритме песни. Ака-джун и Азра радостно хлопали. Реза держал Коран в руках и не отрывал глаз от текста, пытаясь не обращать внимания на музыку и танец. Мама́н прислонила папину фотографию к одной из ваз с крессом. Он улыбался нам из Америки, скучая по мама́н, Мар-Мар и мне.

На двенадцатый день Новруза Реза попросил всех одеться после завтрака. Рано утром до рассвета ака-джун уехал в теплицы в Рей – маленький город на юге Тегерана – купить саженцы и цветы для своего сада. Мама́н не хотелось ехать, но, поскольку остальные собрались, согласилась и она. Мы отправились на оливковом «Пежо-504» Резы. Азра села рядом с ним, а остальные втиснулись на заднее сиденье – мы с Мар-Мар на коленках у мамы и Лейлы, а Саба посередине.
Реза повез нас в мечеть Фахрие в районе, куда часто ходил на молитву. Привычку ходить в мечеть в полдень и на закате он завел после революции. Я видела, как ака-джун молится на своем коврике или Азра покрывает голову и тело белой с цветами чадрой, становясь на колени для молитвы, но не видела, чтобы кто-то из моих родных ходил в мечеть. Как и во многих светских семьях Тегерана, бабушка и дедушка молились в одиночестве и не заставляли детей молиться дома или посещать службы.
– Мы будем молиться в мечети? – спросила я Резу, завидев минарет.
Он рассмеялся и посмотрел на меня через зеркало заднего вида.
– Разве похоже, что твои тети собираются на молитву? – сказал он.
– Ты такой юморист, Реза, – сказала Лейла. – Нет, Можи-джан. Он везет нас голосовать.
– Голосовать?
– А что это такое? – спросила Мар-Мар.
– Скоро сама увидишь, – сказала Лейла.
Перед зданием мечети сформировалась длинная очередь. Попасть внутрь стремились люди в совершенно разной одежде – некоторые женщины были в платках или чадре, а другие, как мама́н и тети, были с непокрытыми головами. Хиджаб еще не был обязательным, и женщины еще могли появляться на публике без него. Улица была забита мотоциклами и машинами, и для парковки не осталось свободного места. Реза высадил нас перед воротами в мечеть и поставил машину в одном из проулков. Крепкие платаны, высаженные вдоль дороги, показались мне знакомыми. Это была улица Вали-Аср, та самая, куда мы ходили несколько месяцев назад на демонстрацию. Мягкий бриз покачивал тени на плечах людей, а серьги и очки поблескивали в танце света и тени.
Мы встали в очередь. Уже потеплело, и мама́н разрешила мне не надевать пальто поверх темно-синего вельветового платья. В тот день я была в носках с кружевом и новых туфлях и изо всех сил старалась их не испачкать. Мар-Мар тоже надела то же платье, что и на Новруз. Мы были похожи на близняшек. Люди вокруг казались счастливыми и добрыми, говорили мама́н комплименты о том, какие мы очаровательные, и даже щипали нас за щеки, что я просто ненавидела. Мама́н отвечала им сердечно и объясняла, что у нас год разницы; я привередничала в еде, вот Мар-Мар и росла быстрее. Чтобы пройти в двойные ворота мечети и зайти во двор, нам понадобился час. На стенах во дворе висели плакаты, и они занимали меня во время нашего медленного продвижения. Я узнавала буквы, которые уже выучила, и пыталась прочитать слова. Над главным входом в мечеть висел огромный портрет аятоллы Хомейни.
– Зачем люди сюда пришли? – спросила я Резу.
– Можи, мы пришли сюда голосовать за Исламскую республику, – сказал Реза. Он поднял меня с земли и усадил на локоть. – Видишь, люди заходят внутрь? В зале для молитв стоят ящики для голосования. Мы зайдем внутрь и опустим наши карточки для голосования в эти ящики.
– А что значит «голосование»? – спросила я.
– Это значит, что мы будем выбирать свой вид правительства. Никакой больше монархии. Никакого шаха.
Я вспомнила дни призывов к смерти и день, когда шах Мохаммед Реза покинул Иран, но не поняла, что Реза имел в виду под выбором правительства. Концепт демократии, особенно исламской, был смутной и дурно определенной идеей даже для взрослых иранцев. Я ничего не знала о демократии, хотя меня заворожили детали процесса голосования в тот день в мечети Фахрие. Карточки для голосования были занятными прямоугольниками, разделенными перфорированной линией на две равные разноцветные части. Справа была красная с печатным НЕТ, слева зеленая с рукописным ДА. Все члены моей семьи проголосовали в тот день. Даже мама́н, несмотря на некоторые сомнения, порвала карточку надвое и протолкнула свое ДА в ящик. Она, как и большинство иранцев, надеялась, что новая республика принесет всем справедливость и равенство, и пусть даже исламский стиль республики не был четко определен, многие скептически настроенные граждане проголосовали в ее пользу. Люди злились из-за социального неравенства между богатыми и бедными и роскошной жизни, которую вела семья Пехлеви. Экстравагантное «празднование 2500 лет Персидской империи», которое шах устроил за несколько лет до революции, многих иранцев вывело из себя расточительством иранской монархии. Одним из основных обещаний аятоллы Хомейни было распределение богатства нашей богатой нефтью страны поровну между всеми гражданами.
Выйдя из зала для молитв, мы с Мар-Мар принялись бегать друг за другом вокруг фонтана для омовений во дворе. С приходом весны по нашим венам заструилась свежая кровь, и солнечный свет на коже казался приятным. Мы играли, пытаясь найти карточки с ДА среди тысяч красных карточек, которые голосующие бросали на землю. Своими иссиня-черными туфлями мы взбивали алое море НЕТ, которое укрывало плитку двора. Две буквы «нун» и «ха» затопили двор. Но мы не могли найти ни единой зеленой карточки с «алеф», «ре» или «йа».

На крыльях Руха
И тогда я поднялся и, развязав свой тюрбан, снял его с головы и складывал его, и свивал, пока он не сделался подобен веревке, а потом я повязался им и, обвязав его вокруг пояса, привязал себя к ногам этой птицы и крепко затянул узел, говоря себе: «Может быть, эта птица принесет меня в страны с городами и населением. Это будет лучше, чем сидеть здесь, на этом острове».
«Второе путешествие Синдбада-морехода»
После праздников мама́н вернулась на квартиру за нашими игрушками, книгами, одеждой и школьной формой. Назад в дом ака-джуна она приехала на голубом «Жуке», набитом вещами. Машину она припарковала в саду под шпалерой с виноградом. В обед, когда все прилегли поспать, я прокралась в «Жук» в поисках пулевого отверстия. Я нашла маленькую круглую дырочку в крыше с водительской стороны. Солнечные лучи проникали свозь эту дырочку, освещая путь пули. Я вдруг была шокирована мыслью, что баба́ могли убить, будь он в то время в машине. Пуля пронзила бы его голову. Я почувствовала облегчение от того, что он покинул страну за несколько дней до революции.
После Новруза новое исламское правительство открыло школы. Я носила то же бордовое плиссированное платье с белым вязаным воротничком, которое носила в школу всегда. От девочек все еще не требовали покрывать волосы. К концу весны я выучила алфавит фарси и с некоторым трудом могла читать заголовки газет.
Однажды в мае Лейла открыла французские окна гостиной, выходящие в сад, и села рядом со мной, перечитывая свою книгу по биологии перед экзаменами и следя за тем, как я делаю домашнее задание. Цветы в саду ака-джуна были в полном цвету, и сладкий запах жимолости залетал в комнату на легком ветру. Азра отварила фасоль в стручках и выложила ее с посыпкой из соли и засушенных розовых лепестков в большую фарфоровую вазу с бирюзовым узором. Она начала вязать мне свитер и уже связала половину скрытых ромбовых узоров из фиолетовой пряжи. Мар-Мар тренировалась в вязке обычной английской резинки большими спицами. Мама́н рано утром уехала подавать документы на визу в Соединенные Штаты.
– Тетя Лейла, можно мне пойти вязать с Азрой? Я закончила писать последнюю страницу.
– Нет. Прежде чем пойдешь, ты должна почитать газету. – Она закрыла свой учебник по биологии и протянула руку за первой страницей «Кейхана». Ака-джун разбросал вокруг себя газетные страницы, а сам читал статью в разделе «События дня». Лейла протянула мне газету и велела читать вслух. Главная статья была посвящена проповеди аятоллы Хомейни о женщинах в день рожденья дочери пророка Мухаммада.
– «Вы видели, и мы видели, что делали женщины в этом нехзате. История была свидетелем тому, чем были женщины в этом мире, что женщина из себя представляет». – Я подняла голову от газеты и спросила:
– Что такое «нехзат»?
– Это значит движение, политическое или общественное движение, – сказала она.
Я пожала плечами и продолжила. Я не понимала смысла большей части прочитанных предложений.
– «И женщины, что поднялись на вос… стание, восстание…» – Я замолкла и перечитала предложение. – Тетя, что такое «восстание»?
Она схватила газету и сама дочитала остаток проповеди.
– «И женщины, что поднялись на восстание, были теми же покрытыми женщинами из центральных городских районов, из Кума, а также других исламских городов. Те, кто был воспитан монархическим строем, вовсе не участвовали в тех событиях». – Она покачала головой и сказала: – Ладно. Достаточно на сегодня.
Я проскользнула по ковру и плюхнулась возле Азры и Мар-Мар. Стоило мне взять из корзины с пряжей спицы, как мама́н открыла ворота в сад. Она припарковала «Жука» и быстрым шагом прошла к французским окнам. Алый шарфик сполз с головы, а узел съехал с подбородка на плечо. Черные шпильки, которые она старательно прятала в волосах каждое утро, торчали во все стороны, как иголки у ежа. Она отрывисто со всеми поздоровалась.
– Салам, баба́-джан, – сказал ака-джун. – Ты получила визу?
Мама́н села и бросила сумку в угол.
– Они больше не записывают на выдачу виз.
Ака-джун сложил газету и спросил:
– В каком смысле?
– Посольство практически закрыто. Они не предоставляют консульские услуги ни для кого, кроме американских граждан.
– Что ты теперь будешь делать? – спросила Лейла.
Мама́н пожала плечами и потерла глаза ладонями. Под глазами появились темные круги. Она бросила взгляд на Азру и сказала:
– У нас нет чая, Азра-джан?
Азра опустила полусвязанный свитер на колени и сказала:
– У меня до сих пор в голове не укладывается мысль, что твой муж в таком возрасте поехал учиться в Америку!
– Хватит уже! – сказала она. – Как бы мне хотелось, чтобы все вы перестали его критиковать в этом доме.
– Я принесу чай, – сказала Лейла.
– Она устала, Азра. Зачем ты ее заводишь? – сказал ака-джун после того, как Лейла вышла из комнаты.
– Что она будет делать с детьми? – сказала Азра. – Им нужен отец.
– Он не умер, – сказал ака-джун, – он жив. Мы найдем способ помочь им добраться до Америки. Иншалла.
Мар-Мар подбежала к мама́н и всунула ей вязаную шаль.
– Я сама сделала все стежки. Видишь, какая она длинная.
Мама́н поцеловала Мар-Мар в макушку и взяла свисающую со спиц шаль.
– Очень аккуратно, азизам. Все стежки выглядят одинаково.
Я взяла пряжу Мар-Мар из корзинки и стала сматывать ее, следуя за ведущей к мама́н нитью.
– Как мы доберемся до папы? – спросила я.
Она взяла у меня клубок и сказала:
– Посмотрим. Ты закончила с домашним заданием?
– Да, мама́н.
Лейла вернулась с серебряным подносом и предложила всем чай. Азра сложила спицы обратно в корзину и выбрала для мамы несколько стручков фасоли. Она схватила мисочку с цветочной солью, раскрошила высушенные лепестки и посыпала ими фасоль. Она поставила тарелку перед мамой и сказала:
– Поешь. Ты умираешь от голода.

В ту ночь мама́н не пришла спать в гостевую спальню. Она долго сидела на стволе финикового дерева и курила. Слабый ветерок тревожил тени листьев на ней. Широкие листья скрывали ее лицо от лунного света, и я не могла понять, глотает ли она слезы или неотрывно смотрит на небо. Круглый ободок чаши фонтана посверкивал в лунном свете, и время от времени квакали лягушки, разбивая звенящую тишину ночи. Я услышала шарканье тапок ака-джуна по плитке. Его, как и всех нас, мучила бессонница. Он прошел к финиковому дереву и встал рядом с мамой, опершись рукой о толстый ствол. Мама́н раздавила ногой сигарету и встала. Они какое-то время говорили шепотом, а затем ака-джун обнял мама́н и погладил по волосам. Мне хотелось выбежать в сад и втиснуться между ними. Как я желала спрятать лицо в длинной маминой юбке и избавиться от давящей грусти, что была на сердце от сегодняшних плохих новостей. Но я боялась разрушить их мгновение и знала – мама́н будет ругаться, что я слежу за ней вместо того, чтобы лечь пораньше в преддверии учебного дня.

На следующее утро за завтраком ака-джун заявил, что вывезет нас из страны.
– Дело с посольством нешуточное, но мы можем поехать за визой в Германию, в Англию, даже в Грецию, – сказал он, прихлебывая чай.
– Хода омрет беде, – сказала Азра, хваля ака-джуна за его решение.
– Куда вы поедете? – с удивлением спросила Лейла.
– В Германию. Сперва поедем в Германию, – сказала мама́н.
– Когда вы это успели решить? – спросила Лейла.
– Мы говорили вчера ночью. Политическая ситуация становится сложнее день ото дня, – сказал ака-джун.
– Я вчера читала в газете комментарии Хомейни, – сказала Лейла. – Он говорил об исламском учении для женщин. Я боюсь, нам больше не будет разрешено поступать в университеты. – Она поставила свой чайный стакан на блюдце и сложила руки на коленях. – Я думала на днях пойти с тобой в посольство, – сказала она мама́н, – но теперь… можно мне поехать с вами?
Мама́н какое-то время смотрела на нее с открытым ртом, не до конца понимая, что Лейла имеет в виду.
– Ты хочешь поехать в Америку?
– Да. Я хочу учиться в Америке, – сказала Лейла.
Все смолкли. Только Мар-Мар стучала ложкой о стакан, размешивая чай.
– Мой последний экзамен через два дня. Я получу аттестат через пару недель, – сказала Лейла.
Ака-джун глубоко вздохнул. Он разгладил кустистые брови пальцами и бросил взгляд на дрожащие на утреннем ветру смоковницы. Настало время собирать спелые смоквы.
– И давно ты это надумала?
– Я мечтаю об этом какое-то время… но теперь, когда ситуация каждый день становится все хуже… я хочу поступить в университет. Я хочу учиться на врача.
– Секте танхайи, дохтарам[15]15
Быть одной тяжело, дочь (перс.). – Прим. ред.
[Закрыть].
– Я знаю, что это трудно. – Она замолчала.
Азра закрыла лицо руками и покачала головой. Ей не нравилось, что баба́ уехал в Америку и оставил нас дома, разделив семью. Каково ей было принять решение Лейлы уехать? Саба с печальным выражением на лице смотрела на Лейлу. Я видела, что на глаза у нее набегают слезы. Они выросли вместе и всю свою жизнь делили одну спальню.
– Почему нет? – сказала мама́н. – Она может поехать с нами, и мы вместе подадимся на визу. Ака-джун, так я покупаю пять билетов до Франкфурта?

Мама́н сложила наши вещи в шесть огромных чемоданов, а бо́льшую часть мебели переместила в подвал. Нашу квартиру она сдала паре с младенцем, а ака-джуна попросила взять на себя старых и новых жильцов. Каждый день мы становились все ближе к баба́, и ожидание встречи вызывало в моем сердце восторг. В те дни ничто не могло меня обрадовать больше, чем путешествие с ака-джуном. Мой любимый ака-джун, серебристый голос «Тысяча и одной ночи», загадочный путешественник по морю и песку, собирался взять нас в страну чудес. Он читал нам «Синдбада-морехода», и я гадала, специально ли он выбрал эту сказку. Он рисовал нам яркие картины Руха, гигантской птицы с длинным сверкающим хвостом, что жила на загадочной вершине и скармливала чудовищную добычу своим птенцам. Он рассказывал нам, как Синдбад привязал себя к ноге Руха и пролетел над Долиной Тысячи Змей. Я представляла, как мы летим над опасными долинами, чтобы добраться к баба́. Ака-джун был спасителем, который развернет тюрбан и привяжет своих девочек к гигантской птице. Спасет ли он нас от падения в открытые пасти голодных змей? Конечно, спасет. Сафар больше не был рискованным шагом, если в путешествии с нами был ака-джун.

В самолете я представляла, что сижу на крыльях Руха между Мар-Мар и ака-джуном – мама́н с Лейлой позади – и парю в облаках. Стюардессы выглядели очаровательно в темно-синих костюмах и шляпках-таблетках, с оранжевыми шарфиками на шеях и маленькими платочками в передних карманах пиджаков. Они рассыпали любезные улыбки по рядам, а нам принесли паззл с Эйрбасом А300 «Люфтганзы», раскраску и коробку с шестью скорбными карандашиками, которую я хранила потом долгие годы. Ака-джуна никогда не интересовало, что я ем. Мама́н была занята беседой с Лейлой в ряду позади нас и не следила за мной во время обеда. Я съела пасту в сливочном соусе, а жесткую курицу спрятала в смятую салфетку. Мы глядели в овальное окно самолета и дивились восхитительными видами Земли, каких никогда не видели прежде. Высокие цепи Эльбурса сливались с отмелями Черного моря, а когда появились квадратные заплатки зеленой земли, ака-джун сообщил:
– Мы над Европой. Ждать недолго.

Мюнхен – первый иностранный город, который я помню четко. Мы прибыли туда ночным поездом из Франкфурта, и бо́льшая часть путешествия скрыта туманом. Я была измотана путешествием и разницей во времени и почти спала. Ака-джун много раз бывал в Германии и с Мюнхеном был знаком лучше, чем с любым другим городом в этой стране. Он немного говорил по-немецки и потому с уверенностью и непринужденностью мог ездить на метро. Мы приехали с утра и пешком отправились в отель неподалеку от Мариенплац – старой городской площади Мюнхена. Мама́н позвонила в американское консульство, едва мы заселились, и ей назначили встречу на следующий день.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!