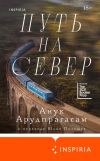Текст книги "Город, которым мы стали"

Автор книги: Н. Джемисин
Жанр: Зарубежное фэнтези, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Глава четвертая
Бронка и туалетная кабинка злого рока
Бронка толчком распахивает дверь в туалет.
– Эй. Бекки[11]11
Бекки (Becky) – в США стереотипный образ и уничижительное прозвище, означающее молодых белых женщин. (Прим. перев.)
[Закрыть].
Высокая азиатка, поправляющая макияж у зеркала, вздыхает и не поворачивается.
– Ты ведь знаешь, я терпеть не могу, когда ты так меня называешь.
– Сейчас я буду называть тебя так, как захочу. – Бронка подходит, становится рядом с ней у зеркала и замечает, как азиатка, чуть напрягшись, втягивает голову в плечи. – Расслабься, я не собираюсь устраивать тебе такую взбучку. Разберемся как культурные люди. Я словами скажу тебе свалить к чертовой матери отсюда, а затем ты найдешь какую-нибудь чертову мать, к которой свалишь хотя бы на пару дней. В ближайшее время я не хочу видеть здесь твою тупую рожу.
Азиатка поворачивается, кривя лицом.
– Если хочешь вести себя как культурный человек, то хотя бы называй меня по имени. Ицзин.
– Ой, не знаю, мне казалось, мы с тобой так здорово фамильярничаем. К моему имени, например, прилагается докторская степень, но ты, обращаясь ко мне, всегда об этом забываешь. – Бронка подходит к азиатке в упор и тычет пальцем ей в нос. – Ты подала заявку на грант, которую почти полностью написала я, и не указала меня в авторах. Как ты вообще смеешь…
– Да, подала, – перебивает ее Ицзин, хотя в их Центре это запрещено правилами. Женщин перебивают только мрази-сексисты. Впрочем, Ицзин и сама та еще мразь, так что Бронка ничуть не удивлена. Ицзин скрещивает руки на груди. – Я долго думала, включать тебя в заявку или нет, Бронка, но факты таковы, что у тебя совсем нет новых работ и…
Бронка, не веря своим ушам, поворачивается и взмахом руки указывает на стену туалета. На ней изображено абстрактное буйство цветов и форм, местами фотореалистичных, а местами воздушных, почти акварельных. В нижнем углу виднеется стилизованная под граффити витиеватая подпись, гласящая: «ЗеБронка».
Ицзин морщится.
– Я говорю о том, что ты нигде не выставляешься, Бронка. Галереям…
– У меня прямо сейчас выставка проходит, дура ты безмозглая, всего в двух милях отсюда!
– Да, и в этом-то все дело! – Ицзин, разозлившись, оставляет все попытки сохранить хладнокровие и повышает голос. Это хорошо. Бронка изредка видела, как Ицзин собачится с другими сотрудницами и своими многочисленными бойфрендами; она громче Бронки, и от ее визга разве что не бьется стекло. А Бронка уважает искреннюю ярость, как бы уродливо она ни проявлялась. – Ты стала слишком местечковой. Комиссия может дать нам хороший грант, но, чтобы его получить, нам нужен больший охват. Вроде галереи на Манхэттене.
Бронка чертыхается, отворачивается и начинает расхаживать по туалету.
– Манхэттенским галереям не нужно настоящее искусство. Им нужны безобидные поделки от приезжих девочек, приехавших в Нью-Йорк и получивших высшее художественное образование лишь для того, чтобы позлить родителей. – На этих словах она смотрит на Ицзин и расплывается в свирепой ухмылке.
– Можешь сколько угодно пытаться перевести стрелки на меня, Бронка, но чертовой сути вопроса это не меняет. – Ицзин качает головой. В жесте заметна толика искреннего сожаления – ровно столько, чтобы привести Бронку в бешенство. – Твои работы недостаточно актуальны. Ты не разговариваешь с людьми из других боро. И хотя ты так любишь хвалиться своей докторской степенью, преподаешь ты в местном общественном колледже! Меня это не волнует – все-таки работа в Центре не оставляет много времени для академических устремлений… но ты ведь знаешь, что комиссии по грантам думают совсем по-другому.
Бронка несколько секунд потрясенно таращится на нее. Она даже не до конца осознает, насколько эти слова ранили ее. «Не актуальны?» Но по старой привычке она дает сдачи:
– А ты что, спишь с председателем комиссии, что ли?
– Ох, Бронка, а не пойти бы тебе на… – Затем, чтобы хорошенько обматерить Бронку, Ицзин переходит на китайский, а ее голос поднимается на октаву и набирает несколько децибел.
Ну и ладно. Бронка выпрямляется. Она не так хорошо знает язык манси[12]12
Манси – почти исчезнувший североамериканский индейский язык. (Прим. перев.)
[Закрыть], чтобы достойно ответить на поток неанглийских ругательств Ицзин, однако за годы она успела понабраться наиболее крепких словечек.
– Matantoowiineeng uch kpaam! Kalumpiil! Поцелуй меня в мою «неактуальную» ленапскую задницу!
Дверь в туалет с грохотом распахивается, и Бронка с Ицзин вместе вздрагивают. Это Джесс, художественный руководитель их экспериментальной театральной постановки, и она сердито сверлит их обеих взглядом.
– Вы понимаете, что мы все вас слышим? Весь квартал вас слышит.
Ицзин качает головой, в последний раз укоризненно смотрит на Бронку, затем обходит Джесс и уходит. Бронка прислоняется к одной из раковин, складывает руки на груди и стискивает зубы. Джесс смотрит Ицзин вслед, затем качает головой и, видя, какую позу приняла Бронка, скептически приподнимает бровь.
– Только не говори, что надулась, как дитя малое. Тебе же лет шестьдесят, если не больше.
– Дуются, когда капризничают и злятся попусту. Я же испытываю праведный гнев.
– Ну да, ну да. – Джесс качает головой. – Вот уж не думала, что услышу, как ты будешь стыдить кого-то за их личную жизнь.
Бронка вздрагивает. Вот черт, она ведь так и сделала? Гнев – праведный, капризный гнев – заставил ее вернуться к старым дурным привычкам. Например, нападать, когда она понимает, что не права.
– У этой сучки нет вкуса. Я бы заметила, начни она трахаться с мужиками, которые хоть чего-то да стоят.
Джесс закатывает глаза.
– Теперь она еще и «сучка». И ты всех мужчин считаешь никчемными.
– Мой сын еще ничего получился. – Шутка давняя, и Бронка чувствует, как начинает остывать. Наверное, этого Джесс и добивается. – Я просто… Ну что за япона мать, Джесс.
Джесс качает головой:
– Никто не может отрицать того, сколько ты сделала для этого места, Бронка. Даже Ицзин. Но давай ты сначала успокоишься, а? И тогда мы позже поговорим о гранте. А сейчас у меня назревает проблема, и мне нужно, чтобы ты была в форме.
Именно это Бронке и нужно было услышать. Она тут же сосредотачивается и разрывает порочный круг мрачных мыслей («Неактуальные – это потому что я старая? Неужели так и закончится моя карьера, не ярким взрывом, а жалким всхлипом? Я всего лишь хотела дать миру что-то значимое»…) Она выпрямляется и щелчком сшибает воображаемую пылинку со своей джинсовой куртки, чтобы взять себя в руки.
– Ладно, ладно. Что случилось?
– Новая команда художников хочет устроить выставку. За ними стоит какой-то большой меценат, так что Рауль вьется вокруг них, как муха над дерьмом. Но работы у них… – Она морщится.
– Ну и что? Мы ведь уже выставляли отстойные работы. – Каждой галерее, которая финансируется из бюджета, изредка приходится так поступать.
– На этот раз все хуже. – Видя, как напряжена Джесс, Бронка наконец сосредотачивается на насущной проблеме. Она никогда прежде не видела Джесс по-настоящему рассерженной, но сейчас под маской профессионализма кипит настоящий гнев, с возмущением и отвращением в придачу. – Так что возьми себя в руки и выходи. – Джесс захлопывает дверь туалета и уходит.
Бронка вздыхает и мельком смотрится в зеркало – скорее по привычке, а не потому, что ей важно, как она выглядит. Ну хорошо, выглядит она спокойной. Джесс захочет, чтобы она поскорее помирилась с Ицзин, но это и понятно – в Центре не так много сотрудников, так что разойтись по углам не получится. И все же…
– «Все шире – круг за кругом – ходит сокол»[13]13
У. Б. Йейтс «Второе пришествие», перевод Григория Кружкова. (Прим. перев.)
[Закрыть], – произносит негромкий женский голос. Бронка замирает, запоздало сообразив, что какая-то несчастная весь их спор провела в кабинке. Однако голос смеется. Смех звонкий, радостный, приятный и почти заразительный. На мгновение Бронка тоже начинает улыбаться, но затем спрашивает себя: а что, собственно, такого смешного?
Всего в женском туалете шесть кабинок, и три дальние сейчас закрыты. Бронка не наклоняется и не смотрит, где виднеются ноги, потому что не хочет узнать, что ее и Ицзин подслушивали трое.
– Прошу прощения за крики, – говорит Бронка закрытым кабинкам. – Мы увлеклись.
– Ничего, бывает, – отвечает голос, низкий и глубокий, несмотря на столь пронзительный смех. Он очень похож на голос Лорен Бэколл. – Ицзин просто молода. Она не желает выказывать должного уважения старшим. А старших нужно уважать.
– Ну да. – Бронка внезапно понимает, что не знает, кому принадлежит голос. – Простите, мы с вами раньше встречались?
– Столь часто «не слышит, как его сокольник кличет». – Снова всплеск смеха. И никакого ответа.
Бронка хмурится. Наверное, это одна из нью-йоркских подружек Ицзин, вечно мнящих о себе невесть что.
– Да ну? Я тоже могу цитировать Йейтса. «Все рушится, основа расшаталась, мир захлестнули волны беззаконья»…
– «Кровавый ширится прилив»! – Голос уже откровенно злорадствует. – «И топит невинности священные обряды»… Ах, моя любимая строка. Как точно она указывает, насколько поверхностны и искусственны многие человеческие замашки, не правда ли? Ведь невинность – это всего лишь священная пустышка. Так странно, что вы, люди, так сильно ее превозносите. В каком еще мире так славят совершенное невежество о том, как на самом деле устроена жизнь? – Негромкий смешок, похожий на вздох. – Я никогда не пойму, как ваш вид сумел так сильно развиться.
Бронке… совсем не нравится этот разговор. Секунду ей казалось, что незнакомка заигрывает с ней. Теперь же она совершенно уверена, что женщина в кабинке вовсе не заигрывает, а скорее сыплет завуалированными угрозами.
«Нельзя ссориться с посетителями», – напоминает она себе и, глядя в зеркало, поправляет волосы, чтобы успокоиться. Муженек как-то пошучивал, что она сексуальнее Васкес из «Чужих»…
Из закрытой кабинки доносится очередной смешок, и Бронка внезапно холодеет – за несколько секунд, прошедших с тех пор, как голос замолк, она успела совершенно забыть, что здесь кто-то есть. Она смотрит на три последние кабинки, отражающиеся в зеркале. С этого угла ей видно, что ни в одной на полу нет ног.
– Какая невинность, – задумчиво произносит женщина в кабинке.
Так, ну все.
– Что ж, ладно, было приятно обменяться стишками, – говорит Бронка, щелкая краном и споласкивая руки, чтобы сделать вид, будто она задержалась не просто так. – Надеюсь, эм-м, что у вас все хорошо. – Все-таки эта женщина уже минут двадцать сидит на горшке.
От одной из закрытых дверей доносится щелчок, настолько громкий, что Бронка вздрагивает и, не высушив руки, резко оборачивается. Дверь медленно распахивается. Внутри никого нет.
– О, у меня все просто замечательно, – говорит Женщина в Кабинке. – Видишь ли, у меня получилось найти точку опоры.
– На унитазе, что ли? – Даже сейчас Бронка не может прикусить свой острый язык. Когда-нибудь она умрет с язвительным комментарием на устах.
Раздается хихиканье, словно в кабинке засела двенадцатилетняя девочка.
– Во многих местах. На Статен-Айленде. В этом городе. В вашем столь невинном мире. Может быть, даже на тебе, милое создание.
Бронка нарочно вытягивает из диспенсера бумажное полотенце, чтобы женщина не думала, что она просто застыла в растерянности. Даже если так и есть.
– Дорогуша, я скоро стану бабушкой. Или тебе нравятся дамочки в возрасте?
Вторая кабинка тоже открывается с щелчком, медленным, скрежещущим. На этот раз Бронка не вздрагивает, но по ее телу пробегают мурашки, когда дверь ме-е-едленно открывается. И все это время скрипит, как в ужастике. Бронка трясущимися руками сминает бумажное полотенце. Она остро чувствует все: слабый запах плесени в воздухе, вонь чьего-то переваренного обеда, шершавую поверхность дешевого коричневого бумажного полотенца, которые ей приходится закупать, потому что ни на что получше денег не хватает. Тишину в туалете, вытяжка которого снова вышла из строя. Духоту и зловоние.
Дверь в последнюю кабинку, еще не открывшуюся.
– Мне нравятся все, – произносит Женщина в Кабинке. Бронка почти что слышит, как она ухмыляется. – Целый город, полный столь милых людей, что я так бы и съела их целиком, вместе с улицами, канализацией и метро. Кроме того, ты вовсе не стара! Чуть старше новорожденной. Впрочем, немного опыта ты уже приобрела, так что обаянием тебя, скорее всего, не взять. Чего я никогда не могла понять о тебе подобных, так именно этого. Вы все сотканы из одного ничто, но ваши ничто функционируют совершенно по-разному. К каждому нужно находить свой подход! Как же это досадно. – Женщина в Кабинке недовольно вздыхает. – За этим стоит следить. Когда я раздосадована, то говорю слишком много правды.
Бронка замечает, что не видит в щели между дверью и кабинкой ни намека на Женщину. Большинство дверей в туалетах никогда не закрывают людей полностью, а так, создают лишь видимость уединенности. В щели все равно многое можно рассмотреть. (Бронка почти уверена, что проектировали их мужчины.) В последней же кабинке в щели не видно ровным счетом ничего. Лишь белую пустоту. Словно кто-то прикрыл щель бумагой для принтера… но зачем? И ног под дверью тоже нет, теперь Бронка видит это совершенно точно.
– В правде нет ничего плохого, – говорит Бронка. Пора бросить этой дамочке вызов, чтобы Бронка перестала чувствовать, как волосы на ее коже встают дыбом. – Я всегда считала, что лучше не валять дурочку, а прямо говорить то, что думаешь.
– Именно! – почти что с гордостью говорит женщина. – Ведь нет необходимости все усложнять. Если бы я могла изменить вашу природу, сделать вас не столь вредоносными, я бы так и поступила! Мне нравятся тебе подобные. Но вы все такие негибкие и опасно невинные. И никто из вас, скорее всего, не стал бы добровольно участвовать в геноциде – хотя это я, пожалуй, могу понять. Я бы на вашем месте тоже не стала бы.
Она замолкает, чтобы вздохнуть, а Бронка тем временем думает: «Погоди-ка, что она только что сказала?»
– Но разве ты не хотела бы остаться в живых, когда придет конец? Ты, и твой драгоценный сын, и твой будущий внук. Я даже готова согласиться на твоих бывших – естественно, тех, кто все еще жив. Разве тебе не хочется, чтобы это твое маленькое… гм, заведение осталось стоять, когда все вокруг сровняется с землей? – Бронка кипит от негодования и растерянности, но Женщина в Кабинке не то не понимает этого, не то ей все равно, и она продолжает говорить: – Я могу это устроить. Помочь и тебе, и себе.
Бронка всегда плохо реагировала на угрозы. Даже сейчас, когда эта ситуация и эта невидимая женщина пугают ее до мурашек. Но ей не в первой. Она знает – слабость показывать нельзя.
– Знаешь, что: выйди-ка сюда и скажи это мне в лицо, – резко рявкает она.
Повисает удивленная пауза. Затем Женщина в Кабинке смеется. Не хихикает, как раньше, а заходится глубоким, раскатистым смехом, хотя из-за хрипотцы он становится не очень приятным. Смеется она оскорбительно долго и заканчивает словами:
– О, ну надо же! Нет, милая. День был очень долгий, а поддерживать эту форму так неудобно. Мне пришлось, так сказать, отойти, попудрить носик и отдохнуть. Так что поверь мне… тебе не понравится, если я открою эту дверь прямо сейчас.
– Вылезай давай, – резко отвечает Бронка. – Или так и собираешься сидеть в этой сраной кабинке и угрожать мне и моим родным? – Бронка хорохорится. На самом деле ее мутит от страха, хотя обычно страх лишь злит ее еще больше, накручивает для драки. Однако сейчас интуиция изо всех сил кричит ей, что она не готова. Почему-то. Бронка не может просто так спустить этой девке угрозы… но и не хочет увидеть, что же находится внутри той кабинки.
– А это и не угроза, – говорит Женщина. И внезапно ее голос меняется. Становится менее приятным. Менее хриплым и более… глухим. Как будто она уже не в кабинке, а где-то далеко. Будто кабинка – это не тесный параллелепипед, а огромный зал со сводами, и ее голос отражается от множества поверхностей, которых не может быть там, где стоит унитаз и коробка с тампонами. А еще она – эта женщина, засевшая в туалетной кабинке в Южном Бронксе, – больше не улыбается, о нет. Бронка слышит, как она процеживает слова через стиснутые зубы:
– Можешь считать это советом. Да, советом, полезным советом, компенсирующим твою бессмысленную невинность. В ближайшие дни ты многое ув-в-в-в-видишь и поймешь. – Растянутое слово прозвучало как на записи. Словно битый аудиофайл заел или система вдруг не смогла его корректно воспроизвести. – Много нового, мно-о-о-о-ого уникального! Когд-д-д-да это случится, вспомни наш разговор, хорошо? Вспомни, чт-т-то я предложила тебе возможность выжить, а ты отвергла ее. Я протянула тебе руку, а ты ее об-б-божгла. И когда твой внук будет лежать, вырванный из утробы м-м-матери, брошенный на землю и размазанный по ней, как упавшие с мусоровоза отбросы…
Бронка сжимает кулаки.
– Ну все, тебе пи…
И в тот же миг по комнате как будто проходит волна.
Бронка вздрагивает и оглядывается, на миг отвлекшись от Женщины в Кабинке. Волна показалась ей похожей на подземный толчок или на встряску от проехавшей внизу подземки, но рядом ничто не гремит, да и ближайшая линия метро проходит в трех кварталах от них. Бронка не сдвинулась с места, однако ей так не кажется. Что-то изменилось внутри нее.
Женщина в Кабинке все еще продолжает бормотать, и с каждым словом ее голос становится громче и быстрее. Однако почему-то Женщина уходит на второй план. Происходит растяжение… щелчок, словно фрагмент мозаики встает на место. Становление. И вмиг Бронка становится другой. Она становится больше самой себя.
Внезапно в памяти Бронки всплывает день из ее детства. Она стянула – позаимствовала – у папы строительные ботинки со стальными носами, чтобы, отправившись по делам, пройти через кирпичный завод. Территория завода была завалена обломками здания, снесенного так давно, что развалины уже заросли цветами и вьюном; но Бронка решила срезать путь, чтобы избежать встречи с соседскими парнями, чьи недвусмысленные оклики и приставания недавно превратились в настоящую охоту. Один из мужчин (а они все были взрослыми мужчинами, в то время как ей было всего одиннадцать; так что ее низкое мнение о сильной половине человечества сложилось заслуженно), который подрабатывал ночным сторожем, был особенно настойчив. Ходили слухи, что он вылетел из рядов полиции из-за неподобающего поведения с несовершеннолетней свидетельницей. А еще ходили слухи, что ему нравились латиноамериканки, и никому в Бронксе не хватало мозгов понять, что Бронка к ним не относилась.
Так что, когда этот человек шагнул из полуразрушенного проема старого здания, когда она увидела на его губах ухмылку и то, как его рука демонстративно лежит на рукояти пистолета, Бронка ощутила себя точно так же, как и сейчас, пятьдесят с хвостиком лет спустя, в туалете выставочной галереи. Она почувствовала себя больше. Превыше страха или гнева. Она подошла к проему, конечно же. Затем обеими руками уперлась в косяк и пнула гада в колено. Он провел три месяца в больнице, утверждая, что оступился на кирпичной крошке, и больше никогда с ней не связывался. Шесть лет спустя, купив себе собственную пару ботинок со стальными носами, Бронка проделала то же самое с полицейским информатором в Стоунволле – и тогда она снова ощутила себя частью чего-то большого.
Огромного. Столь же огромного, как весь этот чертов боро.
Женщина в Кабинке обрывает свою безумную тираду на полуслове. Затем она раздраженно выдает:
– О нет. И ты туда же.
– Закрой рот, кишки простудишь, – говорит Бронка. Этому ее научила Венеца. Затем Бронка устремляется вперед, сжимая кулаки и улыбаясь. Неважно, что ей страшно, – она всегда любила хороший махач, хотя сейчас на дворе двадцать первый век и никто больше не называет это «махачем». И неважно, что она стала старой и «уважаемой», – она по-прежнему Бронка с кирпичных заводов, Бронка – гроза Стоунволла, Бронка, противостоявшая вооруженной полиции вместе со своими братьями и сестрами из Движения американских индейцев. Ведь это своего рода танец, понимаете? Каждая битва – это танец. Она всегда хорошо танцевала на индейских пау-вау[14]14
Пау-вау – собрание североамериканских индейцев, сопровождающееся танцами, песнями, общением и обсуждением важных для племен вопросов. (Прим. перев.)
[Закрыть], ну а в наши дни? В душе она всегда обута в ботинки со стальными носками.
Пока она приближается к кабинке, защелка сдвигается, и дверь начинает открываться. Белизна виднеется только по ее краям – не свет, а именно белизна, – и на кратчайший миг Бронка видит в приоткрывшейся щели то, что находится внутри. Белый пол, а чуть дальше – неясная геометрическая фигура, которая, похоже… неравномерно пульсирует? Однако больше всего Бронку озадачивает то, что фигура находится по меньшей мере в двадцати футах от нее. Как будто кабинка – это не кабинка, а туннель, прорытый прямо в водопроводных трубах и обшивке и каким-то образом приводящий в иное измерение, ведь Бронка уверена, что нигде – ни в Центре искусств Бронкса, ни за его пределами – нет подобного места.
Но не успевает дверь открыться больше чем на несколько дюймов и не успевает Бронка поподробнее разглядеть то, что ее разум отказывается осознавать, как она упирается рукой в ближайшую покрытую кафелем стенку, поднимает ногу и ударяет по чертовой двери, толкая ее обратно.
Секунду Бронка ощущает сопротивление. Слышит странный, негромкий звук, словно она пнула подушку, а за ним – рокот, будто предвещающий молнию.
Затем дверь кабинки смазывается и отлетает от нее. Кажется, будто она сорвалась с петель и провалилась в прямоугольный туннель ровно такого же размера. Или же будто дверь отразилась в двух стоящих друг напротив друга зеркалах, и теперь дверей дюжина, миллион, невообразимое число, стремящееся к бесконечности. Из-за нее доносится удивленный, яростный вопль – это кричит Женщина, ее голос переходит в столь пронзительный визг, что оконные стекла покрываются сеткой трещин, а светильники начинают раскачиваться и мерцать…
Тишина. Дверь кабинки, обычная и снова на своих петлях, влетает от удара Бронки внутрь, врезается в коробку с тампонами и отскакивает обратно. Кабинка пуста. В ней нет ни туннеля, ни иного измерения, а есть лишь вполне обыкновенная стена за вполне обыкновенным унитазом. Светильники перестают раскачиваться и мерцать. В воздухе не остается даже эха того визга.
А Бронка так и стоит на месте, чуть пошатываясь, пока в ее разум в один миг сваливаются знания, собранные примерно за сто тысяч лет.
Это естественно. Ведь Бронка старше всех остальных, и город решил, что она, как никто, готова нести груз знаний. Когда посвящение заканчивается, Бронка приваливается спиной к ближайшей раковине и переводит дух. Она чуть дрожит, потому что теперь понимает, насколько только что была близка к гибели.
И все же. Пусть теперь она знает, что нужно сделать – аватары должны найти друг друга, защитить и научиться сражаться вместе, как бы безумно это ни звучало, – Бронка все же упрямо стискивает зубы. Она не хочет этим заниматься. Ей это не нужно. У нее есть обязанности. Внук, которого нужно воспитывать и баловать! Проклятье, да она всю свою жизнь сражалась. Ей придется работать еще пять лишних лет, чтобы получить хотя бы что-то похожее на приличную пенсию, и она измотана. Разве у нее остались силы на войну с существом из иного измерения?
Нет. Не остались.
– Другим боро придется позаботиться о себе самим, – бормочет Бронка. Наконец она заставляет себя выпрямиться и идет к выходу из туалета. Бронксу никогда никто не помогал; пусть теперь сами почувствуют, каково это.
Когда она уходит, в пустой кабинке туалета воцаряются тишина и спокойствие.
И только за унитазом остается маленький бугорок, почти полностью сожженный неожиданным, яростным отпором Бронки… Короткий, едва заметный, но все же живой белый отросток. Он судорожно дергается, а затем успокаивается и начинает ждать своего часа.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?