Текст книги "Полунощница"
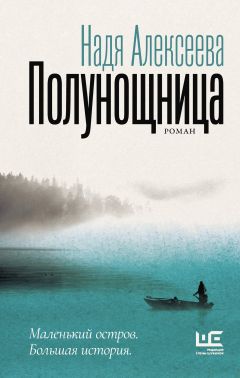
Автор книги: Надежда Алексеева
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Глава 4
Психушка. Между собой инвалиды так и называли Никольский филиал. Откашливаясь, поправлялись только в разговорах с чужими. Молоко в психушку Семен доставлял раз в три дня. Две дюжие бабы с фермы грузили бидоны в лодку. Пока отталкивался от берега, заводился, бидоны молчали. Дорогой принимались жаловаться Семену на жизнь: «Блин, звяк, блин, блин». Семен порой думал, что обитатели психушки выходили именно на звон бидонов, не на моторный гул. Они слышали, что хотели. Выучились видеть то, что их не тревожило, – разъяснял Цапля психиатрию.
Семен уже и сам не помнил, сколько лет навещал контуженного Летчика. Выбирал момент, когда в палате никого не было: не суетились санитарки, натирая пол или выплескивая в одно ведро из всех суден, не заходил Цапля с осмотром, – и начинал говорить. Глаза контуженного были широко раскрыты, голова повернута в сторону, как будто он обдумывал сказанное Семеном. И слова эти были так важны, что контуженный моргнуть боялся. Сплетничали, что он летчик. Герой Союза. Чудом выжил. Война оставила ему только голову на плечах. Руки, ноги оторвало взрывом, слух «раскололся до гула», как говорил Цапля, речь пропала, лицо застыло и не старело. Все так и звали его – Летчик.
Летчик лежал в отдельной палате, спеленутый, как всегда. «Ноги и руки еще отрастут», – думал Семен, когда ходил в первый класс. Мать, тогда служившая медсестрой в психушке, отгоняла его от Летчика подальше. Запрещала трогать острые булавки, державшие одеяло. А какая в них нужда? Летчик никогда не шевелился.
– Ты не боись, ладно? – На вид Летчик был короткий, маленький, Семен всегда говорил ему «ты». – Новых всего четверо. Смирные, на излечение прибыли еще на той неделе. Мать говорит, самый старший из них, наверное, бывший профессор. – Семен перешел на фальцет, передразнивая мать: – О-очень обходительный Илья Ильич.
Прыснул.
– Только вот спирт у нее куда-то исчез, непонятно, чем теперь делать обработку? Ну, это, самоваров протирать.
Тут Семен смутился: Летчик тоже самовар. Для всех, кроме него. Но Летчик ничего, слушал.
– Обходительный этот с ногами, с руками. Полинявший какой-то весь, взгляд и тот выцвел, возле него крутится молодой, бойкий такой, подтянутый. Глаза у него странные: не пойму даже, чего не так с ним. Эндокардит в медкарте записан. Теперь, видишь, и невоевавших присылают.
Семен задумался, представляя себе этого молодого.
– Ну и двое еще, те точно инвалиды, вопросов нет: один тощий, культю без кисти на перевязи носит, другой здоровенный, хромой, с клюшкой ходит, на санитарок глазеет. Цапля собирал их в кабинете у себя насчет спирта, так они в несознанку. Линялый сказал, мол, мы люди новые, чужого не трогаем.
Летчик смотрел в стену.
– Думаешь, откуда я знаю? Да под окно прикатил чурку из магаза, на которой мясо рубят, стою, все слышно. А че, ни хрена себе, вдруг они?..
Летчик понимал: дело деликатное. Даже глаза на секунду прикрыл.
– Ну ничего, я же тебе говорил, что стрелять учусь?
Семену показалось, что у Летчика блеснул в глазах интерес.
– Васька обещал ТТ свой дать поносить, когда пристреляюсь. Так что ты не боись. Некогда ездить на стрельбы, конечно, и колени потом все в земле, видишь, во? – Семен приподнял халат. – Не ототрешь. Сейчас вот туда, потом к Ёлке.
Семен глянул на часы и дернулся, как будто оса его ужалила. Затараторил:
– Вчера с медсестрами танцевали. Здоровенный этот попросил дядю Гену вдарить вальс… Думаешь, и Ёлка придет к ним на танцы? Ну та, которая заходила к тебе с ребятами. Я вот думаю, может, это…
– Может, хватит уже? – Санитарка с бутылью мутного бульона в руках стояла в двери. – Дай человеку поболеть спокойно. Иди молоко свое выгрузи, не то контингент потопит его вместе с лодкой. Ну?
Стерва. Семен вышел из палаты. Хлопнул дверью. Он всегда так делал: саданет и тут же припадет к щелке. Все надеялся, вдруг Летчик привстанет. Нет. Только санитарка потянулась к контуженному с полной ложкой. Семен громко затопал. Замелькали двери, плакаты с «новейшими» протезами, которые так и не завезли на остров. Скрипел разбитый кафель под кедами. В ноздрях нашатырь и моча. Ряд подслеповатых ламп – стены не то белые, не то желтые. Чешуйки коричневой краски на двери, холодная ручка.
Семен вышел на воздух.
На крыльце церкви грелись старики. Сумасшествие у них привычка. Им уже ни к чему обретать нормальность. Каждый день талдычат друг другу о своих деревнях. В отличие от баек «боевых» инвалидов с Центрального, войны в их рассказах не было. Только пашни, запруды, плесы, грибы, колдобины, грабли, сенокос, крынки молока, доярки. Войну их сознание вытеснило, так, кажется, это называется.
Стены церкви были в привычных царапинах: «Витек + Люся», «Иван», «Тамбов». Дверь болталась на одной петле – никто не собирался ее ремонтировать, пока не придумали идеологии для этого места. Для собраний в церкви было слишком гулкое эхо, хорошо ложилась только песня. Прям под потолок взлетала – санитарки тут спевки устраивали раньше. Теперь им мешал сквозняк. Старели, наверное. Или надоело.
У мостков, соединяющих психушку с Центральным, привычная компания. Полосатые пижамы, щербатые улыбки, дурацкие позы. Вроде бы каждый из тех, кому «показана рыбалка», занят делом. Только ни один ничего не выловит. Пузатый, выворотив в церкви высокий крест, бил им по воде, как ломом прорубь освобождал. Отложив крест в сторону, запахивал пижаму, приплясывал, снова брался за дело.
Другой, совсем старик, сидел на камне и плакал. Голова косо перебинтована. Еще живой, значит: неделю назад крыса ночью цапнула старика за ухо, отхватила мочку. На Центральном люди шумели больше, стучали костылями, резались в домино, курили. Танцы опять же. У Васьки был пистолет, из которого он застрелил одну хвостатую. Крысы побаивались. А тут – наводили свои порядки. Зимой Семен видел, как, подпрыгнув, крыса выхватила бутерброд у одного юродивого изо рта. Тот не заметил даже, куснул воздух и до вечера всем жаловался на зубную боль. Цапле про крыс доложили. СЭС не приехала – сообщение с островом закрылось до апреля, но и котов заводить на территории психушки запретили. Хотя один с Центрального сюда все же наведывался: желтый, без клыка.
Звяк, бум, звяк, бум – осыпал бидоны картечью из камешков третий из «контингента». Три удочки, банка с розовыми, перепачканными землей червями и садок лежали с ним рядом. Про снасти рыбаки, видать, забыли. Семен поднял руки – камнеметчик атаку прекратил, мотнул ему головой: мол, идти сдаваться к церкви, куда Семен и отволок оба бидона. Поставил в теньке.
Запрыгнул в лодку, оттолкнулся от берега, закачалась на воде пленка из березового листа с рогатками хвои. Чайки с болтовней закружили над ним. Обернулся – макушка церкви была зеленая, в тон соснам. «Рыбаки» глядели вслед, махали. Как дети. Таких прибить двух рук не надо – от этой мысли Семену сделалось жутко, отбросил весла, задергал мотор, умоляя его завестись, – отец с Васькой, небось, ждут его на причале.
* * *
Весь июль Подосёнов наблюдал, как Васька бился, пытаясь научить Семена стрелять из винтовки. Оружие для стрельб решили держать в старой финской казарме, наискосок от пещеры, чтобы схрон не светить, тропку зря не протаптывать. Васька даже печурку здесь сложил, хоть и лето, а пригодится.
Вот и сейчас неподалеку от казармы Семен лежал на животе, задранная штанина обнажила рассеченную колючкой голень над кедом, модную обувь матери из Петрозаводска привезли. Причитал Семен над этой царапиной, как девка, говорил, ржавчина крови опасна. Васька предложил рану «полевым способом» обработать – то есть обоссать – этот не понял шутки, все в свою больничку торопился, будто они тут в погремушки бренькают.
Васька обращался с оружием ловко, по-спортивному. Зону для учебы оборудовал: сосну повалил, прикатил – из положения лежа попадать. На стволе напротив мишень ножиком вырезал. Полон рюкзак посуды с кухни уволок – тарелки металлические, на лету не разбить. Да Семен и не попадал. Пальнув, он бежал искать тарелку, приносил Ваське, они в две головы склонялись над ней, если там было что рассматривать. Когда тарелка оставалась без вмятины, Семен нес ее, спрятав за спину, чтобы отец, наблюдавший за учениями, не увидел промаха. Семена ему было жалко, как тех интеллигентов, попавших на войну из-за письменных столов, не поднимавших тяжелее ручки ничего. Они иногда выживали, но каждый день психовали так, что и жить не стоило.
– Снайперская вещь, финны еще до войны сделали с пониманием. Командир, из наших старых трехлинеек, да?
Васька прямо потел, пытаясь вовлечь его, Подосёнова, в эти ученья. Деревянные приклады винтовок, полированные, совершенные, Семен хватал как попало. Подосёнову хотелось отобрать у него оружие, обоймы, даже эти оловянные плошки кухонные – и выгнать в шею с Оборонного. Когда Васька ему прицел винтовки показывал, Семен заявил: что это за старье без линз?
– И чему тебя в школе только учат? – не выдержал Подосёнов.
– Погоди, погоди, командир. Бывают со стекляшками, Семен Петрович, бывают. Но ты прикинь: стекляшка запотеет, тогда всё, кранты, в войну нету времени тряпочкой протирать. Да ты только сверкнешь линзой этой, башку и снесет. Не, только открытый прицел. С таким хоть на медведя. Дай-ка сюда.
Васька лег на живот, лязгнув протезом. Вжался в мох, словно его тело утюгом прогладили. Передний прицел винтовки, прикрытый ушками, на собаку похож. Подосёнов сообразил, чего Васька их «шпицами» зовет, двадцать восьмые эти. Винтовка длинная, метр с гаком, с Васькой слилась в одну конструкцию. Когда на острове еще была конюшня, вот так же конюх в седле держался. Будто их с жеребцом отлили из одного металла, теперь уж не разделишь.
Стрелял Васька на задержке дыхания или вдыхал-выдыхал незаметно – его спина под гимнастеркой, потерявшей всякий цвет, жилкой не повела. Васька сделал только один выстрел, в траве за поваленным стволом пискнуло. Он начал подниматься, неловко, на четвереньках. Снова стал неуклюжим.
– Еще, – сказал Семен.
– Тебе фокусы тут, что ли, показывают? – Подосёнов подкатил вплотную.
Кудри Семена прилипли ко лбу. Лоб у сына был его, подосёновский, рыжина в волосах – как у Антонины.
– Когда пострижешься нормально? В Ленинград свой с патлами поедешь?
– Погоди, командир. – Васька протянул Семену винтовку. – Попробуй по бревну вдарь.
Семен попытался все повторить в точности. Лег наизготовку, щелкнул предохранителем, указательный палец на спусковом крючке разместил, посередке второй фаланги. Приклад уперся в плечо. Бдыщ! Пуля полетела мимо, сбила шишку чуть ли не с макушки сосны. Семен тер плечо.
Расстреляли обойму.
– Ладно, сходи за ушастым, и поедем, – Васька отряхивал колени. – Ничего, я тебя обучу, будешь у меня из всех орудий палить. От те крест.
– За кем сходить?
– Заяц, беляк, в черничнике за бревном. Мать суп сварит.
Подосёнов, встряхиваясь на своей тележке, покатил в сторону лодки.
– Отец не хотел мне схрон показывать? – услышал за спиной.
Васька перевел разговор на «станок»: велел Семену отжиматься по утрам, чтобы держать оружие без всяких подставок.
Пока лодка, треща мотором, раскидывала Ладогу на два белых уса, Подосёнов смотрел на Ваську и Семена. Те сидели перед ним спина к спине. Может, Семен прав. Не хотелось Подосёнову пускать в новый, богатый схрон чужого. Не семья у него, а рогатка. Жена с сыном не такие, как он. Из настоящих людей у него только Васька да Зоя, сестра в Москве. Они в полный рост видели Подосёнова, они знали, какой он. В том, что сестра жива, он не сомневался. Когда ушел на фронт, ей пятнадцать было. Как Семену теперь, столько же он и с Антониной живет. Зою он потом еще раз видел – так и осталась лопоухой, самой красивой.
Про жену, Антонину, Подосёнов с первого взгляда решил – гордая. Явилась за Тамарой-радисткой, сестрой, ухаживать, да уж больно городская, не справится с нашим климатом, сплетничали инвалиды. В кои-то веки им было о чем посудачить. Под климатом они подразумевали весь уклад: недостаток продовольствия, сырость, дикую природу, напирающую на бывшие кельи со всех сторон, отсутствие здоровых мужиков, медикаментов, культуры – «ни света, ни танцев». Танцы Подосёнов им тогда организовал, подрядил Генку с гармошкой. Танцплощадку сколотил прямо над причалом, подле бюста Ленина: вождя установили еще при рыбзаводе, вместо старого святого.
Летом ночи белые, так и танцевали, без света все видно. Даже лучше. Васька усмехался: решил, что Подосёнов Антонину завоевывает этими танцульками. Теперь Подосёнову и самому было смешно: безногий, он в Ленинграде сапоги и велики чинил, теперь вот танцульки устраивает. «Твои руки двух пар ног стоят», – утешал Васька. Подосёнову хотелось стариков-ветеранов встряхнуть, только и всего. Пусть хоть смотрят, как танцуют. С тех пор, как Антонина появилась на острове, самовары просили санитарок брить их почище. По обшарпанным коридорам, когда самоваров везли к танцплощадке, еще долго одеколоном несло. Где-то раздобыли ведь, черти, даром что газету листали ложкой, зажатой в зубах. Сам Подосёнов не прихорашивался. Один раз поглядел на эти танцы да и покатил прочь.
На следующий год Антонина освоилась. Медучилище она еще до приезда окончила. Суладзе отмечал, что она смышленая, единственный медик на острове, кроме него самого. Сначала в женских палатах порядок и «санитарию» навела, потом до мужских добралась. Так себя поставила, что никто, даже старики-похабники, которые ни хрена уже не боялись, не называли ее Тонечкой, только Антониной Алексевной. Подосёнов лишь заметки делал про Антонину: пуговка на халате расстегнута; под халатом кружева, грудь, как два яблока на ветке; пахнет от нее травой с покоса; волосы под косынкой отливают рыжим. Антонина была для него пунктиром вычерчена. Долго была.
Зато говорить про них начали раньше, чем он ей руку пожал.
Густой августовской ночью она ждала его в сарае на причале. Рыбаки были при деле, шел клев, сарай пустовал. У лежанки горела керосинка. Когда принялись целоваться, она убавила пламя, потом и вовсе потушила. Не видела его культей. Твердил, что зря она все это затеяла, а сам увязал все глубже в ее нежности, будто падал на луг, обнимал небо, как раньше, когда еще за завод бегал на соревнованиях. Прорывал ленточку, падал на лужайку, на спину. Дышать. Во весь рост вытянуться. Наслаждаться телом, которое все может.
Луна росла, круглилась. Пропала, народилась вновь.
Первыми заржавели лиственницы. От воды в сарай тянуло холодом, у Антонины лоб пошел пятнышками, вся она как будто припухла, глаза стали добрые. Регистрироваться просила скорее, иначе живот будет выпирать. Подосёнов смотрел на нее и понимал, что не любит. Но ронять авторитет перед стариками ему не хотелось, Суладзе – тоже, что ли, виды имел на Антонину? – укорял Подосёнова молча, поджатой губой. Он же их и зарегистрировал, кроме него власти на острове не было и нет. Разве что сам Подосёнов: работу попросить, за советом или одолжить чего – инвалиды первым делом к нему обращались.
После регистрации добыли спирт, консервов, харчей на стол. Суладзе им комнату в Зимней выделил «как семейным». Сам не явился. Васька свадьбе радовался, Тамару, сестру, на тележке привезли. Вот они, Тамара с Васькой, и сели рядом, головы вровень, как молодожены. Один в черных оспинах, вторая ног не волочит, а смеются, шутят, про будущее что-то загадывают.
На этом застолье Подосёнов впервые с Победы напился.
Антонина с Васькой вдвоем покатили Тамару в ее палату. Когда комната опустела, Подосёнов, осоловелый, вынул из кармана почерневшую монетку, в правой зажал: не в кулаке, а под средним пальцем, чтобы промяло до боли. Всхлипнуть не успел – Васька вернулся:
– Антонину застудим. Где шаль ее? Снег выпал, во климат!
Подосёнов каждый день таскался в палату, где обитал холостым, говорил, вояк проведать. В их с женой комнату в Зимней гостинице, которую велели называть «общежитием», но все равно выходила «Зимняя», чаще всех заглядывал Васька. Перед остальными семейную жизнь еще можно было намарафетить, на людях доброе слово жене сказать. А вот Васька всегда знал, что койки у Подосёновых раздельные.
И с Семеном Васька возился с самого его рождения. Антонина сначала боялась оставлять с ним ребенка – одноногий, уронит на прогулке и не поднимет, или маленький испугается рябой физиономии. Подосёнов велел доверять. Антонина пробовала слезой жалобить, он не реагировал. Васька ее и утешал: «Будет вам, Антонина Алексевна, малой еще разревется, потоп устроим, и так вода кругом». Жизнь в Ваське другая текла, счастливая. Антонина рябого каким-то бабьим чутьем разгадала.
– Может, надо было вот за этого замуж идти? – говорит она, когда Васька наконец вывозит коляску с ребенком на улицу.
Подосёнов достает из кармана монету, катает между пальцами.
– Ну и шла бы.
– Да убери ты двугривенный свой проклятый, в ушах звякает.
Антонина оборачивается к шкафу, еще пахнущему морилкой, – Подосёнов смастерил ей в подарок. Расправляет плечи, тянется по-кошачьи сладко, платьем обтягивает грудь.
– Пожалела тебя, безногого.
Подосёнов вскидывает свои могучие руки, громит полки возле шкафа, на пол летят бутылки, книги, порошки, сухоцветы вместе с гжельской вазочкой. К черту обстановку – сам сделал, сам порушил. Теперь вот сам смотрит, как Антонина ползает, сгребает обломки, прижимает мизинец ко рту. Поранилась. Устало садится на пол с ним рядом:
– Из вас двоих с войны вернулся только Васька.
* * *
Обычно Семен долго греб из Центральной бухты в Малую Никоновскую, куда причаливали белые круизные теплоходы. С недавних пор – еще и туристические лодки. Вообще, на Красном филиале было весело, в церкви сделали концертный зал со своей танцплощадкой. Туристы, молодые, здоровые, загорелые, приглашали Семена посидеть у костра, спеть «Генералов песчаных карьеров». Тощий парень с гитарой, косматый и длинный, в свободной рубахе, пел Гребенщикова. Продираясь сквозь стену тумана, Семен налегал на весла, отсыревшие за ночь на дне лодки. Пальцы жгло холодом. Горланил: «Он пришел из туманной дали и ушел в туманную даль».
Вот и сегодня так. Туман умягчил берега-шхеры и старые сосны. На камни вылезали погреться нерпы. Толстые, с темной шкурой в белых кривых кольцах, они знали: за туманом придет жаркий день. Сватовство у них прошло в начале лета. Тогда они кивали, шлепали по бокам ластами, терлись усатыми мордами. Свистели. Урчали. Сейчас нерпы сонные, не соскальзывают в воду от любого чиха. Семену было приятно думать, что так они признают в нем хозяина острова. Одну нерпу он прикармливал рыбой. У нее не было колец на шкуре – сплошная чернота.
Когда залёжка нерп осталась позади, он, обогнув Предтеченский остров, который про себя называл «Ёлкиным», посмотрел на часы. Завел мотор, прогрел, перевел шланг с дефицитного бензина на керосин – отец пересобрал мотор так, что все получалось сделать на полном ходу. Спугнув рыбу, вильнувшую на глубину, лодка с широким кругом направилась в Никоновскую бухту. Гладкую, синюю. Кусок неба на земле, как Ёлкино любимое платье.
В прошлое воскресенье Семен с большой компанией загорал на Петровском мысе. «Сень, а ты скоро совсем мужиком станешь, поглядеть приятно, не то что…» – Ёлка осеклась, сообразив, что и отец Семена – такой же обрубок, как и еще сотня инвалидов, на которых смотреть невмоготу. Купались все, кроме Ёлки. «Ну вас с ледяной вашей Ладогой. Теплого моря дождусь», – брезгливо, точно родилась не здесь и отец ее работал не на рыбзаводе, а где-то в Крыму. Семен больше смотрел на Ёлку, чем слушал. Ее губы трубочкой, когда прикуривала папиросу, ее белые руки. Она вся была как из густого тумана, чуть розовела на солнце. Ее мать была не то шведка, не то норвежка. Узколицая, чахоточная. Вечно куталась в пальто.
Ёлка разрешала Семену катать себя до большой воды, там сидела, задумавшись, развернувшись всем телом прочь от острова, прочь от Семена. «Повернуть» ее к себе разговорами не выходило.
– Приеду, протезы привезу, самые новые, отец на них побежит. Я буду здесь главврачом вместо этого Цапли, слышишь?
Ёлка фыркала.
– Ну, необязательно здесь, в Петрозаводске можно.
Ёлка не оборачивалась.
– В Ленинграде? – Семен никак не мог угадать, чего она хочет.
– Давай домой рули.
Семену хотелось и поцеловать ее, и встряхнуть за плечи, хоть как-то пробудить.
Пройдя меж знакомых бакенов у трех островов, отрезавших Никоновскую бухту от большой воды, Семен привычно вытянул шею – разглядеть, Ёлка уже ждет его? Говорили, что этот крепкий бетонный причал в форме буквы «Т» установили после войны, при рыбзаводе. В классе, где утром обучали малышню, а вечером за парты сажали восьмиклассников вроде Семена, все еще висел бледный плакат, на нем мужик держал пудового налима, заявляя: «Прежних хозяев, монахов, – догнать и перегнать».
Ёлки на причале не было.
Семен заглушил мотор у пологого песчаного берега. Ёлка спустится сюда прямо из дома. Вот она придет босиком, держа в руках туфли, легкая, сядет в лодку перед ним. Их прогулки заканчивались слишком быстро. Ложась спать, он все думал, что надо было сказать это и то. Здесь пошутить, там промолчать. Он вел с ней разговор и глубокой ночью. Во сне Ёлка ему отвечала. А потом наступало утро, и время до новой встречи с ней, сколько ни смотри на часы, едва ползло. Семен и учебники свои забросил, журналы по медицине – ее строгое лицо смотрело на него со всех страниц.
На песчаном берегу Семена встретили двое. Семен узнал бойкого парня из новеньких. На нем был серый пиджак. Он держал Ёлку за талию. Лет тридцать на вид. Щетина. Семен вдруг почувствовал себя дитем с пушком на щеках. Не пожал протянутую руку с золотой замысловатой печаткой на среднем пальце.
Ёлка сегодня была добрая, попросила подвезти их на Центральный, «бумаги Егору оформить». Уж больно он крепкий для инвалида. Теперь Семен понял, что в нем странного: глаза разные, карий и серый. Гетерохромия, биологическое уродство. На таких либо не хочется вовсе смотреть, либо тянет разглядывать. Ёлка была как загипнотизированная: заморгала, очнувшись, лишь когда Семен оттолкнул лодку веслом. Тут Егор, подхватив Ёлку за талию, ловко посадил на скамеечку. Устроился с ней рядом. Семен отвернулся, якобы проследить за мотором, но боковым зрением отмечал: их волосы, темные, гладкие, сплетаются на ветру.
У Семена загорелись уши: хоть водой студи. Кулаки сжались, пальцы иголками закололо. Скрестил ноги, чтобы не вскочить. Выдохнул с рыком, мотор заглушил звук.
– Ты подавился там, что ли? – Голос у этого Егора был наглый. – Слышь, че ушами-то зашелся?
Семен не повернул головы. Белой пеной отмечала их путь Ладога и вдруг встала. Мотор заглох.
– Не цепляйся к нему, – проворковала Ёлка. – Расскажи лучше про Ялту.
Не поднимая глаз, Семен перебрался к уключинам. Ощутил тяжесть весла в руке. Выбирал момент, чтобы огреть этого Егора по голове. Скинуть за борт. Пусть его нерпы сожрут, рыбы, чайки, хоть сам Никола, которому втихаря рыбаки молятся.
– Ну а че болтать? Там всё как надо. Море, пляж, девки в шезлонгах отдыхают. Набережная от одного ресторана до другого. Белые колонны, Леночка. Белые, как ты.
Егор поцеловал Ёлку, его пальцы крепко обхватили ее затылок. Так яблоко держат, чтобы откусить побольше. Семен вскочил. Лодка качнулась. Ему страшно хотелось выстрелить. Он вспомнил, как Васька протягивал ему винтовку: «Учись целиться, брат, пять патронов, пять душ». Три души. Застрелить обоих. Потом самому. У него даже в плечо вступила отдача от выстрела. Лучше бы, конечно, из чего поменьше. Маленький пистолет. Господи! Больше ни о чем не попрошу. Никогда! Черт с ним, с этим училищем! С Ленинградом! Не буду врачом! Не поеду! Только бы пистолет!
Небо над ним висело синее, равнодушное.
– Сень, ты чего? – Ёлка впервые смотрела на него с интересом.
– Малой, ты греби давай. Стоп. А это че за корова?
Из воды выглядывали два черных глаза, в каждом плыла белая лодка. Нерпа, любопытная, нырнула под днище, лодка качнулась, Ёлка ахнула. Нерпа высунула морду из воды и с другой стороны смотрела на Семена. Вот дура – все еще ждала рыбы.
– Ща мы ее!
Семен увидел пистолет, какой-то совсем крошечный в цепких пальцах с золотой печаткой. Выстрел шуганул чаек, Ёлка зажала уши. Нерпа взвизгнула, исчезла. На воде осталась кровавая пленка.
Попал, значит.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































