Текст книги "Мой Милош"
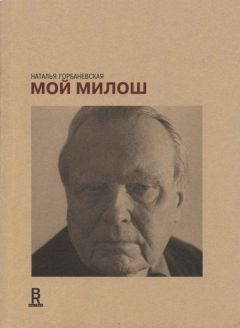
Автор книги: Наталья Горбаневская
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Бедный камер-юнкер
Waclaw Lednicki. Pushkin’s Bronze Horseman.
The Story of a Masterpiece.
Berkeley – Los Angeles: Univ. of California Press, 1955
Александр Пушкин в сегодняшней Польше малоизвестен, и как раз потому, что пропаганда поместила его в музей восковых фигур, в отделение «польско-русской дружбы». Трагедия поэта – она же одновременно трагедия русского, и не только в XIX веке, – подвергнута старательной переработке, словно ее и вообще не было. Ничего удивительного. Там, где не разрешено видеть исторический контекст, если он не соответствует схемам, наступает умаление людей и явлений. Но не один из нас думал о Пушкине в последнее время, читая высказывания советских писателей, приходящих на подмогу российским государственным интересам и восхваляющим подавление Венгрии. Таланта у них меньше, чем у Пушкина, однако их дилемма аналогична: отечество contra человечество. Они не могут не подчиниться закономерностям, которые сильнее лозунгов и программ.
Польский пушкинист №1, Вацлав Ледницкий, – профессор Калифорнийского университета в Беркли. Пожалуй, никто не усомнится, что это крупнейший ученый. Однако перестанем держать ученых в отведенных им сейфах, если они пишут интересней, чем авторы романов. Последний труд Ледницкого о «Медном всаднике» – чтение увлекательное, ибо свойство дотошно представленных фактов таково, что они возбуждают у нас множество размышлений о наших днях. Закрывая эту книгу, мы приходим к следующим выводам.
Сегодня справедливо осмеяна склонность всё рассматривать под углом «Слон и Польша». Справедливо, ибо страна небольшая, мало прославленная в истории цивилизации и планета не много потеряла бы, если бы этой страны вообще не существовало. Заняв такую смиренную позицию, следует сделать одно исключение: для России Польша обладает огромным весом, причем не только в сфере стратегии, но, что важнее, в сфере культуры. Она означает встречу с чем-то принципиально иным (с Европой), она представляет собой навязчивую идею, проблему, угрызение совести, и тем большее, что невысказанное и затертое ложью. Эту одержимость носил в себе величайший русский поэт.
Закономерность в двусмысленности: сначала либеральные мечты о братстве народов, прогулки и разговоры с Мицкевичем. Потом, когда «доходит до дела» и начинается восстание 1830 года – оскорбленная гордость, приступ националистического безумия. Вероятно, только тогда отношения между двумя странами вступят в новую фазу, когда в русских школах подвергнут честному анализу стихотворения Пушкина «Клеветникам России», «Бородинская годовщина», «Он между нами жил…». Что ж вы нам грозите анафемой, – восклицает Пушкин, обращаясь к западным странам, – что побуждает вас к пустой ярости? Униженная гордыня Польши? Да это же только «спор славян между собою», «вопрос, которого не разрешите вы» (применяя аналогичный принцип, интервенцию в Венгрии теперь объявили внутренним делом – круг «славян» расширился). «Славянские ль ручьи сольются в русском море? / Оно ль иссякнет? вот вопрос». И та известная угроза: попробуйте только на нас ударить – вашим гробам найдется «место <…> в полях России». «Восстав из гроба своего / Суворов видит плен Варшавы; / Вострепетала тень его / От блеска им начатой славы!» Разве Россия «больной, расслабленный колосс»? – иронически вопрошает Пушкин, отвечая на манифест Французско-польского комитета в Париже. «…скоро ль нам Варшава / Предпишет гордый свой закон? // Куда отдвинем строй твердынь? / За Буг, до Ворсклы, до Лимана? / За кем останется Волынь? / За кем наследие Богдана? / Признав мятежные права, / От нас отторгнется ль Литва? / Наш Киев дряхлый, златоглавый, / Сей пращур русских городов, / Сроднит ли с буйною Варшавой / Святыню всех своих гробов?» Нет, Россия сильна. «И Польши участь решена… // Победа! сердцу сладкий час!»
Победа. Но тот, кто напоил «ядом / Стихи свои, в угоду черни буйной», Мицкевич, мучил Пушкина издалека. Последние годы жизни поэта, период, когда написан «Медный всадник», – тема труда Ледницкого. Мы здесь не будем входить в подробно исследованные гипотезы и в поправки, которые Ледницкий вводит в свои собственные, ранее им представленные гипотезы. В рецензии ограничимся вопросами, интересующими более широкий круг читателей. Возникновению «Медного всадника» содействовали смешанные чувства, которые возбудил в Пушкине «Отрывок III части „Дзядов“». Содействовала и одна поездка из Петербурга в деревню и вид летней грозы, ибо в мыслях писателя он соединился с описаниями большого петербургского наводнения (того самого, которое изобразил в стихах Мицкевич). Прежде же всего содействовали личные обстоятельства Пушкина: придворный поэт бился в золотой ловушке и бежать из нее смог, лишь погибнув на дуэли, не слишком отличавшейся от самоубийства. Поклонником, а может быть, и любовником его горячо любимой жены был не кто иной, как сам император Николай I. Гипотезы начинаются, когда историки литературы ищут ответа на вопрос, что собственно значит поэма. Ибо в ней сливаются два течения: с одной стороны, гимн в честь мощи царизма, в честь символа этой мощи (памятник Петру Великому), с другой – сострадание к человеку, сокрушенному всесилием государства, «бедному Евгению», и враждебность к царю. Пушкину приходилось шифровать, ибо он был окружен врагами, а цензором его произведений был его главный враг – Николай I. Однако в поэме происходит раздвоение, и попытка описать Петербург иначе, нежели описал его Мицкевич, обнаруживает принципиальную амбивалентность: жалость к жертвам насилия незаметно переходит в поклонение абсолютной власти, культ абсолютной власти незаметно переходит в жалость к ее жертвам. Кто знает русских, тот знает, что этот узел они до сих пор не сумели в себе развязать.
Я не пересказываю рассуждения Ледницкого – я записываю свои заметки на полях. Очень любопытно то, что он говорит о причинах личной неприязни Пушкина к Петру Великому. Она вытекала из преданности традициям своей семьи. Пушкины принадлежали к тому старинному дворянству, упадок которого был результатом реформ Петра; в конце концов, революция 1917 года не впервые ввела в России новую иерархию привилегий. Боярские роды могли утешаться прошлым, но первые места получали парвеню, постами и титулами обязанные исключительно воле монарха. Все путешественники по России XVIII—XIX вв. обращают внимание на шаткость любого общественного положения в этой стране. Тамошний строй, собственно говоря, имел мало что общего с французским ancien régime, где обязывало почтение к «голубой крови». Из низов взлетали на вершины, с вершин катились вниз, и решала тут царская милость. И Пушкин ненавидел придворную камарилью, набранную из таких «новых людей», в сравнении с которыми он, потомок старого рода, был в положении едва терпимого писаки.
Труд проф. Ледницкого в десять раз человечнее и дружественнее к русскому поэту, чем лакированные сочинения, написанные в Польше. Ибо факты восстанавливают действительный размах несчастья. Что бы ни говорить о страданиях и безумствах Мицкевича-эмигранта, Пушкин, хоть и жил у себя на родине, был куда несчастней: он шел по узкой тропинке между оподлением и самоуничтожением, как позже Маяковский. Чтобы измерить его несчастье, надо не забывать, что поэт не может быть только циником и должен верить в то, что пишет.
А кто поруган злей? Кого из вас горчайший
Из жребиев постиг, карая неуклонно
И срамом орденов, и лаской высочайшей,
И сластью у крыльца царёва бить поклоны?
А может, кто триумф жестокости монаршей
В холопском рвении восславить ныне тщится?
[Мицкевич. Русским друзьям. Пер. Анатолия Якобсона]
Но был ли Мицкевич справедлив, когда так обращался к старому другу (не имеет значения, Пушкина ли он имел в виду, если тот так воспринял)? Обвинитель никогда не вникает в запутанные мотивы, в ту чащу жизни, где принимаются решения.
Были ли антипольские стихи Пушкина, подлые, как любая литература, вступающая в союз с сильными против слабых, написаны «в холопском рвенье»? Можно полагать, что нет. Можно полагать, что возмущение парламентскими «народными витиями», этим Западом, мешающимся не в свое дело, и мятежными поляками – было искренним. «Народный поэт» [по-русски в тексте] разделял общий дух, ощущал глубоко великорусскую волю силы. Значит ли это, что он лгал, мечтая о временах, когда «народы, распри позабыв, в великую семью соединятся»? Тоже нет. Шофер берлинского такси, которого один журналист попросил прокомментировать события в Венгрии, так сжато изложил сложную истину: «Русский – мужик добрый. Он со всеми хочет дружить. Вынимает револьвер и говорит: „Люби меня, не то убью“». Быть может, в антипольских и антизападных стихах Пушкина – как в «Скифах» Александра Блока – есть попросту горькое изумление, что можно не восхищаться русскими и не любить их. В этом таится отсутствие перспективы: свой народ не воспринимается как один из многих. В этом есть черты инфантильного восторга по отношению к себе. На других языках столь племенная поэзия встречается редко. Чтобы найти ее, потребовалось бы отступить на много веков назад. В сравнении с ней поэзия Киплинга – вершина равнодушия к Британской империи.
И когда Мицкевич из-за границы бросал обвинения – чтó мог Пушкин, камер-юнкер, носивший ад в сердце? Даже его письма жене перлюстрировались. То, что он защищал эту систему и это рабство от «ветра с Запада», было особливым парадоксом судьбы. Но и в мятежные минуты он не мог себе позволить ясное сознание. Самое большее, что он мог себе позволить, – это образ из «Медного всадника: статуя царя Петра гонится по пустым улицам Петербурга за бедным Евгением, и эхо разносит стук копыт по мостовой. Статуя, под которой некогда, «Укрывшись под одним плащом, / Стояли двое в сумраке ночном» [цитаты здесь и далее в пер. В. Левика].
По мнению профессора Ледницкого, «Медный всадник» – в русской литературе произведение переломное, если говорить об отношении к «граду Петра». До тех пор было некритическое поклонение, теперь начнется отрицание. Следующим этапом станет гоголевский Петербург.
В течение XIX века Россия была больна навязчивой идеей польской «заразы». Дело Пушкина – лишь фрагмент целого. Царское правительство любило приписывать все мятежи и беспорядки деятельности иностранных агентов. Так, Кюстин в 1839 году записал, что крестьянское восстание на Волге называли «работой польских социалистических эмиссаров» – идея, надо сказать, свидетельствующая о фантазии чиновников. Влияние таких же эмиссаров усматривали в бунте украинских крестьян в 1855 году, как сообщает Аполлон Коженёвский. Наверняка удалось бы собрать еще немало подобных примеров.
Труд проф. Ледницкого лишен политических акцентов, но читателю разрешено проводить аналогии. Книга заслуживает того, чтоб ее рекомендовали всем иностранцам, которые хотели бы что-то понять в польско-русских отношениях. В ней также приведены в английском переводе «Медный всадник» и «польская трилогия» Пушкина, весь «Отрывок» Мицкевича и стихотворение Валерия Брюсова «Вариации на тему „Медного всадника“». Это стихотворение, большинству поляков неизвестное, сжато охватывает всю проблему. Есть тут и «двое под одним плащом» у памятника, и отъезд Мицкевича, и восстание 1830 года, подавляемое царскими войсками «под грозный зов» стихов Пушкина. «И заглушат ли гулы славы» голоса убиваемых борцов за свободу и «слабый стон» сосланных в Сибирь друзей-декабристов? Пушкин у Брюсова еще раз стоит у памятника Петру, думает, угрожая: «Добро, строитель чудотворный!» – и за это кощунство наказан: он слышит за собой «топот роковой» Медного всадника. Трудно устоять перед подозрением, что Пушкин в своем протесте напоминает человека, который является с повинной в полицию, прося его арестовать, ибо у него антигосударственные мысли: протест и страх перед национальным табу выступают у него с одинаковой силой.
1957
Человек среди скорпионов
(Отрывки из книги)
Первое издание. Париж: Институт литерацкий, 1962
Жизнь наша, я наше – это пост часового; когда мы
с него уйдем – его потеряет всё человечество навсегда.
Бжозовский
Станислав Бжозовский умер 30 апреля 1911 года во Флоренции от чахотки – или, вернее было бы сказать, от нищеты – на тридцать третьем году жизни. За полвека, прошедшие с тех пор, в Польше не было почти ни одной литературной дискуссии, где не раздавалось бы его имя. И все-таки в его родной стране нет даже такой памяти о нем, как собрание сочинений. Большинство его книг – сегодня библиографическая редкость, и любой, кто пожелает с ними ознакомиться, вынужден вылавливать их по одной в каталогах крупных библиотек.
Самым верным другом Бжозовского была его жена Антонина, урожденная Кольберг. Ее стараниями в 1928 году на флорентийском кладбище Треспиано был воздвигнут надгробный памятник по проекту скульптора Роберто Пассальи с надписью: «Stanislaw Brzozowski, poeta e filosofo». Вторым верным другом был львовский критик Остап Ортвин. В последние годы жизни, когда Бжозовский изо всех сил стремился успеть закончить как можно больше начатых трудов, польская пресса и издательства бойкотировали его. Если бы не Остап Ортвин, самые зрелые книги Бжозовского остались бы в рукописях, а рукописи могли бы и погибнуть, тем более что бойкот прекратился далеко не сразу после смерти их автора. Ортвин был литературным советником львовского издательства Б. Полонецкого, и там вышли «Легенда Молодой Польши» (1909), «Идеи» (1910) и уже посмертно – роман «Один среди людей» (1911), «Голоса среди ночи. Исследования романтического перелома европейской культуры» (1912), вышедшие под одной обложкой «Призраки моих современников» и неоконченный роман «Книга о старой женщине» (1914), избранные сочинения кардинала Ньюмена в переводе и с предисловием Бжозовского (1915). Посмертно вышли и изданные Антониной Бжозовской «Записки» (год издания, вероятно, 1915).
В польской литературе ХХ века не найти писателя с таким размахом и серьезностью интересов. Умственно он превосходил всех знаменитостей своего времени, и это дает ему сегодня исключительное положение. Такие писатели, как Жеромский или Реймонт, оказались «обустроены», вмещены в свою эпоху, классифицированы, и никому не пришло бы в голову заниматься цензурой их сочинений. Бжозовский же у издателей или у тех, кто пытается о нем писать, возбуждает тревогу и дрожь, а причины этой дрожи меняются в зависимости от колебаний политической конъюнктуры. Это значит, что он по-прежнему остается нашим современником и еще не превратился в предмет историко-литературных исследований. По-прежнему каждый, кто о нем пишет, уже тем, что взялся за перо, высказывается за или против. Эту пристрастность, вытекающую из самой природы вопросов, которые заботили Бжозовского, тогда в этом одинокого, не следует скрывать.
Говоря в самом общем виде, темой его сочинений был переворот в истории рода человеческого, начавшийся под конец XVIII века и ознаменованный порогом новейшей истории – Французской революцией. Отдельные книги Бжозовского можно назвать экспедициями в разные края столетия перемен – быстрых, как никогда ранее. Это касается и его романов. Содержание «Пламени» – деятельность нечаевцев, затем Парижская коммуна и «Народная воля». «Один среди людей» – это картина 1830—1848 гг. в Польше и Пруссии, причем показаны круги левых гегельянцев в Берлине. Незаконченная «Книга о старой женщине» предвещала поразительный роман о «процессе реабилитации» революционера (1905 года), убитого своей партией. Давая своим очеркам о французских, английских и русских писателях подзаголовок «Исследования романтического перелома европейской культуры», Бжозовский понимал этот кризис широко: по его мнению, он продолжался без перерыва, постоянно принимая новые формы.
Бурная эпоха, увлекавшая Бжозовского и понимаемая им как непрерывность, как целое, открытое в будущее, вскоре после его смерти стала еще более бурной. Нас отделяют от него Первая мировая война, русская революция, Вторая мировая война и еще трудное для полной оценки, ибо лишь начинающееся, явление «обобществления человечества» в планетарном масштабе. Опыт формирует язык, и многие чаяния, позиции, типы мышления получили хотя бы временные и несовершенные названия, на карте истории, находящейся в движении, отмечены точки ориентации. Бжозовский углублялся в пространства, почти никем тогда, и не только в Польше, не исследованные, поэтому ему приходилось самому создавать свой инструмент, свою терминологию. Сегодня мы сказали бы, что он производил «экзистенциальный анализ исторических структур», что всё у него вращается вокруг «проблемы отчуждения», – но он не давал таких определений. При этом его отчаянные метания иногда производят впечатление усилий добиться, чтобы его услышали глухие. Глухота его читателей состояла в полной неосвоенности с диалектическим мышлением, в требовании, чтобы было «или да, или нет», а уж по крайней мере – чтобы, рассматривая какое-то течение мысли или какое-то произведение, находить в нем «хорошие и плохие стороны».
Отсюда – остолбенение, когда Бжозовский одним духом выговаривал «да» и «нет» (всё его отношение к романтизму), отсюда – крики, что он неустанно сам себе противоречит. Несомненно, сегодня мы читаем Бжозовского иначе, нежели его современники, и это не наша заслуга, а результат коллективного опыта, способного растопить воск в ушах у многих. Мы менее склонны ловить его на слове, и его нелегкая, протеичная мысль является нам в развитии, в постоянном преодолении самой себя, в постоянном исправлении собственных ошибок, однако при ясно указанном направлении.
Как оставаться писателем, не принятым теми, ради кого тратились все силы в уверенности, что совершаешь перестройку сознания – их или их сыновей? Почему столь многие черпали и черпают полными горстями из наследия Бжозовского, но как бы украдкой, не признаваясь в этом публично? Почему такая плата за любовь? Как оставаться un écrivain maudit? Быть может, пришло время попытаться дать ответы на эти вопросы, пользуясь возможностями, которые дает перспектива времени, сгущенного историческими событиями. Да послужит это вместо венка на кладбище Треспиано, которого в это 50-летие со дня его кончины не возложит никакая делегация польских литераторов.
Умственное освобождение равнялось для Бжозовского, гимназиста в Немирове, протесту против родимого окружения, то есть против Польши сентиментальных нравов, католической церквушки, культа национального мученичества, ритуального обжорства по праздникам и программного антиинтеллектуализма. Быть человеком – или быть поляком, в котором человек – самой своей принадлежностью к национальной группе и повиновением ее заповедям – уменьшен? Этот вопрос Бжозовский, видимо, пережил остро, если в двух его романах герой обретает внутреннюю свободу, лишь поправ национальный запрет. В «Пламени» Михал Канёвский рвет со своей помещичьей семьей и приносит позор ей на голову, становясь русским революционером и нигилистом: он вступает в группу Нечаева, а затем, уже народовольцем, принимает участие в подготовке покушения на жизнь Александра II. В Сибири он встречает польских ссыльных – участников восстания 1863 года, – и те не могут простить ему, что он в своей революционной деятельности идет вместе с русскими: для них Россия – это дикая страна, разъеденная взяточничеством и сифилисом, колосс на глиняных ногах. В романе «Один среди людей» шестнадцатилетний Роман Олуцкий дополняет свое освобождение от нравов и верований своей среды, нарушая морально-политическое табу, почти равное тому, которое в штате Миссисипи защищает белую женщину от половых отношений с негром: он облегчает барышне из хорошей польской семьи побег с русским офицером. Ни один писатель в Польше, притом по сей день, не осмелился обратиться к этой стыдливой сфере, сформированной коллективным подсознанием, к содержанию правила, согласно которому вхождение в «русский мир», согласие на этот мир тождественно нравственному падению, вечной утрате души.[33]33
Тувима в «Цветах Польши» это искушало.
[Закрыть]
В политике – да, при жизни Бжозовского левых раздирал спор между социалистами и социал-демократами, позднее ставший спором между социалистами и коммунистами: независимость и социализм или революция, которая разрешит национальные конфликты как бы автоматически. Однако в литературе не нашлось аналога этому спору на другом, более глубоком уровне, то есть не было изучено, откуда на самом деле бралась нечистая совесть, которую легко заметить у всех отщепенцев, готовых во имя принципов признать «русский мир» своим. Только Бжозовский показывал польско-русский узел трагически, то есть наделяя аргументы и позиции равным весом и равной эмоциональной напряженностью.
Значение Бжозовского в польской литературе нельзя оценить надлежащим образом, если фон, на котором мы его рассматриваем, слишком узок – например, замкнут в границах недолгой стадии «Молодой Польши». Подвергая ревизии весь XIX век, извлекая прежде всего проблемы первой его половины, нерешенные и отложенные или заслоненные, Бжозовский стал как бы реваншем, поспешным, иногда неловким, за всё то, что ни уст, ни перьев до тех пор не знало. В то же время его посмертная судьба позволяет вникнуть в исторические обстоятельства, которые и по сей день не вполне стали прошлым.
1962
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































