Текст книги "Мой Милош"
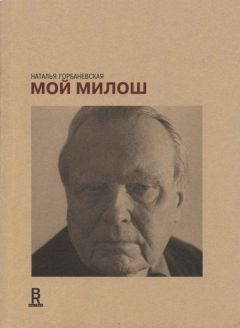
Автор книги: Наталья Горбаневская
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Бесы
Остановил меня на кампусе студент и сказал, что год назад слушал мой курс о Достоевском и что чтение «Бесов» переменило его жизнь, «потому что это так, словно Достоевский описал сегодняшнюю Америку». В результате этого студент бросил занятия биологией и начал изучать общественные науки. Несколько дней спустя я снова увидел его на кампусе: он раздавал листовки американской компартии.
Каким образом «Бесы», роман, где Достоевский отчаянно пытается предостеречь Россию от революции, может убедить кого-то в благодеяниях революции? Дрожь за судьбу России, от которой, по мнению писателя, зависели судьбы мира, была настоящим, самым сильным стимулом его писательства. Западная Европа, по его мнению, была осуждена на коммунизм, логически вытекающий из атеистических посылок, а они в свою очередь вытекали из посылок науки, какой она возникла в орбите западного христианства. Этими идеями заразилась русская интеллигенция, и не от нее ждал Достоевский спасения России, но от крестьянских масс, верных православию. А что бы он сказал сегодня, если бы ему дано было своими глазами видеть и исполнение его наигорших опасений, и исполнение, можно сказать, навыворот, в результате чего его мессианская вера уже лишь удивляет мощью иллюзий?
Я, кажется, сумел бы восстановить ход мыслей этого студента. Если «Бесы» так верно описывают деятельность революционных групп в Америке, хотя дело происходит в России на сто лет раньше, если предостережение Достоевского оказалось пророческим, потому что группа Нечаева, которая послужила ему образцом, самим своим существованием предвещает другую, более серьезную революционную организацию, это значит, что и в Америке ход вещей сложится точно так же. То есть, если ты не сторонник левых, надо оценивать деятельность левых групп типа анархистских как дурацкую, на уровне шутовства Петра Верховенского, и следует сразу делать ставку на движение, за которым будущее, централистически и иерархически организованное, опирающееся на марксизм (о котором, готов спорить, этот студент не имеет понятия: детская наивность американцев в том, что касается какой бы то ни было философии, общеизвестна).
Иначе говоря, студент получил от «Бесов» откровение: о том, что история нашей планеты составляет единство, развивающееся «закономерно», по определенным «законам», а значит, происшествия в провинциальном российском городе не следует рассматривать как экзотический подход, возможный лишь среди славян с непонятно запутанной психикой. Наоборот, революционные явления на всём земном шаре идут примерно одним и тем же ходом, а русская интеллигенция в этом обогнала остальное человечество. Таким образом, студент испытал, как я назвал бы, «гегелевский укус», что сегодня возможно, если даже не читать никаких философов.
Специфика рассуждения о законах развития состоит в том, что ум ведет себя, как заяц, попавший под автомобильные фары: он может бежать только вперед, то есть если бы не свет от фар, шоссе осталось бы малой частью пространства полей и лесов, но только шоссе и видно, полей и лесов, которые совсем рядом, не видать. Это, конечно, не значит, что попасть на ровное шоссе – то же самое, что принять тоталитарные верования. Многие противники тоталитарной организации общества, особенно если их взрастила восточная система, рассуждают схоже, только наоборот: американский сорт «бесов», хотя они действуют в контексте иного общества, нежели русское общество прошлого века, кажется им зловещим предвестием того же самого, что случилось в России, литература, искусство, нравы всего Запада как будто повторяют декадентство, характеризующее несколько последних десятков лет царской России, и т. п. Каждый, впрочем, может на себе самом проверить силу таких обобщений, которые лишь после более длительных размышлений обнаруживают свой подозрительно логический и как раз поэтому в высшей степени алогичный характер.
Так называемые законы развития – вопрос слишком сложный и таинственный, чтобы ими чересчур заниматься, не боясь впасть в одержимость. А если кто-нибудь избегает определенных сфер ради сохранения здоровья – очень хорошо. Потому же, наверное, имея возможность стать профессором общественных наук, на что мне давал право мой диплом, я предпочел остаться профессором литературы. Однако давным-давно, 25 лет назад, я написал книгу «Порабощенный ум»[35]35
В русском переводе (СПб: Алетейя, 2003 [2-е изд. М.: Летний сад, 2011]) она названа «Порабощенный разум», что не совсем точно. – НГ
[Закрыть], в которой старался представить случаи «гегелевского укуса», по сути не отличавшиеся от случая моего американского студента.
За эту книгу мне многое пришлось вынести, притом от ее польских читателей. Некоторые заядло травили меня, используя средства достойные и недостойные, в уверенности, что уничтожить такого опасного типа – это вершина их призвания, может, даже призвание всей их жизни. Книга, по их мнению, доказывала, что ее написал коммунист, и любое oratio obliqua вкладывали в уста самого автора. Другие, не заходя так далеко, считали, что все мои рассуждения о причинах, по которым мыслителей ХХ века влечет марксизм, – чистая фантазия, что в Польше не какие-то там философии несли ответственность, а один только обычный страх, и что я наврал, для того чтобы оправдать себя и своих коллег.
Прошло много лет, и, быть может, в Польше, где исчезла магия «исторической необходимости», уже трудно воспроизвести описанные в книге обряды, зато «порабощение ума» стало заурядным в западных странах. Я не возвращался бы к этой теме, если бы не то, что как раз тогда, когда тот студент рассказал мне о выводах, которые он извлек из чтения Достоевского, я получил новый номер «Культуры», где Густав Герлинг-Грудзинский еще раз повторяет то, что я так хорошо знаю из прошлого: что «Порабощенный ум» – «отлично написанная книга, но ошибочная, „выдуманная за письменным столом“».
Я в «Порабощенный ум» давно не заглядывал и очень хотел бы знать, как же это обстоит на самом деле. Может, наконец, раз уж по поводу этого сочиненьица пролито столько чернил, я что-нибудь теперь узнаю? К сожалению, одной фразой ничего тут не объяснить. То, что сказал Грудзинский, напоминает речь на похоронах: «Покойник, правда, был конокрад, но какие изысканные были у него манеры». Ибо «отлично написанных» книг множество, но честных книг мало, а честность в писательстве – это уважение как к действительности, так и к своим взглядам. «Порабощенный ум» не был книгой, «выдуманной за письменным столом», – правильней будет сказать, что он писался живою кровью, и это наверное чувствуется. Это еще не доказательство правдивости заключенных в нем тезисов, потому что пишущий может ошибаться, обманывая нередко и самого себя, и других. Такую возможность следует беспристрастно изучить.
Темой книги был (использую прошедшее время, так как большинство сегодняшних читателей «Культуры» книгу уже не знает) «гегелевский укус», которому в нашем столетии подвергаются людские умы, как только приподнимутся над уровнем благословенной наивности. Интересы Герлинга-Грудзинского чисто моралистические, поэтому, видя, что толпы т. н. интеллектуалов (а в действительности модерновых полуинтеллигентов) в разных западных странах льнут к марксизму, он, кажется, объясняет это их глупостью и гнусностью. Разница между нами состоит в том, что как прежде, так и теперь я приписываю это действию причин куда более глубоких, соглашаясь с Достоевским, который в тех же «Бесах» показывает своеобразный рост растения из зерна – то есть из поколения в поколение – от мглисто-романтической риторики старого Верховенского, через демонические противоречия Ставрогина и до разгулявшейся силы «бесов», кончая же пророчеством, в котором зловещее завтра как будто символизируют фигуры теоретика рабства Шигалева и молодого послушного офицера-исполнителя по фамилии Эркель.
«Всё это, простите, только со страху». Несомненно, что в Польше 1951 года страх был вездесущ и что он диктовал мелодию. Но «Порабощенный ум» был задуман как книга не только о Польше. К тому же страх, заключенный в самом слове «порабощение» – не простое понятие и охватывает куда больше, чем один только страх за свою шкуру. Чего же боялся, например, Владислав Броневский, отважный из отважных? Боялся одиночества, нуждался в постоянных похвалах и аплодисментах, в прикованных к нему очах зала, чёрту душу продавал, чтобы это получать. Но Броневский раньше, в молодости, испытал «гегелевский укус», когда в 1920 году, будучи солдатом Пилсудского, нашел в трофейных советских обозах сочинения Ленина, и «историческая необходимость» значила для него то же самое, что и для стольких западных писателей, знающих главный вид страха: как бы не навлечь на себя неудовольствие богини-Истории (наш век – это век мифологических фигур, и в большей степени, чем тогда, когда говорили о Марсе и Фортуне), ибо, только получив ее расположение, «останешься в литературе».
Меня эти аберрации не волнуют, но 25 лет тому назад мне нужно было выбросить их из организма. Что меня зато волнует, так это так называемое научное мировоззрение, навязывающее картину мира как «процесса», как «эволюции» и влияние этого мировоззрения на умы в тот момент, когда рвутся остатки традиционных связей, а каждый житель планеты получает учебники, пропагандирующие это мировоззрение, Может быть, не случайно молодой человек, о котором я рассказывал, был студентом-биологом.
Встает вопрос, не слишком ли пессимистичен задуманный как экзорцизм роман Достоевского, раскрывая демоническую закономерность и даже неизбежность перемен, каким подвергалась русская интеллигенция прошлого века? Иначе говоря: так ли уж ошибался студент, прочитывая в нем урок «хода вещей», «процесса»? И встает другой вопрос: а я-то сам, устанавливая связь между влиянием науки на воображение и тяготением к марксизму, – не оказываюсь ли я примером «гегелевского укуса», ибо тоже ведь раскрываю какую-то «закономерность»? Это крайне запутано, и, вместо того чтобы углубляться в чащу, я предпочитаю констатировать, что юноша-тяжелодум легко перепрыгнул через всё, что у Достоевского составляет самое настоящее содержание: огромное знание о могуществе зла. Зато если сегодня едва-едва образованный ум хватается за марксизм как за первую доступную ему очевидность, то надо помнить, что сегодня на разных уровнях сосуществуют картины мира, принадлежащие XVIII, XIX и XX векам и совсем не тождественные. Мой студент живет в рамках передовой технологии, но его историческое воображение не вышло за пределы XIX, а может быть, и XVIII века.
1976
Достоевский и Мицкевич
Произведение – не одежда, в которой выступает т. н. философия автора; оно даже не кокон формы, ткущийся, чтобы в нем поселилось содержание. Произведения Мицкевича и его философия пребывают в двух разных измерениях, и критика его взглядов не способна повредить его творчеству. Так же точно не умаляет Достоевского тот, кто негативно оценивает его особливое национальное собрание принципов, которые он выражал в публицистике, ибо Достоевский-прозаик – это кто-то другой.
Кто-то другой? Не совсем. Между творчеством и убеждениями автора существует связь, загадочная, весьма сложная, и поэтому его убеждениями надо заниматься – в надежде, что это поможет нам лучше охватить его творчество. Здесь навязывается метафора, почерпнутая из явлений природы. Глядя на снежный горный ландшафт, на лыжников, на детей, лепящих снежную бабу, на сияющие от солнца сосульки под застрехами, мы можем сказать, что эти виды зимы – не что иное, как вода в ее определенном состоянии, что в конце концов это только вопрос температуры. Что будет и верно, и ошибочно. Метафора, впрочем, промахивается в том, что мировоззрение (неловкое слово) не обязательно принимает в произведении новую форму – бывает, что слово берут иные слои сознания, так что знаки оказываются передвинутыми и автор пишет против того, что «на каждый день» считает своими принципами. Так или иначе, а мировоззрения не обойдешь, хотя те, кто изучал Мицкевича, умели ускользать, используя слово «мистика», в польском языке имеющее отрицательный оттенок, раз оно значит то же, что «безжизненность». Такое употребление доказывает либо чрезмерную трезвость, либо попросту лень, ибо предполагает, что в области «мистики» человек только измучится, стараясь что-то понять, и ничего не поймет – значит, лучше заранее это отбросить.
Имя Достоевского часто возвращается под моим пером, потому что жизнь коротка и меня всё меньше притягивает слишком литературная литература. Решающее в вопросе о нелитературности литературы – жанровый вес философии данного писателя, т. е. страсть, с которой он относится к «последним вещам», что создает огромное напряжение между мыслью и произведениями. Нескольких имен на мои нужды хватит на всю историю европейской словесности с того момента, когда ум оказался в краю отчуждения, в Ульро Блейка, в краю, где человек превращается в легко меняемую цифру и, хуже того, для себя самого, в своем сознании, перестает быть чем-то большим, нежели меняемая цифра. Блейк и, по крайней мере частично, Гёте отважно вели бои, выбирая тактику наступления, а не обороны. Мицкевича до какого-то времени берегла его провинция, Литва-Муза. Вопреки видимости, а также вопреки сознательным замыслам автора, «Пан Тадеуш» – поэма насквозь метафизическая, то есть ее предмет составляет редко замечаемая в повседневно окружающей нас действительности гармония существования как образ (или отражение в зеркале) чистого Бытия. Тут лежит секрет «последнего эпоса в европейской литературе», ибо не одни лишь патриархальные общественные отношения позволили ему возникнуть. «Пана Тадеуша» мог написать только поэт, который – и когда, в 1849 году! – сказал Северину Гощинскому: «Календарь и часослов – самые важные книги для человека», – то есть поэт, в котором глубоко таились навыки, ритуализирующие время: сельскохозяйственный год, литургический год. И в конечном счете только время, упорядоченное обрядами, а не механически по часам, позволяет нам действительно верить в существование вещей. Восходы и заходы солнца, обычные дела, такие как приготовление кофе или сбор грибов, – это и то, за что их принимает читатель, и поверхность, под которой кроется великое приятие, то, что одушевляет и поддерживает описание. Таковы картины некоторых голландских художников, ибо дело там не в верности деталям, ни даже в цветовой гармонии. «Символизм» как конкретная школа поэзии способствовал фальсификации понятия символа, если бы не то, сказали бы мы, что огурцы и арбузы сада Соплицы отвечают всем условиям, чтобы возвести их в достоинство символов, то есть вещей, которые остаются собою во всей полноте и в то же время означают что-то иное. Мицкевич, который, завершив «Пана Тадеуша», обещал себе «пера на забавы не употреблять» и считал эту поэму «извращением», наверное с этим не согласился бы – мы, однако, защищая наше истолкование, располагаем по крайней мере двумя обстоятельствами. Во-первых, «Пан Тадеуш» написан в том самом потоке метафизической и религиозной поэзии, что римские стихотворения и «Дзяды. Часть III», сразу после этой последней, и «загадку Мицкевича» было бы воистину не распутать, если бы он поступил, как тот, кто закрывает один кран, а открывает другой, в то время как принятый у художников обычай состоит в послушании тому же самому вдохновению с использованием меняющихся средств и форм. Во-вторых, топтанье профессоров полонистики вокруг этой поэмы выглядело довольно жалким в их неумении, и ничуть не удавалось им объяснить, «почему мы должны любить „Пана Тадеуша“», – да и действительно, если остановиться на поверхности, он любви не заслуживает и остается повестью, как у Вальтера Скотта, с довольно глупым развитием действия. А поскольку его скрытый смысл погибает в переводе, иностранцы могу выдвигать справедливую претензию, что восхваляется произведение вовсе не великое. Впрочем, не только иностранцы. Сопротивление польских читателей приземленности этого сочинения вело к поискам «глубин» у Словацкого, Красинского или, как в последнее время, у Норвида, хотя этих поэтов невозможно поставить рядом с Мицкевичем.
Достоевский принадлежит уже к другому историческому периоду, и его главные герои, интеллигенты-резонеры, страдают из-за отсутствия той упорядоченной земли-сада, которая в «Пане Тадеуше» предстает во всей своей красе. Так же, кстати, как их предшественники, пушкинский Онегин и лермонтовский Печорин, они жители Инфернального Города, края отчуждения, и каждый из них постепенно превращается в Spectre, в привидение абстрагированного интеллекта. Человек из подполья, Раскольников, Ипполит Терентьев, Ставрогин, Кириллов, Иван Карамазов – одновременно кровь от крови, плоть от плоти их создателя, и внутренне раздвоенный, разрушаемый изнутри «научным мировоззрением» Достоевский сражается отчаянно, потому-то он пишет нелитературную литературу и, к сожалению, литературу уже по мерке наших блужданий ХХ века.
В основе «Дзядов» лежит общение живых и мертвых, или заступничество. Мертвые просят помощи у живых (обряд «дзядов»), живые спасают живых молитвой (Ева, ксендз Петр), мертвые защищают живых («Вспомни мать! <…> Как скончалась – не забыла, / За тебя Творца молила, / От беды тебя блюла», пер. В. Левика). Система троична: Небо, Церковь торжествующая, Добро; Ад, осужденные на адские муки, Зло; посередине, в тесном союзе: Чистилище, Церковь страдающая, а также Земля, Церковь воинствующая, Добро и Зло. Между Злом и Добром идет неравный бой, и хотя иногда с помощью добрых духов человек спасется от погибели, но Зло сильно, Добро слабо, хотя в конце концов восторжествует.
Причины почти громоподобного эффекта, который производит чтение «Дзядов» или представление их на сцене, могут быть выслежены лишь путем интроспекции. Ведущая тема здесь – человек перед лицом несчастья, и поэтому следует постараться определить, как мы сами ведем себя перед его лицом. Пожалуй, каждый человек принимает несчастье ошеломленно, как что-то, что никак не могло случиться, а всё-таки случилось. Оно кажется нарушением неписаного договора с существованием. Мы доверяли этому договору, в согласии с которым, хотя люди обычно страдают, нас страдание пощадит. А раз договор нарушен, пусть будет хотя бы высшая инстанция, способная наказать того (кого?), кто договор нарушил, и отсутствие такой инстанции представляется нам чудовищным. Мы кричим – долго ли, это уж зависит от нашего характера, темперамента. Большинство людей испытывает это хотя бы раз в жизни в личном плане, потеряв любимого человека, неизлечимо заболев или провалившись в избранной профессии. Если же – что в нашем столетии нередко – ты видел иноземные танки, въезжающие в улицы родного города, то знаешь и другой род несчастья – публичного. И, в конце концов, все варианты публичного несчастья сводятся к несчастью нашествия, совершившегося или предчувствуемого, извне или изнутри, т. е. покорению безоружных организованной силой. Высшей инстанцией, к которой мы хотели бы обратиться, становится тогда «мир», другие страны, другие народы. Чтобы опыт был полным, те другие станут, откровенно или потихоньку, на сторону победителя, ибо тот, кто проигрывает, дает тем самым доказательство слабости, а значит, не заслуживает сочувствия.
Густав-Конрад познал двойное несчастье, личное и публичное, в результате вторжения извне. В античности завоевания считались обычным следствием военного превосходства, но несмотря на это нам до сих пор, даже сейчас, на склоне жестокого столетия, делается не по себе, когда мы читаем о резне, устраиваемой римлянами везде, где они наталкивались на сопротивление, будь то в Галлии или Палестине. Европа XVIII века успела уже отвыкнуть от завоеваний, и разделы Польши, резня [варшавской] Праги, торговля странами на Венском конгрессе были новинкой, предсказывавшей намного более поздние события.
Если всё, что в «Дзядах» касается ошибки, охватывать названием патриотизма, то становится невозможным анализ некоторых важных составных элементов драмы. По сути отчаяние из-за иноземного нашествия лишь частично питается противопоставлением «свое – чужое». Тот, кто ребенком, читая о благородных краснокожих, лишенных отчизны, сжимал кулаки, знает, что речь тут идет о нарушенной справедливости, которая требует, чтобы преступники были наказаны, и что когда они не только безнаказанны, но как будто действуют согласно законам этой земли, мы воспринимаем это как нравственное бесчестие. По причинам, установить которые трудно, в польской культуре, как ни в какой другой, проявляется оптимистическая вера в порядок дозаконный, божественно установленный, который может быть нарушен, но не надолго. Приведу слова Бжозовского: «Не находим ли мы во всей истории Польши как бы убеждение, что мир лишь мнимо может быть печалью, а по сути дела есть радость, что лишь мнимо он может быть упадком, а по сути есть победа? <…> Сквозь легкомыслие этого народа как будто просвечивают сияющие глубины». Но именно потому, что законы князя тьмы отвергаются, так остро переживается чужое нашествие – буквально как гром с ясного небо и как несчастье нравственного порядка.
Мицкевич, во многом старосветский, бывает и крайне современным. Спор Конрада с Богом включается в известный цикл, начатый французскими философами, которые составляли обвинительный акт, ссылаясь на ответственность Творца за огромные страдания, переносимые смертными. Обычно это относилось к страданиям отдельных личностей, иногда к стихийным бедствиям, обрушивающимся на великое множество людей. Несчастным случаем, закрепившимся в философских дебатах, стало страшное лиссабонское землетрясение 1755 года, когда погибли десятки тысяч людей. Конрад выдвигает аргумент иноземных нашествий и целых порабощенных народов. Бросать в лицо Богу слова о том, что Он не Отец, а царь, похоже на рефлекс непослушного ребенка или, самое большее, оскорбление монарха. По сути в игре сделана куда большая ставка, и, чтобы в этом убедиться, следует помнить о героях Достоевского, которых мучит тот же вопрос.
Несимпатичный, но гениальный юноша Иван Карамазов – не какой-то там атеист, это для него слишком примитивно. Он попросту отменяет Бога на основе нравственного принципа, ибо порядок Сотворения нравственно неудовлетворителен.
В основе вопроса Ивана Карамазова лежит какая-то ложная русская чувствительность и сентиментальность, ложное сострадание к человеку, доведенное до ненависти к Богу и божественному смыслу мировой жизни. Русские сплошь и рядом бывают нигилистами-бунтарями из ложного морализма. Русский делает историю Богу из-за слезинки ребенка, возвращает билет, отрицает все ценности и святыни, он не выносит страданий, не хочет жертв. Но он же ничего не сделает реально, чтобы слез было меньше, он увеличивает количество пролитых слез, он делает революцию, которая вся основана на неисчислимых слезах и страданиях (Бердяев).
Недаром Иван Карамазов – автор «Легенды о Великом Инквизиторе». С момента, когда Бог «отменен», противопоставление добра и зла, правды и лжи утратило всякое основание и всевластной оказалась Природа, подчиненная своим собственным законам. Иисус отверг три искушения преодолеть эти законы; и вот Великий Инквизитор, который хочет осчастливить человечество («поправляя» Иисуса), решается действовать разумно, то есть в согласии с законами и Природы, и человеческой природы. Однако эти законы находятся в управлении могущественного духа Небытия. И тогда Великий Инквизитор (или сам любящий детей Иван Карамазов) вынужден рассматривать тех, кем он правит, и как детей, и как рабов.
Если бы Конрад назвал Бога царем, то вынужден был бы признать, что Вселенная катится по своему собственному пути, без всякой опеки Божией, или повторил бы ход мыслей, который позже стал уделом Ивана Карамазова. Значит, ставка – либо Вселенная как абсурд, либо Вселенная как гармония. Конрад, верный польской традиции, особенно противящейся пессимистическим решениям, выберет второе, что возможно лишь благодаря заступничеству, то есть молитве других людей. Почти логическим следствием такого выбора становится следующая поэма Мицкевича – «Пан Тадеуш» – как своеобразная теодицея, или оправдание Творца, ибо Он Творец земли-сада.
Приближаться к Мицкевичу окольным путем, через Достоевского, позволяет забыть о разных школярских банальностях. Кто-то из русских заметил, что чувство всесилия в «Большой импровизации» напоминает предэпилептические состояния, знакомые некоторым героям русского писателя: время тогда останавливается, и эпилептик Магомет в одно из таких мгновений окажется перед престолом Аллаха, прежде чем успеет вылиться вода из перевернутого кувшина. Можно предположить несоразмерность между вершинными секундами, которые переживает Конрад, и его монологом, растягивающимся на много минут. Любопытно, что в своем подъеме Конрад считает себя человекобогом, подобно предэпилептику Кириллову в «Бесах».
«Дзяды» были бы великой христианской драмой, если бы не вкрадывающаяся ересь, та самая, которая наделяет дурными чертами публицистику Достоевского, но не только: она накладывает порчу и на некоторые главы его романов. Состоит она в затирании границ между религией и «национальной идеей». Шатов в «Бесах» заявляет: «Я верую в Россию, я верую в ее православие… Я верую в тело Христово… Я верую, что новое пришествие совершится в России…» – но на вопрос, верует ли он в Бога, отвечает: «Я… я буду веровать в Бога». Только «буду». Тем не менее Шатов у Достоевского спасен на основе довольно натянутого силлогизма: кто любит русский народ, тот обладает добродетелью caritas, или тем самым способен любить ближнего и прощать ему вину, как прощает Шатов жене. Близкая логика там и сям проглядывает и в тексте «Дзядов» и кульминирует в Видении ксендза Петра. От несчастья нашествия может легко зайти ум за разум, но, уважая чей-то праведный гнев, мы еще не приобретаем права воздерживаться от критической оценки. Коллективное тело, распятое на кресте и искупляющее грехи человечества? Кто же это «народа дивный избавитель», «наместник», «народов и царей превыше вознесенный», потому что любил свой народ? Предположим, что замысел Словацкого в Прологе к «Кордиану» был сатирическим. Но он прочитал Видение ксендза Петра, пожалуй, только так, как это навязывается каждому, то есть как травестацию Откровения апостола Иоанна, где сам Мицкевич предстает ни более ни менее как Сын Человеческий, Альфа и Омега, или Логос («Он к небу, к небу возлетел, / От легких стоп его развился / Покров, как снег нагорный, бел – / Ниспал, и мир им облачился»). Иначе говоря, христианская драма, драма победы, превращается в драму поражения: экзорцизмами ксендза Петра дьявол изгнан из Конрада, но оказывается так ловок, что вступает в экзорциста и диктует ему Видение – чего, к сожалению, не сознаёт сам поэт. Конрад хотел быть человекобогом, но при поддержке молитв ближних вовремя отступил. Кто же, однако, спасет самозваного человекобога, пришествие которого пророчит ксендз Петр в своем Видении?
1977
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































