Текст книги "Проза И. А. Бунина. Философия, поэтика, диалоги"
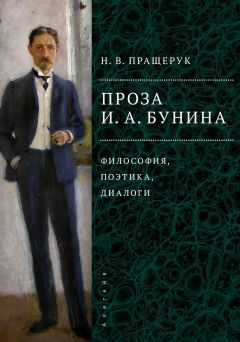
Автор книги: Наталья Пращерук
Жанр: Прочая образовательная литература, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Разработка «пространственной» стороны жизни продолжена художником целым рядом повторяющихся образов и мотивов, развивающих и углубляющих тему «дороги» и «дома». К их числу прежде всего относится образ окна, уже упоминаемый ранее и традиционно «нагруженный» семантикой и символикой «сообщаемости», коммуникации, выхода за пределы.
Текст изобилует образами самых разных окон. Это окно детской комнаты Алеши Арсеньева, которое возникает в самом первом воспоминании героя и в которое потом «все глядела <…> с высоты какая-то тихая звезда» (6, 10); это окна домов в Каменке и Батурино («завешенные окна», «раскрытое окно», «старинные окна с мелкими квадратами рам», «открытое окно»); это «полузавешанные окна столовой» в доме Лики; окна заброшенного дома, хранящие тайну запустения; «узкие окна» церковки Воздвиженья, в которые «все печальнее синеет, лиловеет умирающий вечер» (6, 75); это огреваемые солнцем «пыльные окна» «шапочного заведения»; окно редакции, в которое во время размолвки с Ликой «грозно синела зимняя ночь» (6, 227); это «в высоте над алтарем сумрачно» умирающее «большое многоцветное окно» костела в Витебске (6, 250); «бесконечно грустное окно» петербургского номера; «высоко от пола отстоящее окно» библиотеки; «забитые окна летнего ресторана» «в малорусском городе»; «черные окна» спальни после ухода Лики и т. п.
Уже такой перечень примеров раскрывает не только предметную изобразительность бунинского текста и психологическую подоплеку образа, но и феноменологический принцип его функционирования. Однако в данном случае нас интересует опора Бунина на традиционный символизм и связь этого образа с художественной философией книги. Наблюдения показывают, что «окна» в жизни Арсеньева появляются при всей их бытовой и интерьерной «непреднамеренности» все же не случайно. Они так или иначе сопровождают «переходы» жизни героя в иные качества и состояния, выступают в качестве «сигналов» приобщения, прикосновения к иному «выходу» в другие пространства и «миры». Вспомним, например, как происходит расставание Арсеньева с младенчеством: «Так постепенно миновало мое младенческое одиночество, <…> однажды осенней ночью я почему-то проснулся и увидал легкий и таинственный полусвет в комнате, а в большое незавешенное окно – бледную и грустную осеннюю луну, стоявшую высоко, высоко над пустым двором усадьбы, такую грустную, <…> что и мое сердце сжали какие-то несказанно сладкие и горестные чувства, те самые, как будто, что испытывала и она. <…> Но я уже знал, помнил, что я не один в мире» (6, 15). «Большое незавешенное окно» – знак открытости, готовности детской души к «расширению» своего мира.
Знаменательно, что «сухой блеск» «предосеннего солнца» из первого воспоминания сменяет «бледная и грустная осенняя луна», символизируя открывающуюся перед юным Арсеньевым мучительно-сладостную сложность жизни, соединенность в ней красоты и боли, цветения и смерти. Кстати, «вхождения» смерти в арсеньевский мир нередко также осуществляются посредством «окон». Так, известие о смерти бабушки связано с образом «раскрытого окна»: «А весной умерла бабушка. Стояли чудесные майские дни, мать сидела возле раскрытого окна. <…> Вдруг из-за амбаров выскочил какой-то незнакомый мужик, верховой и что-то ей весело крикнул. Мать широко раскрыла глаза и с легким и как будто тоже радостным восклицанием ударила по подоконнику ладонью. <…> Жизнь усадьбы опять была внезапно и резко нарушена» (6, 44). О болезни Писарева (затем последовала его смерть) Арсеньев узнает в комнате сестры Оли, «выходившей окном во двор» (6, 103). А само переживание смерти, которая, по выражению героя, «порой находит на мир истинно как туча на солнце», дается нередко на фоне «окон», соединенных с подчеркнутой цветовой и ритуальной символикой. Сравните: Надя, сестра Арсеньева, умирала в детской, где «было все то же: завешенные окна, полумрак, свет лампадки» (6, 43); во время панихиды по Писареву «в окна зала еще алел над дальними полями темный весенний закат, <…> и сквозь эту темноту и муть <…> горели восковые свечки» (6, 104). Освобождение же от тягостной власти реально присутствовавшей рядом смерти отмечено «настежь раскрытыми окнами на солнце и воздух» (6, 113).
Вообще «раскрытое окно» в бунинском мире означает обычно предельную открытость, разомкнутость человеческого существования, устремленность его «за пределы», незащищенность от контактов разного рода и готовность к ним: «…а за раскрытыми окнами сиял и звал в свое светлое безмолвное царство лунный сад. И я вставал, осторожно отворял дверь в гостиную. <…> Выйдя на балкон, я каждый раз снова и снова, до недоумения, даже до некоторой муки, дивился на красоту ночи» (6, 120).
Напротив, когда перед нами состояния крайнего «сужения» человеческого мира, сосредоточения «на одном», когда существование становится только болью, только отчаянием, только остро переживаемой утратой Другого, невозможность любой коммуникации с миром закрепляется, означивается в тексте мотивом «забитых» или «черных» окон. Именно так прочитывается образ «пустого городского сада с забитыми окнами летнего ресторана» в «глухом малорусском городе» в ряду других не менее значимых примет: «безлюдные улицы», «узкие тротуары», «черные сады за заборами» и т. п. Все это знаки неизбывного горя и невозможности его избыть. Ощущение закрытости, сжавшейся в пространство без выхода жизни усиливается семантикой «глухого»: образ «глухого малорусского города» продолжается затем в тексте образом «спальни в неподвижном молчании», за «черными окнами» которой «ровно кипит в темноте ночной дождь глухой осени» (6, 282). Затем «черное окно» возникает еще раз как сигнал остающихся без отклика (семантика черного как «поглощающего» цвета) экзистенциальных усилий героя: «Я устроился <…> в углу <…> и упорно смотрел в черное окно гремящего вагона, чтобы никто не видел моих слез» (6, 284).
И только потом, в финале, возможность разрешения внутренней драмы, возможность хоть какого-то выхода из замкнутого пространства боли и восстановления связей с миром опредмечена в тексте «полузавешанными окнами столовой» в доме Лики, где герой провел с ней много дней и куда он устремился с «дерзостью отчаяния», чтобы узнать о ее судьбе.
Следовательно, «система окон» обеспечивает, если можно так сказать, процессы взаимообщения и взаимообращенности «содержаний», качеств, состояний разного рода в пространстве жизни, работая тем самым на общую концепцию преодоления времени. Другими словами, «окна» в бунинском тексте связаны с темой «наполняемости» жизни, «диалогов», ее составляющих.
Иные аспекты и стороны призваны обозначить образы деревьев, также достаточно ярко представленные здесь и традиционно обладающие богатым символическим содержанием.
На самом деле, Арсеньев не случайно очень остро, лично переживает особую красоту и особую жизнь окружающих его деревьев, вступает ними в особое общение, поддается их власти. Один из самых ярких эпизодов, открывающих тему «дерева» в книге, связан с воспоминаниями о бывшем родовом поместье, проданном и заброшенном новыми владельцами, пребывающем в пленительном запустении: «А сад за домом был, конечно, наполовину вырублен, хотя все еще красовалось в нем много вековых лип, кленов, серебристых итальянских тополей, берез и дубов, одиноко и безмолвно доживавших в этом забытом саду свои долгие годы, свою вечно юную старость, красота которой казалась еще более дивной в этом одиночестве и безмолвии, в своей благословенной, божественной бесцельности. Небо и старые деревья, у каждого из которых всегда есть свое выражение, свои очертания, своя душа, своя дума, – можно ли наглядеться на это? Я подолгу бродил под ними, не сводя глаз с их бесконечно разнообразных вершин, ветвей, листьев, томясь желанием понять, разгадать и навсегда запечатлеть в себе их образы» (6, 86).
Почему нельзя наглядеться на старые деревья, откуда это томительное желание «понять, разгадать и навсегда запечатлеть в себе их образы»? Может быть, от глубинно осознаваемой аналогии с собственно человеческим существованием, с его тайной?
Дерево, древнейший символ жизни, эквивалент бессмертия, вероятно, в наибольшей степени воплощает для человека аспект «живого» в природе и космосе, чрезвычайно значимый в человеческом самоопределении и напрямую с ним соотносимый. Именно так прочитывается фрагмент о расцветающем дереве: «Удивителен весенний расцвет дерева. А как он удивителен, если весна дружная, счастливая! Тогда то незримое, что неустанно идет в нем, проявляется, делается зримым особенно чудесно. Взглянув на дерево однажды утром, поражаешься обилию почек. <…> А еще через некий срок внезапно лопаются почки – и черный узор сучьев сразу осыпают несметные ярко-зеленые мушки. А там надвигается первая туча, <…> свергается первый теплый ливень – и опять, еще раз совершается диво: дерево стало уже так темно, так пышно <…> раскинулось крупной и блестящей зеленью так густо и широко, стоит в такой красе и силе молодой крепкой листвы, что просто глазам не веришь. <…> Нечто подобное произошло и со мной в то время» (6, 92–93).
Тема «живого» в природе, связанная с образами деревьев, усилена тем еще, что здесь ярче других как «спутница» героя представлена вечнозеленая ель. Любопытно, что полнота и зрелость древесной «жизни» измеряется в «Жизни Арсеньева» вполне человеческой мерой – веком, то есть тем временным пространством, которое отпущено человеку на земле. В книге речь идет преимущественно о вековых, столетних деревьях: «красовалось много вековых лип» (6, 86); «великолепный столетний клен» (6, 85); «наша заветная столетняя ель» (6, 99); «цвела и сладко пахла столетняя липа» (6, 131). Более того, посягательство на такое дерево, вырубка его может означать вероятную близкую смерть. Подобным образом воспринимается рассказ о смерти приказчика, убитого «деревом, которое, по его распоряжению, рубили в саду» (6, 85).
Такое впечатление усиливается еще за счет того, что перед нами на самом деле даже не рассказ, а восстановленная памятью картина, представившаяся тогда Арсеньеву и уже навсегда оставшаяся в его воображении: «большой старый сад, <…> перекресток двух аллей и на нем – великолепный столетний клен, который раскинулся и сквозит на ярком и влажном утреннем небе своей огромной раскрытой вершиной <…> и в могучий, закаменевший от времени ствол которого <…> все глубже врубаются мужики, <…> меж тем как приказчик, засунув руки в карманы, глядит вверх на вздрагивающую в небе макушку дерева. <…> А дерево вдруг крякнуло, макушка внезапно двинулась вперед – и с шумом, все возрастая в быстроте, тяжести и ужасе, ринулась сквозь ветви соседних деревьев на него» (6, 85).
А растущие – живущие – деревья, и это также очень важно для Бунина, всегда устремлены в небо: «Небо и старые деревья» (6, 86); «…наша заветная столетняя ель, поднимающая свою острую чернозеленую верхушку в синее яркое небо» (6, 99); «Необыкновенно высокий треугольник ели <…> по-прежнему возносился <…> в прозрачное ночное небо, где теплилось несколько редких звезд, <…> настолько бесконечно далеких и дивных, истинно Господних, что хотелось стать на колени и перекреститься на них» (6, 120); «… великолепный столетний клен, который раскинулся и сквозит на ярком и влажном небе своей огромной раскрытой вершиной» (6, 85).
Вертикальность формы, а также одновременная принадлежность трем мирам[159]159
См. об этом: Керлот Х. Э. Указ. соч.; Мифы народов мира. Т. 1; и др.
[Закрыть] обеспечивают дереву одно из первых мест среди символов космической целостности, согласованности, взаимосвязи различных аспектов бытия. Тем самым бунинское дерево очень органично включается в «четверичную» модель мира и жизни, его составляющей, проявляя по-своему устремленность земли к небу, извечную их взаимообращенность. Существенна как «вершинная» жизнь деревьев, так и их «укорененность» на земле (в земле!), их «бесконечно разнообразные ветви, листья», стволы, их цветы, сладкий запах и т. п.
Особая включенность древесной «жизни» в человеческий мир героя достигается не за счет ее антропоморфизации, это слишком бы упростило бунинскую концепцию, разрушило бы органику связей человека и природы. Речь идет о таком типе единства, который предполагает «нераздельность и неслиянность» природного, космического и собственно человеческого. «Живая данность» «картин с деревьями» «прорастает», как мы пытались показать, в подтекстовый сюжет, связанный с пребыванием человека уже в пространстве культуры, преобразующего с помощью ее символов и мифологем переживания природной реальности во фрагменты собственной.
Завершающим тему «деревьев» становится эпизод, когда Арсеньев, потеряв Лику, в состоянии тяжелейшего душевного кризиса возвращается к себе в Батурино. И как проекцию своей разрушенной жизни он находит во внешнем мире следы запустения и разорения: «все старое, какое-то заброшенное, бесцельное»; видит, как «бесцельный холодный ветер гнет верхушку заветной ели, торчащей из-за крыши дома, из жалкого в своей зимней наготе сада» (6, 285). Перед нами и фрагмент природной реальности, сохраняющей свою автономность (картина начала зимы), и одновременно проявлен-ность в окружающем мире экзистенциальной ситуации тупика, крушения надежд, когда герой испытывает реальную угрозу сломаться, подобно «верхушке заветной ели», совсем недавно еще столь гордо и независимо возносящейся «в прозрачное ночное небо».
И, конечно, совершенно особое место занимает в жизни Алексея Арсеньева луна. Она выделена среди других небесных светил. Если солнце, солнечный свет выступают обычно в качестве примет, характеристик, образов внешнего, природного мира, то луна непосредственно, впрямую и очень интимно приближена к герою, впущена в его человеческий мир.
Страницы, посвященные созерцанию реальности в лунном свете, «в лунном дыму» и «общению» героя с луной, не только поэтичны, но и концептуально значимы в тексте. Уже упоминалось, что переход Арсеньева из младенчества в более взрослую жизнь ознаменован появлением «бледной и грустной осенней луны», показавшейся ему очень близкой, понимающей и как будто бы испытывающей те же «несказанно-сладкие и горестные чувства», что и он сам. Это начало «лунного сюжета», который обретает в книге выраженный и в определенном смысле завершенный характер, органично проецируется в эстетико-философский план произведения, обогащая его, привнося в него свою долю художественной выразительности.
Отношение к луне настолько интимно, лично, что иногда возникает совершенно несвойственный Бунину при изображении явлений природы эффект ее очеловечивания, антропоморфизации. Луна в бунинском мире может «стоять и глядеть», «покорно следовать» за героем, «обходить кругом весь сад», «ходить по-летнему», светиться «белизной лица», показывать, как «все больше грустнел и туманился» ее «бедный, слегка склоненный набок» лик (6, 159); быть «теплой и золотистой» (6, 130); открывать «красоту деревенской ночи, родных окрестных полей, родной усадьбы», «мерцающих в небесной высоте редких лазурных звезд» (6, 25), преображать реальность и быть одновременно «давно знакомой» (6, 120).
Подобная разработанность в тексте «лунного поведения» отнюдь не разрушает органического стиля книги, хотя и акцентирует, доводит до предельной для художника степени принцип феноменологической соединенности субъекта и объекта[160]160
См. этом: Мальцев Ю. Указ. соч.
[Закрыть]. Но главное, что разнокачественной проявленностью «луны» в жизненном мире Арсеньева достигается возможность наполнить, расширить этот мир – и не только космически, но и мифологически.
«Луна» входит в арсеньевский мир прежде всего для того, чтобы сопровождать героя в его путешествии по жизни. Эта функция сопровождения так или иначе заявлена и прочитывается практически в каждом «эпизоде с луной». Но с наибольшей силой она проявилась, пожалуй, в одном из самых поэтических и совершенных фрагментов книги – когда речь идет о «выходе» героя в «светлое безмолвное царство лунного сада» летней ночью. Трудно удержаться от того, чтобы процитировать – пусть с неизбежными купюрами – этот сам за себя говорящий текст: «Пустая поляна перед домом была залита сильным и странным светом. Справа, над садом, сияла в ясном и пустом небосклоне полная луна с чуть темнеющими рельефами своего мертвенно-бледного, изнутри налитого яркой светящейся белизной лица. И мы с ней, теперь уже давно знакомые друг другу, подолгу глядели друг на друга, безответно и безмолвно чего-то друг от друга ожидая. <…> Потом я шел вместе со своей тенью, <…> и луна покорно следовала за мной. Я шел, оглядываясь, – она, зеркально сияя и дробясь, катилась сквозь черный и местами ярко блестящий узор ветвей и листьев. <…> Я стоял, глядел – и луна стояла, глядела. <…> И так мы обходили кругом весь сад. Было похоже, что и думаем мы вместе – и все об одном: о загадочном, томительно-любовном счастье жизни» (6, 120–121).
Контрастируя своей «полнотой» и «самодостаточностью» как с «пустой поляной», так и «пустым небосклоном», луна в то же время их соединяет, заливая «сильным и странным светом» земное пространство и сияя в небесном. Тем самым луна становится для героя как бы посредником между небом и землей – что вычитывается также и из других эпизодов – и эта роль обеспечивает ей естественное вхождение в его человеческий мир («мы с ней теперь уже давно знакомые друг другу»; «Было похоже, что и думаем мы вместе»). Понятно, почему именно луна занимает такое место жизни Арсеньева – выбрано небесное светило, символизм которого органичен для художественной философии книги.
Близость «лунного» и человеческого состояний (6; 120, 158, 209), а точнее проекция луны – с ее вечной изменчивостью, тягой к полноте воплощения (от месяца к полной луне) и совершенным освобождением от него – в жизненное пространство героя – по-новому представляет в книге тему творческой личности, творческого поведения, творчества в целом. Не случайно в книге повторяются эпизоды, когда именно лунный свет, лунная ночь активизируют творческую деятельность героя: «Сколько бродил я в этом лунном дыму. <…> Сколько юношеских дум передумал, сколько твердил вельможно-гордые Державинские строки: “На темно-голубом эфире / Златая плавала луна”» (6, 101); «И опять наступили лунные ночи, и я выдумал уже совсем не спать по ночам, – ложиться только с восходом солнца, а ночь сидеть при свечах в своей комнате, читать и писать стихи, потом бродить по саду» (6, 129); «…ночь, оказывается, лунная: за мутно идущими зимними тучами мелькает, белеет, светится бледное лицо. <…> Я до боли держу голову закинутой назад, не свожу с него глаз и все стараюсь понять, <…> какое оно? Белая маска мертвеца? Все изнутри светящееся, но какое? Стеариновое? Да, да, стеариновое! Так и сказать где-нибудь!» (6, 235).
Не случайно и то, что реальная луна соседствует в тексте с луной поэтической: трижды поэтическая луна появляется в цитируемых здесь стихотворных отрывках Державина, Пушкина, Фета:
На темно-голубом эфире
Златая плавала луна… (6, 101).
«Ночью же тихо всходит над нашим мертвым черным садом большая мглисто-красная луна – опять звучат во мне дивные слова:
Как привидение, за рощею сосновой
Луна туманная взошла…» (6, 127).
И, наконец:
«За горами, лесами, в дыму облаков,
Светит пасмурный призрак луны» (6, 214).
Перед нами не только демонстрирование верности художника вполне определенно прочерченной здесь поэтической традиции.
Так проступает более широкая тема творческой преемственности, свернутая в диалог конкретных поэтических фрагментов. «Вельможно-гордая» интонация державинских строк сменяется гениальной простотой и задушевностью пушкинского слова, а завершается эта своеобразная перекличка импрессионистическим стихом Фета, прямо обращенным в поэзию, в литературу XX столетия.
Луна способна своим светом преображать окружающий мир, высвечивать фантастические, а, может быть, самые реальнейшие, существеннейшие его стороны, создавать иную реальность, и эти ее свойства также естественным образом коррелируют с темой творчества и творческого поведения личности: «Помню какую-то дивную лунную ночь, то, как неизъяснимо прекрасен, легок, светел был под луной южный небосклон. <…> Отец спал в такие вечера не в доме, а на телеге под окнами, на дворе. <…> Мне казалось, что ему тепло спать от лунного света, льющегося на него и золотом сияющего на стеклах окон, что это высшее счастье спать вот так» (6, 25).
Кроме того, бунинский текст, конечно, имеет в подтексте не только эти значения, но всю многозначность смыслов, связанных с мифологемой луны, не разнимая эти смыслы, а соединяя их в органическое единство.
Во-первых, творчество, искусство в бунинском мире не просто средство самовыражения, реализации личности, оно имеет глубинный экзистенциальный смысл, это, говоря словами Р.-М. Рильке, «лишь еще один способ жить»[161]161
Рильке Р.-М. Новые стихотворения. Новых стихотворений вторая часть. М., 1977. С. 427.
[Закрыть]. И в этом плане «лунное сопровождение» Арсеньева есть «пластическое выплескивание» темы жизни, продолжающейся в творчестве и продолжающей творчество (сравните творческую активность героя при луне и символизм луны, связанный с биологическим, жизненным циклом от рождения до смерти[162]162
См.: Славянская мифология. М., 1995. С. 245–247.
[Закрыть]).
Во-вторых, луна, столь непосредственно вошедшая в мир человека, может означать и означает, имея в виду также ее традиционный символизм, столь же непосредственное и одновременное присутствие в этом мире любви (аспект женского) и смерти, боль и непереносимость такого непременного присутствия можно вынести только с помощью памяти и творчества.
Такая соединенность смыслов, обозначенная в тексте «лунной» темой, прочитывается не просто в отдельных эпизодах, она прямо связана с основным пафосом и философией книги. Приведем два примера.
Первый, уже упоминаемый, связан с «пушкинским сюжетом»: «Ночью же тихо всходит над нашим мертвым черным садом большая мглисто-красная луна – и опять звучат во мне дивные слова:
Как привидение, за рощею сосновой
Луна туманная взошла. —
И душа моя полна несказанными мечтами о той, неведомой, созданной им и навеки пленившей меня, которая где-то там, в иной, далекой стране, идет в этот тихий час —
К брегам, потопленным шумящими волнами…» (6, 127).
Здесь, как мы видим, образ природы и поэтический образ, разомкнутый в «любовный контекст», соединены воедино, как соединены для героя жизнь и творчество.
Или же Арсеньев вспоминает: «По вечерам в низах сада светила молодая луна, таинственно и осторожно пели соловьи. Анхен садилась ко мне на колени, обнимая меня, и я слышал стук ее сердца, впервые в жизни чувствовал блаженную тяжесть женского тела» (6, 1 15), – и при этом его любовные чувства к Анхен оказываются навсегда смешаны с переживанием смерти Писарева, придающим этим чувствам особую пронзительность и остроту. Сюжет вечного соприсутствия любви и смерти, трагичность и неразрешимость которого действительно возможно преодолеть только в творчестве, в полной мере проверен всей судьбой героя и с особой силой утверждается в финале книги.
Итак, исследуя «Жизнь Арсеньева» в выбранном нами аспекте, мы попытались не только проанализировать принципы формирования «пространственного словаря» и развертывания пространственной формы в книге, но и понять, какое пространство обретает герой в процессе своего «жизнеустроения» и как это обретенное, освоенное и обжитое им пространство связано и соотносится с сущностью и законами самой человеческой жизни. Обращаясь к напряженной экзистенциальной проблематике, художник в своих попытках ее разрешения следует глубинной архетипической интуиции «устроения» жизни и опирается на такую его модель, при которой преодолевается центральное положение субъекта и ничто уже не может постигаться в качестве ему противостоящего. Выстраивается жизненный мир – пространство, где не существует границ между внутренним и внешним, где нет «разрывов», где все связано, все едино, все целостно. Опыт жизни Арсеньева как переживание им «единого» и «всюду присутствующего» пространства («Нет никакой отдельной от нас природы, <…> каждое движение воздуха есть движение нашей собственной жизни») можно сопоставить с поэтическим мироощущением Р.-М. Рильке, который оказался одним из самых «адекватных» эпохе выразителей ее экзистенциального состояния:
В основу онтологии и мифологии такого пространства кладется взаимоотношение четырех «составляющих», четырех модусов жизни – земного и небесного, смертного и Божественного. По типу это взаимоотношение «близости», которая сближает, но не смешивает «составляющие, направляет их в единство, но не отрицает автономии ни одной из сторон»[164]164
Подорога В. А. Указ. соч. С. 254.
[Закрыть]. Ориентация Бунина на такую модель выдает в художнике тоску человека XX столетия, пережившего трагизм и катастрофизм «разрывов» разного рода, по утраченной целостности, а также включает его вполне определенно в контекст философских исканий эпохи, связанных с именами М. Хайдеггера, К. Юнга, Р. Отто и других, которые так или иначе прибегали в своих построениях к четверичной структуре «мирового»[165]165
См. об этом: Подорога В. А. Указ. соч. С. 254
[Закрыть].
В рамках выбранной автором модели художественно обоснованной и логичной представляется система тем, мотивов и образов-доминант, обеспечивающая развертывание такой модели в тексте.
Сквозной в этой системе и в определенном смысле формирующей ее становится тема пути, традиционнейшая для литературы, но решенная Буниным новаторски, оригинально.
С одной стороны, эта тема позволила, как мы показывали в первой части главы, организовать, мотивировать все многочисленные «внешние» перемещения Арсеньева, отвечающие его кочевой страсти, позволила апеллировать к широким и самым разнообразным пространствам, составившим общее «большое путешествие». С другой – художник, создавая книгу о жизни своего героя, органично вывел тему пути в область метафорических значений, связанных с толкованием жизни как путешествия, плавания, снабдив, правда, при этом традиционную метафорику собственной смысловой «подцветкой» (путешествия повышают «чувство жизни») и намеренно по причинам, вызванным оторванностью от родины, обострив национальный аспект темы.
Вспомните эпизод, когда Арсеньев видит в церкви странника, восстанавливает во всех ярких подробностях его образ и у него навертываются на глаза слезы – «от неудержимо поднимавшегося в груди сладкого и скорбного чувства родины, России» (6, 246). Между тем это только то традиционное, от чего отталкивается художник, давая возможность «узнавать», чтобы идти в своей концепции дальше.
Бунинский «путь» невозможно и не нужно представлять линейно и последовательно, как ряд сменяющих друг друга отрезков. Потребность восстановления целостности диктует этому пути свою траекторию и свои «параметры»: такое движение, как уже отмечалось, осуществляется всегда в неизменном «присутствии» и в пределах «четырех»: земного и небесного, смертного и Божественного – и одновременно всегда оставаясь «между» ними. Отсюда и ощущаемая героем потребность в «двух домах», и стремление выйти за пределы замкнутых пространств и ограничивающих человеческие «простирания» состояний, и способность ощутить «продолжения» собственной жизни за границами своей судьбы, и в то же время поразительное ощущение своего места в мире, отказ от претензий на антропоцентристскую роль. Результатом такого пути и станет «свое», уникальное пространство жизни, в котором каждый раз общепринятая топология трансформируется так, что самое далекое может быть самым близким и наоборот, как это случилось в книге с Арсеньевым.
Выстраивая такую концепцию жизни, Бунин, как мы видим, несмотря на многие философские опоры, с последовательностью убежденного человека и художника сохраняет за жизнью автономность, суверенность, свободу от философских построений. «Жизнь во всех ее планах имеет свою иерархию ценностей, которая не может быть ни включена, ни подчинена какой-либо философской или религиозной иерархии ценностей. <…> Односложное словечко, даже междометие, произнесенное другим существом, может оказаться “томов премногих тяжелей”, может заставить забыть всю усвоенную философию и в то же время ощутить то, что и не снилось философии. Мимолетное виденье может все перевернуть, а философски-фундированная реальность может рассеяться перед лицом питаемой жизнью иллюзии»[166]166
Левин И. Соч.: в 2 т. М., 1994. Т. 1. С. 30.
[Закрыть], – этими словами одного из философов XX в. И. Левина уместно, на мой взгляд, прокомментировать суть открытий Бунина-художника. Жизнь надо проживать – самой формой книги, воссоздающей пространство «проживаний», стирающих грань между «я» и «не-я» – писатель показывает это, именно показывает, а не объясняет, не рассказывает. И если во «встречах» с реальностью человеческой субъективности у Бунина отводится скорее пассивная роль, о чем уже говорилось ранее, то «показывание» этих «встреч», напротив, требует особой активности «я», обусловленной стремлением к максимальной воплощенности в художественной форме.
И здесь открывается еще одна важная сторона концепции. Не стоит забывать, что перед нами не просто герой, проживающий в воспоминаниях свою жизнь, а художник, возвращающийся в прошлое, занятый собственным жизнеописанием, пишущий автобиографический текст. И главная задача, перед ним стоящая, – это преодоление власти времени, «дление» жизни «пространством» создаваемой им книги. Вспомните, как начинается произведение: «Вещи и дела <…> написаннии и же яко одушевлении» (6, 7). Тем самым экзистенциальная проблематика «Жизни Арсеньева» замкнута и непосредственно выходит в сферу художественного творчества, искусства – и не просто через сюжетно-фабульную сторону книги, а в глубинной своей сути. Эстетическая активность автора обнаруживает, по крайней мере, два аспекта.
Проживание фрагментов как бы вновь развертывающейся жизни является наряду с экзистенциальным и собственно эстетическим опытом, поскольку непосредственное (= мистическое) общение с феноменальной реальностью, с ее тайнами, имеет целью – может быть, прежде других – извлечение и созидание прекрасных и завершенных форм как «оправдание» этой реальности. Тема предельно сфокусирована в главке, где речь идет о «набирании» начинающим художником впечатлений. И в данном случае вполне можно ограничиться хрестоматийными примерами: «…нищий <…> взглядывал и вдруг поражал: жидко-бирюзовые глаза застарелого пьяницы и огромный клубничный нос – тройной, состоящий из трех крупных, бугристых и пористых клубник. <…> Ах, как опять мучительно-радостно: троиной клубничный нос!» (6, 233); «…вдруг вижу: за стеклянной дверцей кареты <…> сидит, дрожит и так пристально смотрит, точно вот-вот скажет что-нибудь, какая-то премилая собачка, уши у которой совсем как завязанный бант. И опять, точно молния, радость: ах, не забыть – настоящий бант!» (6, 231).
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































