Текст книги "Проза И. А. Бунина. Философия, поэтика, диалоги"
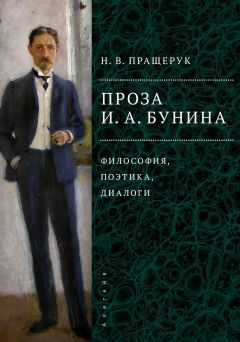
Автор книги: Наталья Пращерук
Жанр: Прочая образовательная литература, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Во-первых, при всей близости суходольцам и при всем понимании того, насколько порабощающим может быть влияние родовых структур на человека, автор «Суходола» осознает и показывает гибельность «культового» отношения к своему прошлому, закрывающего возможность подлинного приближения к нему и разумного использования его уроков. В таком отношении к традициям собственной культуры он усматривает зерна ее будущей катастрофической судьбы. В этом плане «Суходол» воспринимается как произведение пророческое – и не только о гибели дворянской усадьбы, но и о разрушительных трансформациях, грозящих всей национальной культуре. Отсюда эстетика «длящегося умирания», определившая выстраивание художественного мира в книге.
Во-вторых, при таком рассмотрении российская проблематика включается в проблематику судеб культуры в целом. Вспомним, что в «Тени птицы» речь идет о «Полях Мертвых», то есть, другими словами, художник полагает и показывает: продолжение жизни в культуре оплачивается ее смертью, разрушением в фактическом, историческом времени, а Суходол в этом контексте слишком «жив» еще, чтобы стать настоящим вневременного пространства культуры. Не случайно позднее, в 1930 г., когда Бунин уже считал судьбу русской культуры во многом исторически завершившейся, он создает цикл путевых этюдов «Странствия», в котором, наконец, обретает свою Россию. Один за другим возникают ее лики-«монастыри: Данилов – в Москве, Макарьевский – на Волге, монастырь Саввы с собором пятнадцатого века – Троицкая лавра; старинные поместья: Измайловская вотчина Алексея Михайловича, Троицкое-Румянцево, Остафьево, где кабинете Карамзина под стеклом лежат вещи Пушкина, и другие, не столь знаменитые, но столь же дорогие памятливому русскому сердцу места»[110]110
См.: Степун Ф. Иван Бунин // И. А. Бунин. Собр. соч.: в 8 т. Т. 1. С. 9–10; Его же. И. А. Бунин и русская литература // Возрождение. 1951. № 13. С. 168–175.
[Закрыть]. С той же интонацией своего, русского и российского как уже навсегда обретенного и возвращенного вневременному написаны и «Жизнь Арсеньева», и «Темные аллеи». Такую трагически-утверждающую закономерность обретения традиций своего места в пространстве культуры открывает Бунин-художник рассмотренными нами произведениями 1910–1920-х гг.
Глава 3
Пространство жизни в книге «Жизнь Арсеньева»
§ 1. Главная книга писателя«Жизнь Арсеньева» – главная книга И. А. Бунина. «При невеликом своем объеме <…> она обняла собою все написанное им до нее»[111]111
Саакянц А. Проза позднего Бунина // И. А. Бунин. Собр. соч.: в 6 т. Т. 5. М., 1987. С. 582.
[Закрыть], стала квинтэссенцией и, насколько это возможно в одном произведении, наиболее полным воплощением художественной философии писателя, вершиной его мастерства.
Уже названием книга обращена к актуальным философским и мироотношенческим идеям эпохи, выдает феноменологическую и экзистенциальную направленность авторской позиции. Смысл названия как некой исходной точки в формировании и прочитывании концепции проясняется при сопоставлении «Жизни Арсеньева» с кругом произведений, названных сходным образом. Русская литература прошлого века запомнилась заголовками несколько иного рода: «История Пугачева», «Обыкновенная история», «История моего современника», «Былое и думы», «Герой нашего времени», «Обломов», «Семейная хроника», «Детские годы Багрова-внука» или «Жизнь и похождения Т. Тростникова», «Житие одной бабы» и т. п. Если «жизнь» выносится в заголовок, то в сопровождении с «похождениями» и «приключениями» или «поднимается» автором до «жития». В XX в. использование «жизни» в названиях литературных произведении значительно расширяется, что симптоматично, несмотря на разницу содержаний, связываемых в той или иной книге с этой категорией. Сравните: «Моя жизнь», «Жизнь человека», «Жизнь Василия Фивейского», «Жизнь Матвея Кожемякина», «Жизнь Клима Самгина», «Дни нашей жизни», «Чаша жизни», «Жизнь господина де Мольера», «Сестра моя, жизнь» и т. п.
Дело в том, что именно категория жизни стала означать для философа и художника XX в. то спасительное динамическое и разомкнутое пространство, где, наконец, оказалось возможным и достижимым преодоление классической оппозиции – разделенности мира «я» и «не-я», субъекта и объекта, сознания и материи, личности и бытия, души и космоса. Заголовки помянутых здесь произведений разных авторов есть знак общей устремленности художественного сознания к освоению новых, иных, чем в прошлом веке, принципов взаимоотношений человека и мира.
Показательно, что, создавая произведение на автобиографической основе, Бунин избегает и чеховского названия «Моя жизнь», как бы отметая с порога все попытки отождествления автора и героя-повествователя. Опровергая суждения ряда современников, воспринявших «Жизнь Арсеньева» как лирическую биографию самого писателя, он утверждал, что его книга автобиографична лишь на столько, на сколько автобиографично любое художественное произведение, в которое автор непременно вкладывает себя, часть своей души. Бунин называл книгу «автобиографией вымышленного лица»[112]112
Саакянц А. Проза позднего Бунина. С. 572.
[Закрыть].
Кроме того, при всей близости автора и героя, в названии задается определенная дистанция между ними, предполагается объективация личного опыта, его общезначимость, разомкнутость в область общих для всех проблем и ценностей. Может быть, поэтому художник не сохранил первоначального заголовка – «Книга моей жизни», а также посчитал избыточным, подобно М. Горькому или Л. Андрееву, вносить в название не только фамилию, но и имя героя, предполагающее заявку на особую автономность, интимность, исключительность воссоздаваемого «образа жизни». Думается, не случаен и отказ Бунина, так дорожившего личностно окрашенным проживанием каждого мгновения бытия, от абстрактного и несколько претенциозного «Жизнь человека».
Итак, предположим, исходя из названия, что категория жизни выдвигается автором на первый план. Подзаголовок «Юность» как напоминание о «генетических» корнях бунинского метода есть одновременно отсылка к родственной художнику толстовской традиции изображения человеческой души в ее текучести, изменчивости и обозначение иного подхода, иного видения мира в его прошлом и настоящем (не случайно название завершающей части трилогии Толстого у Бунина уходит в подзаголовок). Бунина интересует не определенная пора, эпоха человеческой жизни (сравните: «Детство», «Отрочество», «Юность», «Детские годы Багрова-внука» и т. п.), а жизнь как некая целостная реальность, «органическая целостность, внутри которой <…> нет различения материи и духа, бытия и сознания»[113]113
Концепция человека в философии жизни // Человек: Мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смерти и бессмертии. XIX век. М., 1995. С. 272.
[Закрыть].
Задачей художника не является также изображение полного или неполного биографического цикла, для него важна возможность, открываемая книгой, «пишущейся и переживаемой в процессе писания как жизнь», приобщения к тайне жизни, «вхождения» в эту тайну. Особенно дорогие, запомнившиеся моменты такого «вхождения» специально обозначены, выделены в тексте. Вот лишь немногие из них: «Может быть, и впрямь все вздор, но ведь этот вздор моя жизнь, и зачем же я чувствую ее данной вовсе не для вздора и не для того, чтобы все бесследно проходило, исчезало?» (6, 89); «…и все что-то думал о человеческой жизни, о том, что все проходит и повторяется, <…> но за всеми этими думами и чувствами все время неотступно чувствовал брата» (6, 91–92); «Пели зяблики, желтела нежно и весело опушившаяся акация, сладко и больно умилял душу запах земли, молодой травы. <…> И во всем была смерть, смерть, смерть, смешанная с вечной, милой и бесцельной жизнью!» (6, 105); «…все-таки что же такое моя жизнь в этом непонятном, вечном и огромном мире? И видел, что жизнь (моя и всякая) есть смена дней и ночей, дел и отдыха, встреч и бесед, удовольствий и неприятностей <…> есть беспорядочное накопление впечатлений, картин и образов, <…> есть непрестанное, ни на единый миг нас не оставляющее течения несвязных чувств и мыслей, беспорядочных воспоминаний о прошлом и смутных гаданий о будущем, а еще – нечто такое, в чем как будто и заключается некая суть ее, некий смысл и цель, что-то главное, чего уж никак нельзя уловить и выразить. <…> “Вы, как говорится в оракулах, слишком вдаль простираетесь…” И впрямь: втайне я весь простирался в нее. Зачем? Может быть, именно за этим смыслом?» (6, 152–153); «Ужасна жизнь! Но точно ли “ужасна”? Может, она что-то совершенно другое, чем “ужас”?» (6, 233); «Снова сев за стол, я томился убожеством жизни и ее, при всей ее обыденности пронзительной сложностью» (6, 238); «Жизнь и должна быть восхищением» (6, 261).
Авторская интенция, как бы «схваченная» этими отдельными высказываниями-воплощениями, напитана во многом идеями философии жизни. Сравните, например, приведенную здесь большую цитату из бунинского текста (6, 151–152) с рассуждением А. Бергсона: «Замысел жизни, единое движение, пробегающее по линиям, связывающее их между собою и дающее им смысл, ускользает от нас»[114]114
Бергсон А. Творческая эволюция // Человек: Мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смерти и бессмертии. XIX век. М., 1995. С. 336.
[Закрыть]. Жизнь не знает различения материи и духа (6, 91–92), совмещает полюсы бытия (жизнь – смерть, земное – небесное (6, 105)), воплощает, несет в себе творческую динамику этого бытия (6; 238, 261). Жизнь можно улавливать, постигать, вероятно, только с помощью «простираний» – интуиции, все новых «проживаний», а отнюдь не с помощью рациональных, логических операций (6, 153).
Далее, входя в текст книги, мы увидим, насколько оказалась созвучной Бунину-художнику надличностная направленность названной философии, онтологизация в ее трактовках таких утвердившихся понятий антропологии, как дух, память, жизнь. Сейчас нам важно наметить самые очевидные точки схождений.
Бесспорно, что Бунину, в отличие от Горького и Андреева, испытавших особенно сильное влияние ницшевского варианта философии жизни, более близки идеи той линии, которая представлена именами А. Бергсона (концепция интуитивного постижения жизни, разработка проблемы времени), В. Дильтея (герменевтическая направленность, обращенность к сфере исторического опыта, духовной культуры), отчасти С. Кьеркегора (тема широты сознания как формы экзистенции, отношение к смерти как к конститутивному элементу самой жизни – сравните его высказывание: «Мышление к смерти уплотняет, концентрирует жизнь»[115]115
См. об этом: Философский энциклопедический словарь. М., 1983. С. 732; Подорога В. А. Метафизика ландшафта: Коммуникативные стратегии в философской культуре XIX–XX веков. М., 1993.
[Закрыть]). Эта линия затем блестяще продолжена европейской и русской философией XX в. Книга поэтому обнаруживает интересные схождения, «ситуации встречи» Бунина и Гуссерля, Хайдеггера, Флоренского, Н. Лосского с его работой «Обоснование интуитивизма», Н. Бердяева, Г. Шпета и др. Писатель, творя в книге собственную художественную философию, достигает глубочайшего проникновения в мир человеческой субъективности, открывая новые универсальные качества этой субъективности, возможности ее подлинного бытия в мире. Чутко, силой потрясающей интуиции отзываясь на потребности современной культуры, Бунин в своем стремлении преодолеть разделенность «я» и «не-я» избирает в качестве центральной проблему времени как наиболее «беспощадного» к человеку измерения объективного.
«Жизнь Арсеньева» – это книга о прошлом, достаточно скрупулезно восстанавливающая детство и юность героя, его историю любви. Однако, как уже отмечалось, Бунин не придерживается последовательности событий, не стремится восстановить определенный исторический и биографический цикл (как в хрониках Аксакова), не выступает с концепцией определенной поры человеческой жизни (как Л. Толстой), не создает некий общенациональный миф на православной основе (как И. Шмелев). Его задача, если можно так сказать, философского свойства – достичь и запечатлеть «освобождение от времени» в аспекте главной проблемы всей книги – проблемы человеческой жизни.
Бунинская трактовка времени в «Жизни Арсеньева» достаточна широко обсуждалась в литературоведении[116]116
См.: Колобаева Л. А. Концепция личности в русской литературе рубежа XIX–XX вв. М., 1990; Альберт И. Д. Проблема памяти в системе этико-философских и эстетических взглядов И. Бунина // Вопр. рус. литературы. Львов, 1983. Вып. 1 (41). С. 113–120; Сливицкая О. В. Космос и душа человека. (О психологизме позднего Бунина) // Царственная свобода: О творчестве И. А. Бунина. Воронеж, 1995. С. 5–34; Заманская В. В. Русская литература первой трети XX века: проблема экзистенциального сознания. Екатеринбург; Магнитогорск, 1996; и другие работы о Бунине.
[Закрыть]. Наиболее современной представляется точка зрения Ю. Мальцева. Он сопоставляет «Жизнь Арсеньева» и «В поисках утраченного времени», усматривая сходство позиций Бунина и Пруста прежде всего в их отношении к памяти. Действительно, у того и другого художника мы находим «не воспоминание, а память, то есть некую совершенно особую духовную сущность, понимаемую художником как суть искусства и даже жизни (Пруст писал, что память – это не момент прошлого, а нечто общее и прошлому и настоящему, и гораздо существеннее их обоих, и что память, в отличие от воспоминания, дает не фотографическое воспроизведение прошлого, а его суть, и потому несет такую радость и дает такую уверенность, что делает безразличной смерть: все это мог бы повторить и Бунин)»[117]117
Мальцев Ю. Иван Бунин. 1870–1953. М., 1994. С. 304.
[Закрыть]. Память для него подобна тому особому сну, о котором говорится в финале «Жизни Арсеньева» и который воскрешает любимую женщину героя такой, какой она была «тогда, в пору <…> общей жизни и общей молодости», но с «прелестью увядшей красоты» на лице и «с такой силой любви, радости, с такой телесной и душевной близостью, которой не испытывал ни к кому никогда» (6, 288). Вот яркий бунинский образ памяти и творчества, дарующих в определенном смысле «безразличие к смерти».
Прошедшее для Бунина «не стало бывшим», оно заново переживается в момент писания, переводится во «вневременное измерение». Ю. Мальцев, исследуя в трансформациях повествовательной структуры феномен исчезновения «реального», «повествовательного» времени, реальной его последовательности, отмечает постоянно присутствующую в тексте диахронность, которая нередко заменяется треххронностью, когда «память охватывает одновременно два момента прошлого (событие и последующее воспоминание-переживание этого события) и соединяет их с настоящим воспоминанием об этих двух моментах прошлого глаголом настоящего времени “вспоминаю”»[118]118
Мальцев Ю. Иван Бунин. 1870–1953. С. 306.
[Закрыть]. Например: «Сколько раз в жизни вспоминал я эти слезы! Вот вспоминаю, как вспомнил однажды лет через двадцать после той ночи. Это было на приморской бессарабской даче» (6, 267). Или тот фрагмент в конце четвертой части, когда приезд великого князя в Орел в далекий весенний день юности Арсеньева (в конце прошлого века) сменяется похоронами великого князя на юге Франции несколькими десятилетиями спустя, описываемыми в настоящем времени: «Неужели это солнце, что так ослепительно блещет сейчас и погружает вон те солнечно-мглистые горы в равнодушно-счастливые сны о всех временах и народах <…> ужели это то же самое солнце, что светило нам с ним некогда?» (6, 187).
Кроме диахронности и треххронности, исследователь выделяет и использование Буниным антиципации, то есть многозначных деталей, намекающих на долженствующее произойти и подготавливающих его, а также употребление им будущего в прошлом (совершившегося будущего)[119]119
Там же. С. 307.
[Закрыть]. Например, при появлении в летнем ресторане «высокого офицера с продолговатым матово-смуглым лицом» упоминается о том, какую роль сыграет этот человек впоследствии в жизни Арсеньева.
Все эти приемы, трансформирующие хронотоп, точнее хронотип произведения в целом, призваны запечатлеть «время преодоленное», «выходы» сознания, человеческой субъективности в иное, подлинное измерение времени. Сравните: «Это совсем, совсем не воспоминание: нет, просто я опять прежний, совершенно прежний. Я опять в том же самом отношении к этим полям, к этому полевому воздуху, к этому русскому небу, в том же самом восприятии всего мира»[120]120
Там же. С. 306.
[Закрыть].
Бунин сам прекрасно понимал новый характер создаваемого им хронотопа. Об этом речь идет, например, в одном из разговоров с Г. Кузнецовой: «Говорили о романе, как <…> писать его новым приемом, пытаясь изобразить то состояние мысли, в котором сливаются настоящее и прошедшее, и живешь и в том, и в другом одновременно»[121]121
Там же. С. 307.
[Закрыть].
Следовательно, в «Жизни Арсеньева» мы вновь выходим к проблеме вытеснения хронотопа «топохроном», к проблеме «опространствливания» формы, поскольку «на месте исчезнувшего времени <…> оказывается новое дополнительное пространственное измерение»[122]122
Хоружий С. С. «Улисс» в русском зеркале // Д. Джойс. Улисс: в 3 т. Т. 3: Улисс: роман (ч. 3). Комментарии. М., 1994. С. 429.
[Закрыть].
Пространственная ориентация Бунина-художника здесь более чем очевидна и носит ключевой, организующий содержание и поэтику произведения характер. «Проработанность» пространства автором, его особое пристрастие к разного рода атрибутам пространственности ярко представлены, во-первых, внешней, словесно-фактурной и изобразительной, стороной художественного мира книги, во-вторых, определяют его структуру и выводят в конечном итоге к онтологии мирочувствования писателя.
Насыщенный и очень динамичный образ пространства сразу обозначается двумя ведущими сквозными темами: простора, широты, дали, беспредельности и ограниченности, замкнутости. Эти темы, взаимодействуя в острой оксюморонной сопряженности, формируют «пространственный словарь» текста, выдающий в бунинском означивании традиционную нетрадиционность. Слова-индексы и лексические блоки, с помощью которых складывается такой словарь, распределяются следующим образом: с одной стороны, это «пустынные поля»; «безграничное снежное море», летом – «море хлебов»; «даль полей»; «бездонное синее небо»; «поднебесный простор»; «поля, поля, беспредельный океан хлебов»; «поля простиравшиеся», «великий простор, без всяких преград и границ»; «на великих просторах»; «необозримая черная пашня»; «все было просторно»; «дали пустых окрестностей»; «дичь, ширь, пустыня»; «мир стал шире»; «река, пропадавшая вдали»; «бесконечные снежные и лесные пространства» и т. п.; с другой – лексика и образы, объединенные семантикой дома, обители, «родного гнезда»: «душа начинает привыкать к новой обители»; «простая, милая и уже знакомая юдоль»; «вечная небесная обитель»; «шел к дому»; «тихая обитель»; «отчая обитель»; «наш старый дом»; «сад за домом»; «в саду на балконе за чаем»; «уют, жилье»; «дом помолодел»; «разлука со всем родные гнездом»; «наше гнездо»; «заветное гнездо»; «возвращался домой»; «новое возвращение под отчий кров» и т. п.
Самое первое воспоминание Арсеньева также связано с пространственным образом: «Я помню большую, освещенную предосенним солнцем комнату, его сухой блеск над косогором, видом в окно на юг» (6, 9). И далее, при описании закрытых пространств, Бунин настойчиво, очень активно использует образ окна, он становится лейтмотивным, что дает основания говорить об опоре автора на традиционный символизм этого образа (окно как знак выхода за пределы, как символ любой коммуникации[123]123
См.: Керлот Х. Э. Словарь символов: [Мифология. Магия. Психоанализ]. М., 1994. С. 358–359 и др.
[Закрыть]) и обеспечивает органику взаимопереходов, сопряженности разных пространств и миров.
Простор, в свою очередь, актуализирует в мирочувствовании героя «зов пространств», «прорастает» в качества души Арсеньева, которые не раз прямо обозначены в тексте («чувство дали, простора», «вечная жажда дороги, вагонов», «кочевая страсть», «вот и я бродник», «хочу жить в кибитке», «олень кочующий», «радость от сознания возможности куда-нибудь поехать» и т. п.) и которые побуждают его все к новым и новым путешествиям и поездкам. В «Жизни Арсеньева» при сравнительно небольшом объеме книги огромное количество больших и маленьких перемещений: из Каменки в Батурино и Васильевское; из Батурино в Елец, Орел, Смоленск, Полоцк, Витебск, Малороссию, Петербург и Москву; из России во Францию. Тема «бега через Россию» и за ее пределы еще более расширяет и без того уже репрезентативный «пространственный словарь» текста: вводятся «дорожные» образы и впечатления, обширная лексика путешествий: «поэзия забытых больших дорог»; «вагоны “дальнего следования”»; «убеленный снежной пылью поезд»; «жаркое вагонное тепло»; «ждал на вокзале»; «провожал поезда на станции»; «толчок вагона»; «холодный вокзал»; «простор, белый вокзал»; «большой вокзал»; «на вокзале, в бесконечном ожидании поезда»; «вскочил в вагон»; «выскочил из вагона»; «в вагоне брезжит день»; «безлюдные станции и полустанки»; «боковая платформа»; «кинулся на платформу»; «пустился в странствия»; «ходил пешком, плыл»; «закатиться по большой дороге»; «скакать под вечер по большой дороге»; «погнал по большой дороге»; «ехал по большой дороге»; «вижу себя на полпути»; «дорога мучительно долга» и т. п.
«Кочевая страсть» «бродника» Алексея Арсеньева отчасти уравновешивается потребностью возвращения, и книга запечатлела их немало – более или менее радостных, более или менее отвечающих ожиданиям тоскующего по дому странника. Симптоматично, что роман завершается также возвращением домой, в Батурино, и контекст его имени – Алексей – актуализирующий мифологему возвращения в родной дом неузнанным, забытым (имеется в виду история странника Алексея, Божьего человека) дает основания толковать финал, соотнося его с художественным целым книги, не только конкретно-психологически, но и обобщенно, как горький авторский намек на обстоятельства и перспективы собственной судьбы, на свое возможное возвращение на родину, в том числе и в творчестве. Тем более мотив странности, коррелирующий со странничеством, прямо обозначен в связи с Арсеньевым, его призванием и образом жизни («странно гордый», «в странной роли», писательство – «самое странное из всех человеческих дел»).
Доминанта «пространственности» выявляется еще резче, если помнить, что перед нами книга в определенном смысле лирического плана, исследующая границы человеческой субъективности. Пространственные образы, являющиеся атрибутами, казалось бы, внешнего мира, «окружения» героя (если воспользоваться термином М. Бахтина), на самом деле составляют внутреннее пространство личности, реконструируемое памятью и связанное с определенным типом «обживания» реальности. Вместе с тем это не исключает разделения воссоздаваемого пространства на внешнее и внутреннее (при признании условности такого разделения), поскольку память удерживает не только картины реальности, но и специфику их восприятия, проживания, то есть то, что связано с собственно субъективностью и принадлежит только личности. Такие внутренние состояния и переживания нередко характеризуются, означиваются с помощью ярких пространственных образов: «Отрешалась тогда душа от жизни, с <…> грустной и благой мудростью, точно из какой-то неземной дали глядела она на нее, созерцая “вещи и дела” человеческие!» (6, 86); «Я одолевал воспоминание за воспоминанием, <…> и мне почему-то думалось: вот так когда-то, где-то, какие-то славянские мужики “волоком” переволакивали с ухаба на ухаб по лесным дорогам обремененные тяжкой кладью ладьи» (6, 283). Или такой диалог героя с братом, отмеченный пространственной метафорикой:
«– Все по-прежнему: “несет меня лиса за темные леса, за высокие горы”, а что за этими лесами и горами – неведомо, <…> какие же твои дальнейшие намерения?
Я ответил полушутя:
– Всякого несет какая-нибудь лиса. А куда и зачем, конечно, никому неизвестно. Это даже в Писании сказано: “Иди, юноша, в молодости твоей, куда ведет тебя сердце твое и куда глядят глаза твои!” – Ну, иди, иди» (6, 203).
Именно пространственная динамика выступает в качестве знака, аналога многих и многих изменений внутреннего мира Арсеньева. В этом плане Бунин ярко оригинален. Мы видим на протяжении всей книги, что жизненный мир героя созидается путем многообразнейших «расширений», «вхождений», «выходов», «простираний» и «опустошений». Текст перенасыщен такого рода примерами: «Постепенно входили в мою жизнь и делались ее неотъемлемой частью люди» (6, 15); «Бог в небе, в непостижимой высоте и силе, <…> это вошло в меня с самых первых дней моих» (6, 26); «Я перенес первую тяжелую болезнь, <…> что есть на самом деле как бы странствие в некие потусторонние пределы» (6, 42); «В ощущенье связи с былым, далеким, общим, всегда расширяющим нашу душу» (6, 56); «…оттого, что увезли брата, для меня как будто весь мир опустел» (6, 89); «Я шел на все – где-то там, вдали ждала меня отцовская молодость» (6, 174); «Вы <…> слишком вдаль простираетесь. <…> И впрямь: втайне я весь простирался в нее. Зачем? Может быть, именно за этим смыслом» (6, 153) и т. п.
Тем самым на уровне конкретной образности в определенной степени достигается столь важный для Бунина феноменологический эффект соединенности, неразрывности субъективного и объективного. В частности, «простор», осмысляемый почти по-хайдегге-ровски как «высвобождение мест»[124]124
Хайдеггер М. Искусство и пространство // Самосознание европейской культуры ХХ века: Мыслители и писатели Запада о месте культуры в современном обществе. М., 1991. С. 97.
[Закрыть], объединяет в тексте внешнее и внутреннее пространства, так как становится и атрибутом сознания, показателем его свободы, дает возможность царить в нем той открытости, которая обеспечивает органику перемещений, вхождений и присутствия там вещей, реальностей, смыслов. Не случайно в бунинском мире «простор» коррелирует с «пустотой». Причем «пустота» обычно не несет негативной семантики («светлая пустота», «благословенная пустынность»!), она «не ничто и не отсутствие»[125]125
Там же. С. 98.
[Закрыть]. Пустота «вступает в игру как ищуще-проектирующее выпускание, создание мест»[126]126
Там же.
[Закрыть], есть знак способности вобрать «входящее» и «являющееся» (сравните с бунинской строчкой из стихотворения о предчувствии, зарождении любви: «И был еще блаженно пуст / Тот дивный мир»). И здесь мы логично переходим в сферу сюжетостроения, структуры, композиции книги.
Отказавшись от традиционного сюжетостроения, Бунин тем не менее использует некоторые элементы классического хронотопа. Так, мотив путешествия в определенном смысле можно считать одним из организующих: каждая книга отмечена своими путешествиями, большими и маленькими, но неизменно имеющими значение решающих, поворотных событии в жизни героя. В самом начале, вспоминая раннее детство, «некоторые картины усадебного быта, некоторые события», Арсеньев замечает: «Из этих событий на первом месте стоит мое первое в жизни путешествие, самое далекое и самое необыкновенное из всех моих последующих путешествий» (6, 11). Это была «поездка, впервые раскрывшая <…> радости земного бытия» в форме коробочки «черной тугой» ваксы, а также «сапожек с красным сафьяновым ободком» и «ременной плеточки с свистком в рукоятке» (6; 11, 12). Она же оставила «глубокое впечатление» от увиденного «за решеткой в одном из <…> окон» обитателя «скучного желтого дома», «приоткрывшего» для ребенка «выход» в какой-то иной, жуткий и притягательный своей запретностью мир.
Потом была поездка в гимназию, на учебу, также очень важная для героя своими открытиями. Здесь, на Чернавской дороге, отживавшей свой век, герой «впервые почувствовал поэзию забытых больших дорог, отходящую в преданье русскую старину» (6, 56). Здесь, возле деревни Становой, он артистически пережил «ужас» встречи с воображаемыми разбойниками, которые как будто бы и вправду «не спеша идут наперерез <…> с топориками в руках» (6, 58), а возле города, бывшего некогда оплотом Руси, ощутил величие военных подвигов его жителей, первыми дававших знать Москве о нападении татар и первыми «ложившихся костьми за нее» (6, 59). Здесь же как контраст таинственно чарующему ощущению русской старины он увидел «еще никогда не виденный» поезд, похожий на «заводную игрушку» с домиками, «с быстрым и мертвым бегом колес» (6, 57). Но самое главное открытие Чернавской дороги отражено следующим признанием героя: «Несомненно, что именно в этот вечер впервые коснулось меня сознанье, что я русский и живу в России, а не просто в Каменке, <…> и я вдруг почувствовал эту Россию, почувствовал ее прошлое и настоящее, ее дикие, страшные и все же чем-то пленяющие особенности и свое кровное родство с ней» (6, 57). Для героя значимость происшедшего и пережитого в этом путешествии акцентируется дважды повторенным «впервые» в сочетании с «еще никогда виденный», а также обилием ярких, волнующих подробностей и картин, соединенных с подчеркнутой эмоциональностью, личностной окрашенностью оценок, определений. Например, «прежние колеи» Чернавской дороги «вид имели одинокий и грустный», поезд выглядел «очень странно и занятно», Становая представилась «таинственной и страшной», а особенности России, с которой герой отныне и навсегда связан «кровным родством», «дикими, страшными и чем-то пленяющими» (6; 56, 57). В третьей книге Арсеньев дважды проделывает тот же путь, до уездного города и обратно. Первое путешествие «за Надсоном» памятно ему, скорее, возвращением домой в ту страшную ночь, когда «бешено понесло <…> настоящим ураганом, молнии засверкали по тучам <…> – и хлынул обломный дождь, с яростным гулом секший <…> под удары уже беспрерывные, среди такого апокалипсического блеска и пламени, что адский мрак небес разверзался над нами, казалось, до самых предельных глубин своих» (6, 125). Между тем этот «ад и потоп», представленный со всей силой художественной экспрессии, лично не переживается героем, все ярчайшие подробности как бы фиксируются со стороны – душой, сосредоточенной на другом, на внутреннем, герой захвачен иным переживанием – весь он «в полной власти новой любви» (6, 125).
Во втором путешествии – «всю дорогу до города <…> мужественно-возбужденная душа» героя «неустанно работала над чем-то» (6, 134). Это «над чем-то» воспринимается как знак потребности «какой-то перемены в жизни», освобождения от чего-то, «стремления куда-то» (6, 134). Однако неопределенность внутренней работы оборачивается затем для Арсеньева вполне определенным результатом: «В этот вечер я впервые замыслил рано или поздно, но непременно покинуть Батурино» (6, 137). И этот результат есть кристаллизация потребности реализовать себя в художественном творчестве. Поэтому советы Балавина о необходимости всерьез заняться образованием и литературой Арсеньев воспринимает как «еще одно подтверждение своим тайным замыслам покинуть Батурино» (6, 140).
В четвертой книге, описывая отъезд из Батурино, герой придает путешествию именно тот статус, который отчасти уже «вычитывался» в предыдущих поездках и который никак не сводится только к внешним перемещениям в пространстве и перемене мест. Он воспринимает и трактует «самое большое» свое путешествие как метафору жизненного пути, жизни человеческой: «Когда пришел поезд, я <…> вошел в людный третьеклассный вагон с таким чувством, точно отправлялся в путь, которому и конца не предвиделось. <…> То чувство <…> было правильно – впереди ожидал меня и впрямь немалый, небудничный путь, целые годы скитаний, <…> существования безрассудного и беспорядочного, то бесконечно счастливого, то глубоко несчастного, словом, всего того, что, очевидно, и подобало мне» (6, 161).
Используя этот мотив, Бунин, как мы видим, включает себя в общекультурную и литературную традицию, реализующую в разных вариациях известную мифологему «жизнь – путешествие, плавание». Однако проживание «постоянного» для художника всегда сопряжено с уникальностью, единственностью личного опыта, связано каждый раз с конкретной и неповторимой жизненной ситуацией. Отсюда такое внимание к деталям, обставляющим путешествие: поразительные белизна и свежесть снега, «зимние дорожные запахи», «первый телеграфный столб», «третьеклассный вагон» с равнодушными пассажирами, «докрасна раскаленная» железная печка, «на весь вагон дышавшая пламенем», «сухой металлический жар», «березовый и чугунный запах» этого пламени, «сизо-белый снег» за окнами и т. п. А кроме того, Бунин включает себя в известную традицию с тем, чтобы ее так или иначе переписать, представить обновленной. И потому в пятой книге в разговоре с Ликой Арсеньев объясняет свою тягу к путешествиям, и это объяснение содержит уже собственно бунинскую трактовку: «Люди постоянно ждут чего-нибудь счастливого, интересного, мечтают о какой-нибудь радости, о каком-нибудь событии. Этим и влечет дорога. Потом воля, простор, <…> новизна, которая всегда празднична, повышает чувство жизни, а ведь все мы только этого и хотим, ищем во всяком сильном чувстве» (6, 260). Дорога утоляет жажду праздника, потребность в полноте и остроте проживания жизни, но требует все новых и новых расставаний с любимыми, близкими людьми и потому соединяет в себе радость освобождения, встречи с неожиданным и боль, муку, чувство вины.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































