Текст книги "Проза И. А. Бунина. Философия, поэтика, диалоги"
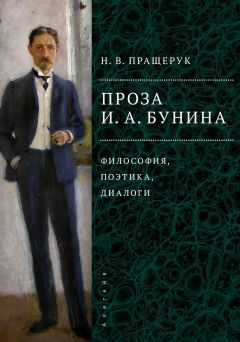
Автор книги: Наталья Пращерук
Жанр: Прочая образовательная литература, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Однако Бунин, как известно, был художником, для которого смерть никогда не означала конца жизни, напротив, для него, во-первых, полнота жизни, острота ее ощущения невозможны без присутствия смерти (в «Жизни Арсеньева» он напишет: «Не рождаемся ли мы с чувством смерти? А если нет, если бы не подозревал, любил ли бы я жизнь так, как люблю и любил?» (6, 7)). А во-вторых, жизнь может быть продолжена и после смерти. Он мог бы повторить за С. Кьеркегором: «Мышление к смерти уплотняет, концентрирует жизнь»[56]56
Цит. по: Подорога В. А. Метафизика ландшафта: Коммуникативные стратегии в философской культуре XIX–XX веков. М., 1993. С. 96.
[Закрыть]. В данном случае подобное мышление сориентировано на проблему судеб мировой культуры. И тогда оказывается, что здесь, на Полях Мертвых, в стране погибших цивилизаций, жизнь культуры подобно природно-космической, предстает в уплотненной, концентрированной форме. Отсюда такая повышенная, подчеркнутая и одновременно очень органичная, естественная «витальность» образного ряда, экспрессивно-выразительных средств, деталей, отсюда такая плотная предметность и «вещественность» стиля.
Жизнь культуры также не знает временных границ, временной последовательности и развертывается в пространство, имеющее собственную систему координат, знаков, свой «словарь». Нетрудно заметить, что оно организуется двумя ведущими темами – темой уже упомянутых кладбищ и темой храма. Не случайно в самом начале книги герой, соотнося собственный путь с путешествием к «святым городам», о котором говорится в Коране, вспоминает одну из лубочных картин, купленную им в Турции. На ней изображен «святой город, состоящий из одних мечетей, минаретов и надгробных столбиков» (3, 317). Затем эта картинка словно экстраполируется на весь последующий текст. Города, посещаемые и осматриваемые героем, «входят» в его мир, запоминаются ему прежде всего своими кладбищами, знаменитыми и безвестными могилами и, конечно, своими великолепными храмами и культовыми сооружениями.
Константинополь – город Великого кладбища Скутари и Ая-Софии; в Каире «полтысячи мечетей, а вокруг него, в пустыне, – сотни тысяч могил. Мечети и минареты царят надо всем» (3, 349); «вся Иудея – как могила», но главный ее город, Иерусалим, сосредоточил в себе еще и три святыни – храм Гроба Господня, Стену Плача и мечеть Омара; дорогие человечеству могилы – «маленькая крепость, где почиют Авраам и Сара – прах, равно священный христианам, мусульманам и иудеям» (3, 367); «гроб Мириам», «простой женщины из Назарета, венчанной высшею славой земной и небесной» (3, 384); «древность могилы Лазаря», о которой говорят «камни времен Ирода» (3, 385) и Парфенон, Баальбек, храм Рождества Христова в Вифлееме…
Перед нами не просто фактография путешествия, добросовестно, во всех подробностях, восстановленная героем. Эти «достопримечательности», системно представленные и сконцентрированные в одном тексте, носят, безусловно, знаковый характер. Храм и кладбище – два пространственных центра любой культуры, они составляют ее ядро, сердцевину, то, без его она жить не может. Сохранение могил – это продолжение жизни мертвых и непременное условие подлинной жизни живых. А храм означает соединение земного и небесного начал, устремленность человеческого духа к Богу, и действующий храм, даже при окружающем запустении, как это было в бунинской Иудее, свидетельствует (в той же степени, как и сохранение могил) о преодолении разрушающего характера времени, о возможности приобщения к вечности. Здесь, в местах, удаленных от суеты и призрачности жизни современных цивилизаций, эти закономерности функционирования культуры проступают особенно ярко и отчетливо. Бунин очень хорошо понимал и прекрасно показал это. Тем самым «смерть захватывается ритмами жизни и находится не вне, а внутри жизни, она вписана в жизненный цикл в качестве предела некоторого типа существования (но не существования вообще)»[57]57
Подорога В. А. Метафизика ландшафта: Коммуникативные стратегии в философской культуре XIX–XX веков. С. 99.
[Закрыть]. Такой принцип, как показывает художник, вполне применим не только к человеческой жизни, но и к жизни культуры. Поэтому в бунинском мире не выглядит кощунственно, например, надгробный павильон, который «весел»: «Весел даже надгробный павильон султана Махмуда – большой киоск под вековыми деревьями за высокой решеткой, отделяющий его от тротуара» (3, 330). Это и есть знак «предела некоторого типа существования, но не существования вообще». Не случайно за названным образом следует столь характерная реплика Герасима: «Султану везде хорошо» (3, 330).
Сама по себе характеристика «весел» также важна, поскольку несет отпечаток проявленности окружающей реальности в «жизненном мире» героя, конкретно означивает момент соединенности субъективного и объективного. (Сравните очень похожий пример из природно-космической жизни книги: «…над темно-лиловой равниной моря взошел оранжевый печальный полумесяц» (3, 342).)
Другими словами, мы подошли к рассмотрению вопросов о специфике и характере сохранения сознанием повествователя пространства культуры как непременного условия ее продолжающейся жизни. В конечном итоге «древность», которую «всем существом своим» ощущает герой, оживает перед нами благодаря усилиям его памяти, ее особым качествам и свойствам.
Только ощутив и воссоздав прошлое (а здесь это прошлое человечества, что придает бунинской концепции глобальный смысл) как «пребывающее настоящее» (Ю. Лотман), можно, по мнению автора, что-то понять в себе и в мире, ибо «сущности переживаются в настоящем»[58]58
Бубер М. Я и Ты // Квинтэссенция: филос. альманах. 1991. М., 1992. С. 301.
[Закрыть]. Поэтому энергия воссоздания, питающая весь текст цикла, в свою очередь порождена и аккумулируется деятельностью памяти. Повествователь обладает «бергсоновским» типом сознания, при котором «восприятие никогда не бывает простым контактом духа с наличным предметом: оно всегда насыщено дополняющими и интерпретирующими его воспоминаниями-образами. Воспоминание-образ, в свою очередь, причастно к “чистому” воспоминанию, которое оно начинает материализовать, и к восприятию, в которое стремится воплотиться»[59]59
Бергсон А. Материя и память // А. Бергсон. Собр. соч.: в 4 т. М., 1992. Т. 1. С. 243.
[Закрыть]. Сравните, как герой воспринимает то место Иордана, которое «помнит» искушения Христа дьяволом: «Мысли беспорядочны, смутны, но стремятся все к одному – связать то простое, что перед глазами, с страшным прошлым этой пустыни. Хочешь представить себе то, что доступно только Богу, – жизнь тех легендарных ханаанских городов, от которых уцелели лишь названия. Думаешь о знойно-мглистом Моаве и опять слышишь слова Второзакония: “И полуденную страну, и равнину долины Иерихона, город Пальм, до Сигора увидал Моисей. <…> И умер там, в земле Моавитской…” Думаешь об иерехонских бальзамах Клеопатры, о термах Ирода – и опять возвращаешься к искушению Иисуса от дьявола. <…> И теряешься в образах времен Рима, Византии, Омаров» (3, 396). Здесь предельно явлен, развернут механизм восприятия бунинского героя.
Все в бунинском мире живет, потому что имеет корни в прошедшем, извлекаемом памятью. При этом надо иметь в виду особый характер такого извлечения. Прошедшее не восстанавливается из последовательно добавляемых один к другому эпизодов, оно, или, точнее, его подлинность, освобождаясь от ограниченности историзма, «является», открывается, возвращается как бы отдельными воплощениями, обязательно при условии сопряжения с личным экзистенциальным опытом повествователя и в его «живом присутствии». По существу, весь текст «Тени птицы» есть серия «явлений» и «возвращений», блистательно завершенная в финальном рассказе образом «возвращения» Христа: «Тишина, солнце, блеск воды. Сухо, жарко, радостно. И вот Он, с раскрытой головою в белой одежде, идет по берегу, мимо таких же рыбаков, как наши гребцы. <…> Симон и Петр, “оставив лодку и отца своего, тотчас последовали за Ним”» (3, 410). М. Мамардашвили называл это качество стиля, правда, применительно сугубо к Марселю Прусту, «пластическим выплескиванием фундаментальных вещей»[60]60
Мамардашвили М. Лекции о Прусте: (психологическая топология пути). М., 1995. С. 123.
[Закрыть].
Пространство текста одновременно прозрачно и плотно, многослойно. В «живой данности» являющейся повествователю реальности присутствует целый «шлейф ретенций», связанных с многообразием религиозных, философских, историко-культурологических, мифологических, метафорических и символических смыслов. Картинка из воспринимаемого путешественником мира, не утрачивая своей материальности, таким образом, всегда таит возможность актуализации и развертывания смыслового содержания разного рода. Автор нередко показывает способы и механизмы такого развертывания. Он широко использует интертекстуальные диалоги в форме цитации и прямых отсылок к многочисленным источникам: «“Иерусалим, устроенный, как одно здание!” – восклицание Давида. И правда: как одно здание лежит он подо мною, весь в каменных купольчиках» (3, 363); «Мечеть Омара похожа на черный шатер какого-то тысячелетия назад исчезнувшего с лица земли завоевателя. И мрачно высятся возле нее несколько смоляных исполинских кипарисов… “Се оставляется вам дом сей пуст”…» (3, 365); «Зачем же так первобытно вторглась в этот божественный молитвенный чертог сама природа? Талмуд говорит. <…> Древние книги и легенд Иудеи и Аравии говорят. <…> Кабалистические книги говорят» (3, 376–377) и т. п.
При этом текст не теряет легкости и свободы, не создает впечатления перегруженности сведениями и фактами из истории и мифологии или цитатами: сознательная ориентация писателя на «чужое слово» выбирает форму изящной непреднамеренности, счастливой «случайности» невзначай явившегося откровения. Такой эффект достигается благодаря редкому артистизму художника, способности, которой он был наделен в большей степени, чем кто-либо другой (в этом он, пожалуй, сродни только Пушкину), чувствовать и понимать «чужое» как «свое»: «думаю я словами Корана…»; «вспоминаю я восклицание Давида…» и т. п. Г. Кузнецова приводит в своем дневнике такое очень характерное для Бунина признание: «Я ведь чуть побывал, нюхнул – сейчас дух страны, народа – почуял. Вот я взглянул на Бессарабию – вот и “Песня о гоце”. Вот и там все правильно, и слова, и тон, и лад»[61]61
Кузнецова Г. Указ. соч. С. 205–206.
[Закрыть]. Способность к перевоплощению рождает в тексте феномен «расширяющегося» сознания: повествователь, не утрачивая личностной определенности, удивительно пластичен по отношению к различным культурам и религиям, он органично ощущает себя в роли эллина и мусульманина, ветхозаветного человека и христианина. (Чуть позднее Бунин откроет для себя и в себе буддизм.)
В «Тени птицы» есть поразительные страницы, свидетельствующие о возможностях индивидуального человеческого сознания в «проживании» и возвращении настоящему прошлого всего человечества. Авторская интенция вполне очевидна: небытию противостоит реальность вечно пребывающего и каждый раз воссоздаваемого заново пространства культур. «Вот я стою и касаюсь камней, может быть, самых древних из тех, что вытесали люди! С тех пор, как их клали в такое же знойное утро, как и нынче, тысячи раз изменялось лицо земли. Только через двадцать веков после этого родился Моисей. Через сорок – пришел из берегов Тивериадского моря Иисус. <…> Но исчезают века, тысячелетия, – и вот братски соединяется моя рука с сизой рукой аравийского пленника, клавшего эти камни…» (3, 355) – это один из многих примеров конкретно обозначенной и художественно запечатленной ситуации именно «артистического» «выхода из истории», приобщения к бесконечности. Возвращение прошлого «вечному настоящему» сопряжено с «умножением» и собственной жизни героя «на много тысяч лет». (Ср. со стихотворением «Могила в скале», написанном в 1909 г. по впечатлениям от путешествия по Египту. В нем лирический герой, увидевший «живой и четкий след ступни» возле могилы, скрытой от посетителей пять тысяч лет, так передает свое ощущение «умножения» собственной жизни: «Был некий день, был некий краткий час, / Прощальный миг, когда в последний раз / Вздохнул здесь тот, кто узкою стопою / В атласный прах вдавил свой узкий след. / Тот миг воскрес. И на пять тысяч лет / Умножил жизнь, мне данную судьбою» (9, 319–320).)
Артистизм, как мы видим, порождает особую интенсивность, остроту созерцания. Переживания-припоминания повествователя заражают воспринимаемый им мир, и предметы реальности в определенном смысле утрачивают самодостаточность, выступая в качестве единиц «жизненного мира» героя. Создается единое пространство, в котором предметное бытие обнаруживает свою суть и объективную ценность только благодаря отнесенности к сознанию: «…Эти нищие, хромые, слепые и увечные на каждом шагу – вот она, подлинная Палестина древних варваров, земных дней Христа!» (3, 360–361); «Темным ветхозаветным богом веет в оврагах и провалах вокруг нищих останков великого города. Или нет – даже ветхозаветного бога здесь нет: только веянье Смерти над пустырями и царскими гробницами, подземными тайниками, рвами и оврагами» (3, 365) и т. п.
Отметим, что тенденция к развертыванию смыслового содержания, извлекаемого сознанием и памятью героя, органично соседствует с противоположной: картинки-развертки сжимаются нередко до «образных формул»: «Женщина кричит, предлагая подоить <…> козу и за грош напоить “сладким молоком” всякого желающего. И вся старина сарацинского Каира тонет в аравийской древности этого крика» (3, 349); «Где-то журчит по канальчикам вода – под однотонный скрип колес, качающих из цистерн. Этот ветхозаветный скрип волнует» (3, 360); «Несколько ветхозаветных олив раскидывались там и сям» (3, 374–375); «Темно-сизый фон неба еще более усиливал яркость зелени и допотопных стволов колоннады. И в пролеты ее ветхозаветно глядел пегий горный “талес”» (3, 401); «Первобытны эти милые голуби» (3, 322) и т. п.
Можно сказать, используя библейскую терминологию (к ней прибегал в свое время Джойс), что Бунин умеет видеть так называемые «эпифанические явления», то есть такие редкие явления, которые, «не выходя за свою чувственную оболочку, говорят или содержат знание о самом себе. И это есть истина»[62]62
Мамардашвили М. Указ. соч. С. 130. См. также: Хоружий С. С. Улисс в русском зеркале // Джойс Д. Улисс: в 3 т. Т. 3: Улисс: роман. Комментарии. М., 1994. С. 374: «Слово, обычно обозначающее явление Бога (имеется в виду слово “эпифания”. – Н. П.), у Джойса значит некий момент истины, эстетический аналог мистического акта, когда художнику внезапно открывается, “излучается” сама “душа” какого-то предмета, случая, сцены, притом не из области возвышенного – что существенно – а из самой обычной окружающей жизни».
[Закрыть]. Поэтому материальная конкретность изображения и культурологическая семантика сосуществуют в тексте не в качестве альтернатив, а по принципу «одно в другом». Для понимания природы бунинского текста может быть уместна богословская формула «неслиянно и нераздельно»: соединяясь, названные интенции не поглощают одна другую, но, «храня самостоятельность, не остаются разделенными»[63]63
Флоренский П. А. [Соч.: в 2 т. Т. 2]: У водоразделов мысли. М., 1990. С. 284.
[Закрыть].
Думается, сходный принцип определяет и сущность бунинского культурного символизма. Как обозначение позиции художника весьма показательно такое его «символистское» суждение о писателе А. Эртеле: «Живое чутье действительности научило его тому, что в основе всего видимого есть элемент невидимый, но не менее реальный, и что не учитывать его в практических расчетах значит рисковать ошибочностью всех расчетов» (9, 419). В самом деле, художнику были близки и понятны многие теоретические постулаты символистов. Вероятно, он подписался бы под такими высказываниями Вяч. Иванова: «символ – плоть тайны»[64]64
Иванов Вяч. Собр. соч.: в 6 т. Брюссель, 1974. Т. 2. С. 569.
[Закрыть]; «искусство разоблачает сознанию вещи как символы»[65]65
Там же. С. 538.
[Закрыть]; «символисты защищают реализм в художестве, понимая под ним принцип верности вещам, каковы они суть в явлении и в существе своем»[66]66
Там же. С. 539.
[Закрыть]. Однако символическая наполненность его произведений рождалась интенсивностью созерцания и проживания реальности (тем, что он назвал «живым чутьем действительности»), всегда сохраняющей для художника свою самоценность и тайну[67]67
См.: Этот вопрос частично рассмотрен в работе: Ю. Мальцева. Указ. соч. С. 135–138.
[Закрыть]. Отвергая интеллектуальную заданность, всякого рода эстетические нарочитости, Бунин, по замечанию П. Бицилли, «создал свой метод, который оказался прямой противоположностью методу символистов. Последние шли от слова к вещам, Бунин шел от вещи к словам»[68]68
Цит. по: Мальцев Ю. Указ. соч. С. 135.
[Закрыть].
Бунинский символизм «наоборот» с особенной выразительностью выявляется в «Тени птицы» группой повторяющихся образов, объединенных природно-космической семантикой – неба, водного пространства, ветра, луны и т. п., среди которых главенствует образ солнца. Бунин-художник, скорее, приверженец «лунной» и «звездной» тем в творчестве. Пожалуй, ни в одном из его произведений (может быть, только в «Братьях») не было много солнца и солнечного света. Динамика этого образа, его содержательная многослойность поразительны и впечатляющи, они создают в произведении, по существу, свой, «солнечный» сюжет. Многообразнейшее «поведение» солнца, его разные «лики» запечатлены в художественно-изощренном, но не утрачивающем органики бунинском языке: «веселые блики солнца», «радостный солнечный свет», «горячее солнце золотым потоком льется на меня сверху», «солнце потонуло в бледно-сизой мути», «горячее мутное солнце», «шафранный свет запада», «свет утреннего солнца ослепительно блещет», «солнечный туман»; «солнечное тепло», «жгучее…», «низкое…», «гаснущее…», «заходящее солнце», «странный свет без солнца», «алый отблеск жаркого заката», «предвечернее солнце», «серебристый полуденный свет» и т. п.
Тем самым «край ушедших цивилизаций», «Поля Мертвых» открываются путешественнику как «целая необозримая страна» ослепительного, обильного солнца, солнечного света и тепла. Этот оксюморонный подтекст (солнце – древнейший символ жизни), заданный уже самим названием, сохраняется и в окончательной редакции, ибо именно тень легендарной Птицы Хумай, соотносимая с солнцем по принципу контрастной нераздельности, выполняет в тексте функцию поэтической метафоры, трансформируясь в возможность победить смерть и забвение: «Кто знает, что такое птица Хумай? <…> это легендарная птица, и <…> тень ее приносит всему, на что она попадает, царственность и бессмертие» (3, 331). Так продолжена и заострена столь важная для Бунина тема вечной сопряженности, соприсутствия жизни и смерти, правда, не имеющая здесь той остроты и катастрофизма, которые характерны для поздних вещей художника.
Главенствуя среди других природно-космических образов, образ солнца тем не менее органически соединен в восприятии героя с образами водного пространства, неба, ветра, луны (мотив этой соединенности, неразрывности настойчиво повторяется, о чем уже говорилось ранее, когда речь шла о феномене космического миропорядка в книге): «Небо, воздух, солнце – все становилось ярче» (3, 383); «Мириады едва зримых семян жизни, лишенных солнца тьмою и глубинами вод, все же светят сами себе. <…> И над всем этим морем, видевшим на берегах своих все служения богу, всегда имевшие в основе своей служение только Солнцу, стоит как бы голубой дым; дым каждения ему» (3, 341).
Восприятие, сознание повествователя, действительно, как будто бы заданы самой моделью космического миропорядка и актуализируют ее: отсюда – открытые «выходы» в мифологическое пространство, как, например, в последнем процитированном фрагменте, где речь идет о «мириадах едва зримых семян жизни, лишенных солнца тьмою и глубинами вод». «Солнечный» сюжет еще более углубляет и, я бы сказала, конкретно «высвечивает» тему «включенности» человеческого существования в космический миропорядок, сопричастности ему. Знаком такой соприродности становится подчеркнутая соотнесенность «движения» героя с «поведением» солнца: «Солнце закатилось» – и путешественнику нельзя «вступать в город»; «Слава Богу, день солнечный – я опять увижу Ая-Софию в солнечное весеннее утро» (3, 323); «И глубокая тоска охватывает душу на этой горе <…> при гаснущем солнце» (3, 388); «Вдруг вагон ярко озарился солнцем. И внезапно увидел я вдали нечто поражающее» (3, 401); «Тишина, солнце, блеск воды. Сухо, жарко, радостно» (3, 410) и т. п.
Между тем связь здесь двоякая: «солнечный» сюжет обретает свои завершенность и смысл только будучи «проявленным» в «жизненном мире» героя, углубляя и продолжая тему его «обживаний» разных культурных пространств. Поэтому «поведение» солнца оказывается различным в зависимости от местоположения. Высокое, щедро дарящее свет солнце Константинополя («горячее солнце золотистым потоком льется на меня сверху»), в Египте является герою «мутным», создающим вокруг «солнечный туман» («солнце тонет в сухой сизой мути»; «на юге тонет в солнечном тумане долины Нила»; «далеко на западе склонялось к слоистым пескам горя мутное солнце»). Иудея предстает как страна «низкого» и «гаснущего солнца» («солнце стоит низко»; «солнце на закате»; «озаренные низким солнцем»; «солнце скрылось»). В рассказах «Шеол» и «Пустыня дьявола» солнце исчезает, гаснет, и повествователю суждено испытать тяжко-искусительную прелесть погружения в пространство, залитое призрачным, мертвенно-бледным светом луны и звезд: «Все мертвенно-бледно и необыкновенно четко в серебристом свете этих тропических звезд. <…> Я сам себе кажусь призраком, ибо весь я в этом знойном, хрустально-звенящем полусне, который наводит на меня Дьявол Содома и Гоморры. <…> Бледные полосы тумана тянутся по извивам Иордана, – и уже смертоносная влажность чувствуется в воздухе» (3, 390–391).
Солнца нет в местах, помеченных для автора печатью смерти или дьявольского «присутствия». Оно уступает место или звездам, свет и сияние которых несут в себе семантику либо смерти («тонкий серп луны», «все мертвенно-бледно»), либо неподлинности, призрачности («И мне странно глядеть на мою белую одежду, как бы фосфорящуюся от звездного блеска. Я сам себе кажусь призраком»). Наконец последние рассказы ознаменованы «возвращением» солнца – сильного и резкого в языческой Сирии («солнце из грозовых туч озаряло сады и рун сильно и резко»), ослепительного и жаркого, но преображающегося в теплый «серебристый полуденный свет» – в местах, связанных с земным пребыванием Христа и хранящих память о Нем. Так догружается, наращивается подтекстовый слой, который автор в ряде случаев (например, в рассказе «Иудея») выводит на уровень текста. А «солнечный» сюжет обретает знаковый характер, вряд ли нуждающийся в особом раскодировании: настолько традиционна содержательная наполненность составляющих его символов и мифологем (солнце – символ жизни и духовной активности, знак света истины; Христос как истинное Солнце; искажающий истину свет луны и проч.[69]69
См. об этом: Библейская энциклопедия: [труд и изд. архимандрита Никифора]. М., 1990. С. 666; Керлот Х. Э. Указ. соч. и др.
[Закрыть]). Важнее другое: даже непосредственно созерцая (переживая) природно-космическую реальность, повествователь выходит за «собственно природные (натуральные) рамки», оказывается погруженным «не просто в мир, а в мир культуры»[70]70
См. работы М. Бахтина, В. Библера, И. Левина, М. Мамардашвили и др., в которых обосновывается важнейшая идея о включенности человека «не просто в мир, а в мир культуры», в частности: Бахтин М. М. Работы 20-х годов. Киев, 1994; Библер В. С. От наукоучения к логике культуры: (Два философских введения в двадцать первый век). М., 1991; Левин И. Сочинения: в 2 т. М., 1994.
[Закрыть].
В «Тени птицы» ярче обозначается тот принцип отношения к природе, о котором пишет Е. Мущенко, исследуя раннюю прозу художника: «Одухотворенность природы и человека у Бунина разные: природа одухотворена человеческим воображением, человек – Богом, оттого природа не наделена словом, она лишь присутствует при времени. Человек существует во времени, но благодаря сознанию через слово, память и воображение может присутствовать при вечности. Поэтому, чувствуя свое родство с природой, бунинский герой не растворяется в ней. Природа – основа реальности, но не вся реальность: есть еще и сам человек, культура»[71]71
Мущенко Е. Г. В поисках первореальности. (Ранняя проза И. А. Бунина) // Царственная свобода: О творчестве И. А. Бунина. Воронеж, 1995. С. 58.
[Закрыть]. Вместе с тем, одухотворяя природную реальность воображением и памятью, бунинский герой очень хорошо представляет свое место по отношению к ней. В нем идет стремления подчинить природу культуре (или наоборот: сравните с бальмонтовским «Будем как солнце»), а также трансформировать природу в систему мифологических знаков. Воображение художника знает границу, обозначенную в тексте даже графически, между собственно солнцем и Солнцем как знаком и феноменом культуры: «Вот и закатилось солнце, но и во тьме только солнцем живет и дышит все сущее» (3, 340); «Я еще помню отблеск закатившегося Солнца Греции» (3, 357).
В этом плане Бунин стоит особняком в русской литературе начала века, отмеченной особым интересом к «солнечной» теме. Этот интерес приводит к своеобразному пересозданию традиционного символа, к натуралистским и символистским модификациям его семантики[72]72
Этот вопрос подробно рассмотрен в работе: Долгополов Л. К. На рубеже веков. О русской литературе конца XIX – начала XX века. Л., 1985. С. 57–90.
[Закрыть]. Так, активно разрабатывается тема «детей солнца», которой «суждена была не слишком продолжительная, но зато яркая жизнь именно в русской литературе»[73]73
Там же. С. 59.
[Закрыть]. Достаточно вспомнить ранние рассказы М. Горького, его пьесу «Дети солнца», «Будем как солнце» и «Только любовь» К. Бальмонта, цикл А. Белого «Золото в лазури», драму В. Брюсова «Земля», цикл Вяч. Иванова «Солнце-сердце» и др., чтобы представить широкий «солнечный» контекст для бунинской «Тени птицы». В этих произведениях сложно (и чаще неорганично) совмещаются христианская догматика и романтические и ницшеанские идеи, естественно-научный подход с религиозно-пантеистическим, социальная проблематика и сугубо этические или эстетические трактовки. Нельзя сказать, что Бунин остался совершенно невосприимчив к идеям и проблемам современности. Так, его «развертка»-интерпретация евангельской цитаты «и свет во тьме светит» (рассказ «Море богов») выводит писателя в область актуальных для начала века идей и открытий, рассматривающих солнце как источник жизни на земле, как силу, которой «живет, движется и существует сам владыка природы – человек» (см. работы Майера, Гельмгольца, Тимирязева, Клейна)[74]74
Цит. по: Долгополов Л. К. На рубеже веков… С. 58.
[Закрыть]. Однако позиция бунинского героя, во-первых, отличается отсутствием столь характерных для тех лет мотивов избранничества, особой судьбы поэта (ср.: К. Бальмонт: «Я в этот мир пришел, чтоб видеть Солнце // <…> Я заключил миры в едином взоре. / Я властелин // <…> Кто равен мне в моей певучей силе? / Никто, никто»[75]75
Бальмонт К. Избранное: Стихотворения. Переводы. Статьи. М., 1980. С. 120.
[Закрыть] или у А. Белого: «В синих далях блуждает мой взор. / Все земные стремленья так жалки…»; «За солнцем, за солнцем, свободу любя, / Умчимся в эфир Голубой»[76]76
Белый А. Золото в лазури. М., 1904. Для сравнения позиций Бунина и поэтов-символистов может быть также использован текст его стихотворения «Солнечные часы».
[Закрыть]), а также неприятием антропоморфистских и культовых тенденций по отношению к солнцу (ср.: К. Бальмонт: «Будем, как Солнце всегда молодое, / Нежно ласкать огневые цветы»[77]77
Бальмонт К. Указ. соч. С. 121.
[Закрыть]; или Г. Гауптман: «О, солнце! Древний праотец! Внимай мне! / Ты возрастил своих детей, моих, / Ты их вскормил, как грудью материнской»[78]78
Гауптман Г. Драматические сочинения. М., 1900. С. 396.
[Закрыть].
Во-вторых, для Бунина важна не столько оригинальность открываемых мифотворчеством смыслов, сколько сам характер, а точнее новизна переживания и проживания уже открытого культурной традицией, «новизна переживания постоянного»[79]79
Мущенко Е. Г. Указ. соч. С. 57.
[Закрыть]. Бунинский культурный символизм, являясь одним из структурно– и стилеобразующих факторов, не препятствует «пластическому выплескиванию» фундаментальностей, он лишь интенсифицирует и содержательно уплотняет их присутствие в тексте. Символический (мифологический) подтекст разрастается из образов природной реальности, нередко метафорически окрашенных и выполняющих благодаря этой окрашенности (а следовательно, и дополнительным смысловым и эмоциональным оттенкам) связующую, «посредническую» функцию между видимым и невидимым, конечным и бесконечным. При этом эффект личного присутствия повествователя, его прочувствованного, но смиренно-сдержанного интегрирующего проживания всех оттенков значения «конечного» исключает всякую абстрактную и умозрительную закодированность ситуации, разрушение ее «живой данности».
Повествователь признается: «Я еще помню отблеск закатившегося Солнца Греции». И это коротенькое признание обладает огромным смысловым объемом. Графическое обозначение (Солнце) – уже сигнал выхода из автономности собственно природной реальности, когда «отблеск закатившегося Солнца», не утрачивая обаяния конкретной приметы вечернего пейзажа, трансформируется в метафору угасающей жизни античной цивилизации. Солнце «закатилось», но его «отблеск» «живет» памятью повествователя, и в этом трогательном, без тени патетики, интимно-задушевном «я еще помню» – сожаление об уходящих формах и традициях, страх за исчезновение прошедшего соединяется с надеждой его сохранить (Солнце «закатившееся», но не погасшее, вместе с «помню» как знаком принадлежности «вечному настоящему»), личная сопричастность культуре прошлого («я помню») и отсутствие «претензий» первооткрывателя (только «помню» – и не более!). Заметим также, что признание относится к фрагменту открыто мифологического характера, посвященному легенде о происхождении солнца и о Свете Зодиака, который означает для повествователя «зодиакальный свет первобытной веры», ее «страшное величие». А соотнесенность высказывания с «солнечным» сюжетом всего цикла расширяет его смысловое поле уже не только мифологической и исторической, но и философской семантикой (тема жизни и смерти и пр.). Следовательно, за «отблеском закатившегося Солнца Греции», метафорическим образом, пропитанным конкретностью живого впечатления, мы угадываем множество свернутых смыслов, открытых повествователю, подобно тому, как он, например, в «аравийской древности крика» египтянки узнает «всю старину сарацинского Каира». Символический (мифологический) подтекст становится своеобразной основой и средством для органичных взаимопереходов из собственно природного пространства в пространство культуры, а также показывает «неслиянность и нераздельность» этих пространств для человека.
Пространственная тема солнца своеобразно дополнена в тексте темой ветра, которая, правда, в отличие от первой, не проведена через произведение все произведение столь последовательно, обозначена лишь пунктирно. В первом рассказе, когда герой осматривает Софийский храм, поднимается на хоры и подходит «к острому окну», «ласковый ветер ударяет» ему «в лицо, розовая голубка срывается с подоконника в простор весеннего воздуха» (3, 329), в то время, как перед ним «опять развертывается <…> зыбкая синева Мраморного моря, блеск солнца, лилово-пепельные силуэты горных вершин и мертвенно-белое облако Малоазийского Олимпа» (3, 329). А в начале этого рассказа, поднявшись на башню Христа, герой ощущает, как «теплый, сильный ветер гудит» за ним «в вышке, пространство точно плывет» под ним, «туманно-голубая даль тянет в бесконечность» (3, 333).
В данном случае, являясь составляющей конкретной природной реальности, ветер будто бы совсем лишен мифологической нагрузки. Между тем в соотнесении с общим мифологическим подтекстом книги даже в этих, казалось бы, чисто пейзажных зарисовках проступает обозначенный ветром мотив изменчивости, движения, активности природно-космической жизни. Открывающийся простор благодаря ветру становится ощутимым, ветром он «касается» путешественника (обозначение непосредственности общения с миром), ветром входит в его душу.
А далее, в последних рассказах, повествующих о местах, отмеченных «присутствием» Христа, образ ветра становится повторяющимся. В «Пустыне дьявола» он напрямую соотносится с Божественным началом мира: «После бури и молний Бог пришел в пещеру Илии в сладостном веянии ветра. Сладостным ветром было и пришествие в мир Иисуса» (3, 382). И это не просто поэтическая метафора.
В заключительном рассказе «Геннисарет», самом светлом и жизнеутверждающем во всей книге, «возвращающем» нам живого Христа, художник как будто отступает от прямой мифологической трактовки образа. Возникает вновь природный план, но это «природное» осложнено, насыщено очень существенным для героя культурно-ценностным содержанием. Речь идет о ветре, который «помнит» дыхание Христа: «…с гор срывается недолгий, но сильный ветер. И темнеющее озеро уже шумело от крупной зыби. Четыре гребца наших поспешили кинуть весла, вздернуть парус»; «Становилось темно, а Иисус не приходил к ним. Дул сильный ветер, и море волновалось»; «Да, да, это было здесь! Он дышал этим мягким, сильным, благовонным ветром» (3, 408–409).
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































