Текст книги "Проза И. А. Бунина. Философия, поэтика, диалоги"
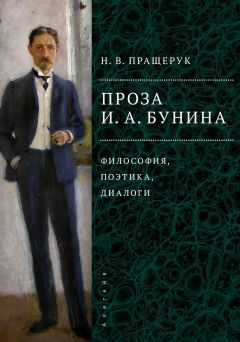
Автор книги: Наталья Пращерук
Жанр: Прочая образовательная литература, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Так, Бунин использует в сюжетостроении элементы классического хронотопа, обновляя и трансформируя их. Однако сюжет выстраивается здесь все же не последовательностью разворачивающихся событий, а рядоположенностью (nebeneinander) картин, воссоздаваемых памятью и воображением.
«Помню» в художественном мире Бунина означает не только «знаю», «представляю», «чувствую», но и обязательно «вижу» – во всей полноте и яркости красок, цветов, оттенков и положений. Эта способность видеть прошлое, именно видеть, а не пересказывать его – очевидный, конкретный и зримый результат достижения «вневременного единства». Многие живописно-изобразительные фрагменты вводятся, помимо ключевых «вижу», назывными конструкциями с повторяющимися «Вот и…», «И вот…», «А вот…» и выдерживаются нередко в формах настоящего времени: «И вот я расту, познаю мир и жизнь <…> и вижу: жаркий полдень, белые облака плывут в синем небе» (6, 17); «Писарев, <…> как сейчас вижу его, стройного, смуглого, чернобородого…» (6, 103); «Вот сентябрь, вечер. Я брожу по городу <…> прямая, как стрела. Долгая улица <…> тонет в пыли и слепящем блеске солнца…» (6, 67); «Вот я просыпаюсь в морозное солнечное утро» (6, 126); «Вот, проснувшись в метель, я вспоминаю» (6, 127); «Вот уже совсем темно» (6, 127); «Вот весенние сумерки, золотая Венера над садом, раскрыты в сад окна» (6, 127); «Вот я в постели, и горит “близ ложа моего печальная свеча”» (6, 127) (последние пять примеров только из одной восьмой главки третьей книги); «Вижу и чувствую подробности. Да, странный полусвет, спущенные, красно просвечивающие предвечерним солнцем шторы, жемчужно сияющая люстра» (6, 188); «Это было в ноябре, я до сих пор вижу и чувствую эти неподвижные, темные будни в глухом малорусском городе» (6, 281) и т. п.
Используется живописный принцип с его пространственной рядо-положенностью, который разрушает хронологическую последовательность и иерархичность в изображении событий жизни. Все миги, все эпизоды одинаково ценны и наделены статусом настоящего, являются одновременными. Однако при этом они не сливаются, остаются разделены, правда, их разделенность уже чисто пространственного рода, «знающего лишь дистанцию»[127]127
Хоружий С. С. Указ. соч. С. 429.
[Закрыть]. «На месте исчезнувшего времени <…> оказывается новое пространственное измерение»[128]128
Там же.
[Закрыть].
«Живописность» композиции – вариант, эстетически закономерный для художника-«максималиста», стремящегося к свободной форме и демонстрирующего «небрежение структурой». Но не только. Это факт его мирочувствования. Вспомним, какие «онтологические» качества искусства живописи выделял П. Флоренский. Во-первых, это то, что он называет «осязанием» или «активной пассивностью» в отношении к миру, при которой художник удерживает себя «от вмешательства в порядок и строение окружающей нас действительности», «собирает плоды “от мира”» как некие данности, «непосредственно предстоящие чувственному восприятию и желающие быть взятыми как таковые»[129]129
Флоренский П. А. Анализ пространственности и времени в художественно-изобразительных произведениях. М., 1993. С. 82.
[Закрыть]. «Каждое пятно берется здесь в чувственной его окраске, то есть с его тоном, его фактурой и <…> его цветом. Оно не есть заповедь, требующая от зрителя некоторого действия, и символ или план такового (как в графике. – Н. П.), а дар зрителю, который художник свою очередь сам “получил от мира”»[130]130
Там же. С. 79, 80.
[Закрыть]. Во-вторых, «живопись распространяет на пространство вещественность»[131]131
Там же. С. 109.
[Закрыть].
Очевидно, насколько эти качества характерны для Бунина-художника. В его книге действительно утверждается особая, неактивная активность субъекта, показывается сознание, лишенное субъективных притязаний на преобразования, смиренно открытое «в мир» и в силу этого способное услышать, увидеть, внять тому, что дается, является как таковое. Отсюда столь органичные «вхождения» во внутреннее пространство личности Арсеньева, «расширения» этого пространства.
Что касается «вещественности», то применительно к бунинскому роману это означает не только изощренность предметной изобразительности («маленькие, шершавые и бугристые огурчики», «синяя густая грязь» и т. п.). Речь идет об особой ауре «телесности» как результате трансформаций уникального телесного опыта героя и автора, их феноменальной восприимчивости ко «всему тому чувственному, вещественному, из чего создан мир». Об этом не раз говорится в книге: «Зрение у меня было такое, что я видел все семь звезд в Плеядах, слухом за версту слышал свист сурка в вечернем поле, пьянел, обоняя запах ландыша или старой книги» (6, 92)»; «Было такое обоняние, что отличался запах росистого лопуха от запаха сырой травы!» (6, 120); «В числе моих особенностей всегда была повышенная восприимчивость к свету и воздуху, к малейшему их различию» (6, 163) и т. п.
Бунинский текст можно рассматривать как своеобразное соединение фактуры, цвета, запахов и звуков. Здесь и «лиловая синева, сквозящая в ветвях и листве», которую герой «и умирая вспомнит», и «запах плесени», навсегда соединившийся для него с «тоненькими книжечками» житий святых и мучеников, и «напряженная тишина» в церкви перед началом службы, и «тончайшее и чистейшее дыхание», которое «чуть серебрилось между землей и чистым звездным небом», и многое, многое…
Бунинскую «телесность», не исключая, естественно, и эротичности его текстов, можно трактовать как «растворение» автономности и суверенности субъекта в «актах чувственности», то есть в таких состояниях сознания, которые «находятся вне власти волевых и рациональных начал»[132]132
Современное зарубежное литературоведение: страны Западной Европы и США: Концепции, школы, термины. М., 1996. С. 281.
[Закрыть]. Эти «состояния сознания» нередко носят характер экстатически напряженный, интенсивный: «Я весь дрожал при одном взгляде на ящик с красками» (6, 32); «Какой сладострастный восторг охватывал меня при одном прикосновении к этой гладкой, холодной, острой стали!» (6, 33); «И, боже, сколько сухого зноя, сколько солнца не только видел, но и всем своим существом чувствовал я, глядя на эту синь и эту охру, замирая от какой-то истинно эдемской радости!» (6, 37); «А какой пахучий был этот город!» (6, 59); «…в небе мучили очертания старых крыш, непонятная успокаивающая прелесть этих очертаний» (6, 233) и т. п.
Бунин – поистине редкий пример художника, глубоко постигшего тему чувственного участия «я» в мире, художника, для которого «ядро нашей экзистенции» составляет чувственность[133]133
См. об этом: Буркхардт Г. Непонятная чувственность. Набросок антропологической чувственности // Это человек: антология. М., 1995. С. 139.
[Закрыть] и который, предваряя современного философа, вполне мог задаваться вопросом: «Философские учения, доставшиеся нам в наследство, исходят из того, что озарения экзистенции следует ожидать от духа, чувственность же затемняет ее. В противоположность этим представлениям зададим вопрос: не способна ли непосредственная мудрость наших чувств внести в нашу экзистенцию больше света, чем спекуляция?»[134]134
Буркхардт Г. Непонятная чувственность. Набросок антропологической чувственности. С. 139.
[Закрыть] Именно непосредственная мудрость чувств, которой пропитана вся ткань книги, отличает художника от типологически близких, но чрезмерно «умствующих» Пруста и особенно Джойса, склонного к нарочитым интеллектуальным экспериментам.
При этом у Бунина «то, что говорят чувства, не находится ни внутри, ни снаружи (я одновременно нахожусь и там, куда “бросил” свой взгляд, и там, где я в это время стою). “Звезды пребывают в мозгу человека” (Б. Рассел)»[135]135
Буркхардт Г. Непонятная чувственность. Набросок антропологической чувственности. С. 128.
[Закрыть]. А это, по существу, еще один, внутренний, феноменологический знак пространственной свободы «я» в бунинском тексте, позволяющий воспринимать феномены, «не редуцированные предрешением»[136]136
Там же. С. 139.
[Закрыть], а «являющиеся» непосредственно (сравните мотивы простора-открытости и пустого, «впускающего» пространства).
Кроме того, «чувственный опыт» позволил автору существенно расширить границы «телесного», распространить его на не слишком свойственные ему сферы. Это очевидно уже из указанных примеров, но еще ярче обозначается при рассмотрении отношения героя (и автора) к языку. Арсеньев своей способностью вслушиваться в некоторые слова, «прочитывать» их заново, невольно отсылает нас к герменевтическим «штудиям» П. Флоренского или М. Хайдеггера (конкретный пример непреднамеренной включенности Бунина в современный философский контекст!): «Надя кончается. Да, это потрясающее слово “кончается” – раздалось для меня впервые поздним зимним вечером <…> в одинокой усадьбе!» (6, 43); «…странным голосом, который отец <…> назвал серафическим. Это слово часто вспоминалось мне, и я смутно чувствовал то жуткое, чарующее и вместе с тем что-то неприятное, что заключалось в нем» (6, 47); «Прежде всего очень нравятся слова: Смоленск, Витебск, Полоцк. <…> Я не шучу. Разве вы не знаете, как хороши некоторые слова? Смоленск вечно горел в старину. <…> Я даже что-то родственное чувствую к нему» (6, 248) и т. п. Язык для героя не просто орудие общения, передачи информации или называния предметов. Это первооснова, лоно культуры, нечто «осязаемо-вещественное», настоящее «обиталище бытия»[137]137
Цит. по: Современная буржуазная философия. М., 1978. С. 306.
[Закрыть]. Так относиться к языку – значит, во-первых, возрождать сам язык, освобождать его от «мертвечины» стертых, функциональных значений, а во-вторых, иметь еще одну возможность «прямого выхода» в подлинное пространство жизни, немыслимое без живого звучания «голоса» культуры (отсюда эти повторяющиеся «знал» как знак укорененности в традициях). Поэтому цитирование поэтических текстов в романе осуществляется и «от имени языка» тоже, поскольку подлинный язык продолжает жить прежде всего в произведениях поэтов.
«Телесность» текста усиливается и одновременно утончается за счет того, что живописная «вещественность», конечно, существенно трансформированная и в силу специфики литературы как вида искусства, и в силу яркой бунинской индивидуальности, но, безусловно, повлиявшая на поэтику книги, дополняется здесь еще особой пластикой изображения, которая сродни искусству лепки и которую П. Флоренский называл «записью прикосновений»[138]138
Флоренский П. А. Указ. соч. С. 83.
[Закрыть]. Наряду с «вижу» и «чувствую», «касаюсь» как способ возможность общения с миром (и не только с предметным!) занимает в бунинской книге существенное место. Коснуться или испытать прикосновение – значит не представить, а пережить непосредственно миг встречи с тем, что станет «жизненным составом» твоего существования: «Не Сенька дал мне понятие о смерти. <…> Однако благодаря ему почувствовал я ее в первый раз в жизни по-настоящему, почувствовал ее вещественность, то, что она наконец коснулась и нас» (6, 28); «…именно в этот вечер коснулось меня дознание, что я русский и живу в России» (6, 57).
Следовательно, в бунинском мире реакции, восприятия, переживания, опосредованные дистанцией времени или разделенностью «я» и «не-я», по существу снимаются и создается эффект прямого присутствия или «вхождения» как бы «самих вещей в оригинале» (Н. Лосский), а не их символов, копий или отражений. В видимом у Бунина есть то, что видится, в слышимом – то, что слышится, в переживаемом – то, что переживается. Другими словами, «вещественность», «телесность» бунинского мира есть не только и не столько следствие реалистичности художественного мышления писателя, его сориентированности на предметную и природную реальности. Речь идет о глубинном освоении феноменологического отношения к миру, об отработке новых принципов взаимоотношения «я» и «не-я». «Активная пассивность» действительно имеет феноменологическую природу, означает в переводе на философский язык освобожденность «я» от абсолютной субстанциональности и допускает совершенную объединенность «я» и «не-я», благодаря чему «жизнь внешнего мира дана» герою «так же непосредственно, как и процесс его собственной внутренней жизни»[139]139
См. об этом: Лосский Н. О. Обоснование интуитивизма // Н. О. Лосский. Избранное. М., 1991. С. 85.
[Закрыть].
В данном случае для понимания открытий Бунина-художника логично обратиться к работе Н. О. Лосского «Обоснование интуитивизма», представляющей не только интерпретацию, но и развитие на национальной почве бергсоновских и гуссерлианских идей. Противопоставляя позитивистской гносеологии интуитивизм, он предлагает называть «непосредственное сознавание внешнего мира <…> термином “интуиция” или “мистическое восприятие”». Последний термин философ мотивирует следующим образом: «Философский мистицизм, имевший до сих пор религиозную окраску, всегда характеризовался учением о том, что Бог и человеческое сознание не отделены друг от друга непроходимой пропастью, что возможны по крайней мере минуты полного слияния человеческого существа с Богом, минуты экстаза, когда человек чувствует и переживает Бога так же непосредственно, как свое “я”. <…> Наша теория знания заключает в себе родственную этому учению мысль, <…> что мир “не-я” (весь мир “не-я”, включая и Бога, если Он есть) познается так же непосредственно, как мир “я”»[140]140
Там же. С. 101.
[Закрыть]. Размышления Н. Лосского, в частности, его трактовка мистического, предложенная им терминология, безусловно, полезны для нашего исследования как проясняющие природу художественного сознания Бунина. Непосредственно, непреднамеренно возвращая герою картины прошлого, сохраняющие на протяжении всей книги обаяние «самоданности», «самоочевидности» – так проявляет себя та или иная реальность, то или иное смысловое содержание. Тем самым сознание героя развертывается как своеобразное пространство для испытывания, переживания феноменов разного порядка, то есть реальностей, которые «сами-себя-через-самих-себя-раскрывают» («sich-selbst-durch-sich-selbst-zeigende» – термин Гуссерля) или «себя-в-самих-себя-обнаруживают» («das Sich-an-ihm-selbst» – термин Хайдеггера)[141]141
См. об этом: Современная буржуазная философия. С. 252, 291.
[Закрыть].
«Самопроявляемость» реальностей различного рода в жизненном пространстве героя отнюдь не освобождает его от феноменологических «процедур» «вслушивания», «внятия», «усмотрения сущностей», а, напротив, стимулирует, обостряет способность к их осуществлению, что уже отмечалось и, в частности, примером особого отношения Арсеньева к языку. Тем самым стирание границ между «я» и «не-я», неразрывность субъективного и объективного, обеспеченные ярко проявленной интенциональностью сознания героя, являются сущностной, структурно– и смыслообразующей характеристикой воссоздаваемого автором пространства. Весь текст «Жизни Арсеньева», за исключением, может быть, пятой книги, в которой сюжетно-композиционная структура близка традиционной, есть образец моделирования некой единой «самопроявляющейся» реальности, континуальной по своей природе. Сравните ряд примеров: «А в каретном сарае стояли беговые дрожки, тарантас, старозаветный дедушкин возок; и все это соединялось с мечтами о далеких путешествиях, <…> возок тянул к себе своей неуклюжестью и тайным присутствием чего-то оставшегося мире от дедушки» (6, 20); «Там, за опушкой, за стволами, из-под лиственного навеса, сухо блестел и желтел полевой простор, откуда тянуло теплом, светом, счастьем последних летних дней» (6, 53); «…этот запах соединился у меня с чувством влюбленности, которой я впервые в жизни был сладко болен несколько дней после того» (6, 69); «Как мучительно мешалось с братом все, что я видел и переживал в этот странный день, больше же всего, кажется, то сладкое восхищение, с которым я вспоминал о монашке, выходившей из калитки монастыря!» (6, 92);
«Так навсегда соединилась для меня Лиза с этими первыми днями купанья, с июньскими картинами и запахами, – жасмина, роз, земляники за обедом, этих прибрежных ив, длинные листочки которых очень пахучи и горьки на вкус, теплой воды и тины нагретого солнцем пруда» (6, 128); «Даже в скрипе моих шагов по снегу было что-то высокое, страшное» (6, 226) и т. п. Наконец, афористическое суждение Арсеньева в разговоре с Ликой – настоящее «феноменологическое кредо»: «Нет никакой отдельной от нас природы, <…> каждое малейшее движение воздуха есть движение нашей собственной жизни» (6, 214).
Чтобы понять природу воссоздаваемого Буниным художественного мира, несводимость его лишь к лиризованному романному жанру, думается, следует развести это смешение, неразличение «я» и «не-я», имеющее конструктивное значение, и фрагментарное вкрапление в повествовательную ткань кусков, построенных по принципу лирического высказывания. Достаточно сопоставить процитированное выше с такими характерными примерами, в которых в соответствии с лирическим жанром мы сталкиваемся с «чувствами субъекта в позиции перед лицом действительности, уже сложившейся», когда всеобщее противостоит человеку как внешняя необходимость и «сама по себе душа человека отчасти становится таким же для себя сущим миром субъективного созерцания, рефлексий и чувства <…> и лирически высказывает свое пребывание внутри себя, свою занятость индивидуальным внутренним миром»[142]142
Гегель Г. В. Эстетика: в 4 т. М., 1971. Т. 3. С. 428.
[Закрыть]: «Ах, эта вечная русская потребность праздника! Как чувственны мы, как жаждем упоения жизнью, – не просто наслаждения, а именно упоения жизнью, – как тянет нас к непрестанному хмелю, к запою, как скучны нам будни и планомерный труд!» (6, 83); «Сколько заброшенных поместий, запущенных садов в русской литературе и с какой любовью всегда описывались они! В силу чего русской душе так мило, так отрадно запустенье, глушь, распад? Я шел к дому, проходил в сад, поднимавшийся за домом» (6, 86); «Как забыть этот ночной зимний звон колокольчиков, эту глухую ночь в глухом снежном поле, то необыкновенное, зимнее, серое, мягкое, зыбкое, во что сливаются в такую ночь снега с низким небом» (6, 103) и т. п.
Следует также отличать объединенность субъекта и объекта в бунинском мире от пантеистического растворения «я» в космосе и природе. Е. Г. Мущенко, исследуя раннюю прозу писателя, справедливо отмечала ее «культурологичность», направленность на общекультурные архетипы и модели[143]143
См.: Мущенко Е. Г. В поисках первореальности. (Ранняя проза И. А. Бунина) // Царственная свобода: О творчестве И. А. Бунина. Воронеж, 1995. С. 45–59.
[Закрыть]. В «Жизни Арсеньева» «самопроявляющаяся» реальность также культурологически «оснащена», а усилия интенционального сознания нередко напрямую связаны с «вслушиванием» именно в «словарь» культуры. Отсюда столь характерная для книги интертекстуальность, ставшая предметом специального рассмотрения в исследовании М. С. Штерн[144]144
См.: Штерн М. С. В поисках утраченной гармонии: Проза И. А. Бунина 1930–1940-х годов. Омск, 1997. С. 74–128.
[Закрыть], а также не менее характерное обозначение «осязаемо-вещественной» природы языка, о чем уже упоминалось.
Вообще, сознанию героя понятен, если можно так сказать, герменевтический искус. Вглядываясь в развертывающееся полотно жизни, он много раз вопрошает о смысле, открывающемся как во фрагментах этого полотна, так и в его целом (сравните, например: «Прямо подо мной, в солнечном свете, разнообразно круглились серо-зеленые и темно-зеленые верхушки сада. <…> Их осыпали оживленным треском воробьи, <…> а я глядел и думал: для чего это? <…> там, за лугами, были Новоселки. <…> Зачем существовали там куры, телята, собаки, водовозки, пуньки, пузатые младенцы, зубастые бабы, красивые девки, лохматые и скучные мужики? И зачем уходил туда почти каждый день к Сашке брат Николай?» (6, 34–35)). Можно даже утверждать, что в истолковании человеческого существования герой проделывает путь, напоминающий нечто вроде «герменевтического круга». То интуитивное понимание жизни, которое приходит к Арсеньеву еще в детстве и сформулировано в первой книге («…ведь и все в мире было бесцельно, неизвестно зачем существовало, и я уже чувствовал это» (6, 34)), подтверждается обогащенное опытом многих «проживаний» и переживаний, в итоговом суждении, «собранном» в свою очередь из других предшествующих толкований, также присутствующих в тексте как некие обозначения герменевтического движения «по кругу». Часть из толкований приведена ранее. В этом обобщающем суждении (см.: 6, 152–153) по-прежнему больше вопросов и предположений, чем ответов («…все-таки что же такое моя жизнь?»; «…втайне я весь простирался в нее. Зачем? Может быть, именно за этим смыслом?»). Определенно, пожалуй, выражено только пространственное ощущение жизни, ощущение ее постоянной «заполняемости» чем-то очень важным, теми сменяющими друг друга составляющими, которые в каком-то своем глубинном и непостижимом единстве и несут некий таинственный, едва угадываемый смысл: «И видел, что жизнь (моя и всякая) есть смена дней и ночей, <…> есть <…> накопление впечатлений, картин и образов, из которых лишь самая ничтожная часть (да и то неизвестно, зачем и как) удерживается в нас, <…> а еще нечто такое, в чем как будто и заключается <…> что-то главное, чего уж никак нельзя уловить и выразить» (6, 153).
Такой, скорее, «гипотетический» итог не представляется автору поводом для пессимизма и беспокойства, не вызывает приступов отчаяния от как будто бы неосуществившейся возможности постичь тайну человеческого существования. Подобное вневременное «движение» по жизни (внутри жизни) знаменательно, поскольку представляет собой для Бунина, исследующего «простирания» человеческой субъективности, «онтологию» понимания вообще как принципа взаимоотношения «я» и «не-я». Понимание дается, открывается и живет тем же актом непосредственного (= мистического) «вхождения», «явления», «вступания» в прямое общение, что и реальности предметного и природного мира, его можно увидеть, ощутить, почувствовать, коснуться, но нельзя перевести на язык понятий и итоговых формул, иначе оно утратит подлинность живого смысла, живого «присутствия». Поэтому-то Бунин и не дает расшифровки и обобщения «герменевтических» усилий героя, направленных на истолкование феномена жизни. А кроме того, художник действительно убежден в принципиальной неразгадываемости тайны жизни и только обозначает сферы пребывания, присутствия этой тайны, открывает некоторые возможности ее «коснуться».
Система этих обозначений в конечном итоге складывается в некий мифообраз жизни, открывающийся интуицией и призванный стать альтернативой собственно философского, логического ее понимания.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































