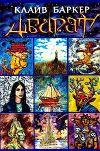Текст книги "Раны. Земля монстров"

Автор книги: Нейтан Баллингруд
Жанр: Ужасы и Мистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
– Как знаешь. Хочешь приходи, хочешь нет. Но это твой единственный шанс.
Больше ты ничего не стала говорить. Остаток смены его подтачивала разгорающаяся ярость, ведь несмотря на полную решимость игнорировать твое приглашение, он знал, что примет его.
Чертова Ива росла на дальнем берегу озера и напоминала покосившуюся церковь. Сверкающая зеленая листва переливалась через линию берега и нависала над водой как подвешенный в воздухе фонтан, скрывавший своим потоком изогнутый почерневший ствол. Мы назвали ее Чертовой, так как верили, что именно под ней твой отец практиковал свои дьявольские ритуалы. Бывало, по ночам мы замечали десятки выстроенных и даже парящих вокруг ивы огоньков свечей, а однажды на целую неделю дерево охватило бело-зеленое холодное пламя. В прошлом году под этой ивой Том лишил Джули невинности, и, хоть она никогда в этом не признается, она боялась, что забеременела и ребенок родится с козлиной головой. Когда месячные пришли в срок, Джули заплакала от облегчения и пережитого страха и у нее так сильно тряслись руки, что учителя отправили ее домой.
Ты направилась к иве сразу, как только покинула кафе. Не для того ли, чтобы подготовиться к вечеру? Или искала тишины? А может, пыталась подобраться как можно ближе к темной энергии, оставленной практиками твоего отца? Мы видели твой силуэт на берегу: ты сидела, опустив ноги в воду и опершись на руки, словно бледно-белая орхидея.
Для нас ты была непостижима, Элисон. Мы пытались разгадать твои мотивы, отношения с отцом, реакцию на насмешки и провокации. И несмотря на то, что все эти годы мы довольствовались домыслами о твоей жизни, теперь хотим знать правду. Больше никаких загадок, Элисон.
Мы хотим знать, чувствуешь ли ты то, что чувствуем мы.
* * *
Мы знаем историю этого озера.
На Мельницах Любви нет места историям. Их некому рассказывать и некому слушать. Для нечисти не существует ничего, кроме строительства мельниц и поддержания их работоспособности. Лишь когда меня утащили в холодную могилу, названную жизнью, – вырвали из множественности и обрекли на единичность, – лишь тогда я впервые встретилось с этим понятием.
Но я узнало его не от твоего отца, который так и не простил меня за то, что я не было его женой. Своими делами он занимался в тишине. Я узнало это понятие после его смерти, когда он сидел наверху, откинувшись на спинку стула подобно мертвому королю, его голова извергалась пеплом снов, и призрачные потоки того, что делало его человеком, изливались наружу, словно продолжительный выдох. Они были прекрасны, Элисон, и то, что ты не могла их видеть, – настоящая трагедия.
История озера обрушилась на меня дождем из пепла сразу после того, как ты ушла. Не знаю, вычитал он ее в какой-то книге или придумал. Не знаю, верил ли он в нее сам. История гласит, что когда-то, в первые дни вашего рода, задолго до того, как вы получили власть над миром, по этим холмам бродил ангел. Людям он казался великаном из вихря глаз, крыльев и когтей, и был настолько зловещим и чуждым, что вы не могли вынести его вида. Стоило ему появиться, как вы в ужасе разбегались. Считается, то был один из последних ангелов, присоединившихся к мятежу Утренней Звезды. Он прибыл с опозданием, и его встретили лишь запечатанные врата Ада. Так и бродил он по земле одиноким изгнанником обоих царств, пока отверженность не стала непосильной ношей. Тогда ангел нашел глубокое озеро – это самое озеро, Элисон, – и уснул на дне, и сон его будет длиться до конца времен.
Не знаю, правдива ли эта история. Но в ней я находило утешение. Пока у меня была история, я чувствовало себя не так одиноко. В конце концов, эта история об Утренней Звезде и напоминание о Нем, хоть и совершенно незначительное, вызвали во мне лавину красоты. Я ощутило страшную тоску по дому и труду. Но, ощутив эту тоску, я поняло, что милость Утренней Звезды все еще со мной. Боль тоски есть высшее наслаждение в Аду.
Твой отец задавался вопросом, не является ли этот город и все его жители просто сном, вымыслом, созданным ангелом и призванным составить ему компанию. Когда-то я бы посмеялось над этой мыслью и сказало, что если бы ангел желал компаньона, то никогда бы не стал мечтать о существе, подобном тебе.
Но теперь мы думаем по-другому.
* * *
В ту ночь ты пришла со мной поговорить. Ты приготовила ужин в микроволновке, спустилась с тарелкой в подвал и села есть за стол отца. Ты не включила свет и сидела в тусклом зеленом мерцании, исходящем от бочки, слушая тихое шипение приемника. Поначалу ты не удостоила меня вниманием, но твое присутствие стало приятным сюрпризом и помогло рассеять мое одиночество. Сама того не сознавая, ты совершила благодеяние.
– А мне здесь нравится, – сказала ты, покончив с ужином. – Я здесь будто на дне океана. Неудивительно, что папа сидел здесь все время.
– Я не знаю, что такое океан, – сказало я.
– По сути, это то же озеро, только больше.
– Насколько больше?
– Настолько, что покрывает почти весь мир. Даже если ты из Ада, как можно об этом не знать?
Одна мысль об озере настолько большом, что оно покрывает почти весь мир, снова пробудила во мне тоску. Я никогда не знало, что могу тосковать по тому, чего никогда не видело. В моей жизни был лишь труд, твердая земля, скрученные кости, розовые клубы дыма, поднимавшиеся от наших мельниц, и полосы света на небесной дымовой завесе из розоватого пепла. Не было никаких океанов. Или озер. Или мечтаний о других местах.
Я никогда не интересовалось, над чем мы трудились.
– Мне много чего неизвестно об Аде. Я работало на Мельницах Любви. Это все, что я знаю.
Ты покачала головой и едва улыбнулась.
– Уж поверь, если тебя сюда притащил мой отец – ты из Ада. Это что-то вроде его фишки.
– Как скажешь.
Ты отодвинула тарелку, взяла в руки один из блокнотов отца, откинулась на спинку стула и начала листать его с показным безразличием.
– Так он говорил с тобой о маме?
– Он не разговаривал со мной.
– Не с тобой одним.
Ты покачала головой, раздумывая над словами.
– Она хотела бросить нас, понимаешь? Ей было плевать.
Ты скрестила руки на столе и опустила на них голову, отвернувшись от меня.
– Кажется, он очень любил ее, – сказала ты и надолго замолчала.
Я слышало, как ты всхлипнула, и поняло, что ты плачешь. Слезы – еще одно проявление любви. Кажется, я узнало все ее удивительные грани. Та, что испытывала ты, была похожа на мою, – жажда, которую нельзя утолить. Та, что испытывал твой отец к матери, была иной – с крючками.
Вскоре ты подняла голову и посмотрела на меня.
– А вообще я спустилась, чтобы узнать, как отправить тебя домой. Ведь всё здесь, в блокноте. Но не знаю, получится ли. Вдруг случайно убью. Так что у тебя есть немного времени насладиться жизнью, потому что я собираюсь подняться наверх, напиться, а потом вернусь сюда и попробую.
Я не знало, как понять эти слова, поэтому промолчало. Единственным примером смерти был твой отец, и его смерть, как мне казалось, ничуть его не изменила. Разве что ограничила передвижение. В конце концов, он все также сидел в кресле над нами, выплескивая в воздух нерастраченные мысли. Другая возможность – вернуться домой – была слишком прекрасна, и верилось в нее с трудом.
– А затем я совершу один из папиных ритуалов.
– Что это значит?
– Я просматривала его блокноты. Не так уж все и сложно. И раз он совсем недавно умер, возможно, я смогу его вернуть. Может, он не успел далеко уйти.
– Я не понимаю. Тебе ведь было плевать.
– Мне и сейчас плевать.
Вернулись слезы, но в этот раз ты даже не пыталась их скрыть.
– Мне плевать.
Даже отсутствие любви не мешало ей притягивать тебя своей чудовищной гравитацией. Твое искаженное болью лицо было прекрасно. В нем я увидело результат работы всей моей жизни. Дом полнился ею, Элисон. Любовью во всем ее величии. И порядком, которые она придала вашим жизням. И придает до сих пор.
Мысли твоего отца остывали, все реже долетая до меня, будто листья со старого, иссохшего дерева. Одна из них, величественная и синяя, проплыла мимо. Ты младше, сидишь на диване и смотришь с отцом телевизор. День выдался замечательный; ты устала, тебя разморило. Ты придвигаешься ближе и опускаешь голову на его плечо. Он отталкивает тебя. Ты извиняешься и отодвигаешься в другую сторону. Его поглощает стыд.
Он желал другого прикосновения, другой любви, от другого человека.
Пока я обдумывало эту мысль, ты спустила жидкость из бочки. Передо мной разверзлось дно, и я побежало по узкому желобу диким зеленым потоком, скользя в темноте несколько сбивающих с толку минут, пока не выплеснулось из конца водопроводной трубы, полетело по чистому воздуху и приземлилось в теплом озере, растворяясь в воде.
Я словно пробудилось. Это могло быть только пробуждением.
Я видело звезды на небе. Я чувствовало дуновение ветра и тягу корней Чертовой Ивы, всасывающих меня. Я ощутило земляное дно под собой и огромное, медленно бьющееся сердце того, что было погребено под холодным илом.
Я есть озеро. Ты сотворила меня заново.
* * *
Джоуи встретил тебя под ивой. Он был зол и напуган, но гордо верил, что ты пожалела о своем отказе и теперь в конце концов прибежала к нему. Он пришел не один – хотел, чтобы ты заплатила за нанесенную обиду, поэтому позвал двух друзей. Они сидели в кустах в паре метров от вас и должны были фотографировать, как ты раздеваешься, чтобы потом раздать фото в школе. Джоуи намеревался отомстить.
Ты ждала его под ивой. Расстелила покрывало для пикника и зажгла полдюжины свечей, чьи огоньки дрожали в прохладном ночном воздухе. Холодное и высокое небо усыпали звезды. Ты села в середину покрывала, поджав под себя ноги, и взяла в руки стакан виски. Увидев это, Джоуи остановился. Он подумывал вернуться и отослать друзей домой.
Но слишком боялся тебя, поэтому не сделал этого.
Он остановился у края покрывала и замер.
– Садись, – сказала ты.
– Ты что, пьяная?
– Чуть-чуть.
– Начала без меня? Нечестно.
– Садись уже и догоняй.
Он опустился на колени и придвинулся к тебе. Ты протянула ему бутылку, и он взял ее. Ты позволила ему закинуть голову и сделать щедрый глоток, а потом аккуратно всадила нож между ребер. На мгновение ты задержала его, крепко сжимая рукоять.
– Ау!
Он смотрел на твою руку и с трудом мог поверить в происходящее. Все произошло внезапно, как укус осы.
– Ах ты сука! Всадила в меня нож!
Ты вытащила нож, будто пробку из бутылки вина: кровь хлынула и Джоуи начал заваливаться вперед, выставив одну руку перед собой, а другую прижимая к боку. Невероятной свирепости боль пронзала все его тело.
– Что происходит? – произнес он, и его голос был слабым, как у ребенка, которым он, в сущности, еще являлся.
Я наблюдало за твоей реакцией. Ты побледнела, но не выказывала никаких эмоций.
– Помоги, – сказал он.
Из ближних кустов донесся шорох, и ты взволнованно обернулась. Два друга – должно быть, два мальчика, с которыми видела Джоуи в школе, – неуверенно выползали из укрытия. Один из них держал телефон.
– Чувак, с тобой все нормально?
Ты встала; с ножа в твоих руках капало.
– Думаю, надо вызвать скорую, – сказал Джоуи, и от страха его голос стал выше.
Глупые мальчишки не стали его слушать и бросились вперед. Один из них упал рядом с Джоуи, другой, окаменев от шока, начал кричать и осыпать тебя грязными ругательствами. Ты не обращала внимания. Ты следила за деревом.
Холодный язык огня выполз из-под корней и обвился вокруг ствола. За ним последовали другие. В одно мгновение Чертова Ива вспыхнула бело-зеленым пожаром, не источающим тепла, но наполняющим долину странным сиянием. Я почувствовало, как то, что спало под толщей ила, всколыхнуло мои воды. С каждым ударом его сердца огонь распалялся.
И ты обратилась к нему:
– Верни его. Пожалуйста, верни! Я сделаю все, что захочешь. Я убью их. Я убью их всех.
Тогда я поняло, что ты обращаешься к Утренней Звезде. Твоя неутолимая жажда, Элисон, пустота в твоем сердце и любовь, оставшаяся без ответа, – это молитва к Нему. Вся твоя жизнь восславляет Ад.
Думаю, тогда я – именно я – впервые влюбилась.
– Я не знаю, что мне делать, – сказала ты.
Ты не могла вернуть отца. Какое бы колдовство ни было подвластно ему, оно не подчинялось тебе. Ты положила начало, но не знала, как сделать следующий шаг. Через несколько мгновений эти мальчишки принялись бы за тебя, и я даже не могло представить, что из этого бы вышло.
Ты не услышала ответа Утренней Звезды, но услышала его от меня.
Я не могло говорить с тобой без преемника. Мне пришлось тебе показать.
И Джоуи мне в этом очень помог. Он лежал, задыхаясь, на покрывале, прижав к ране руку друга. Каблук его левого ботинка покоился в воде. Оставалось лишь утянуть его. Все произошло быстро, так просто. Я стало озером, растворилось в воде, подобно дыханию в воздухе. Я вливало себя в его глаза и горло. Я наполнило его как сосуд. А затем с его помощью я утянуло друга, которого тоже наполнило. За считаные мгновения утянуло всех троих. Я чувствовало, как во мне искрятся их жизни. Впервые с тех пор, как прибыло сюда, я снова познало общий разум и перестало быть одиноким. Так началось чудо, которым ты одарила наш город.
Мы стояли, тяжело дыша, на берегу, переживая новых себя. Взглянули друг на друга и устыдились новой близости, потоков знания, хлынувших в нас, всех низких тайн и желаний, внезапно вытащенных на свет. Но вскоре смущение рассеялось: между нами не может быть секретов, ведь все мы делим один разум.
Одну любовь.
Мы взглянули на тебя. И заговорили хором голосов:
– Элисон, подойди.
Твое лицо… Я не смогло распознать выражение. Очередной лик любви? Или нечто, что мне еще предстояло узнать?
– Кто ты? – спросила ты.
– Ты знаешь, кто мы, – ответили мы в унисон.
Ты развернулась и побежала. Твой отказ нас потряс. Мы ничего не понимали. Разве ты не этого хотела? Быть желанной? Любимой? Больше не быть одной?
Вскоре у разгоняющей тьму ивы начали собираться люди из города. Они присоединились к нам: поначалу неохотно – многих пришлось утащить в воду, чтобы я могло их наполнить, – но вскоре они были благодарны. К утру мы наполнили всех.
Мы решили взяться за работу. Ведь мы не знали ничего, кроме работы. Нас подхлестывали воспоминания о мельнице; многие из нас вошли в озеро, чтобы быть поглощенными работой. Она ломала и перестраивала конечности, насаживала кость на кость и туго натягивала между ними лоскуты кожи. Для каркаса первого колеса мельницы пришлось разобрать и объединить две сотни тел, а сколько еще предстоит сделать.
Как только солнце поднимается из-за гребня холма, мельница начинает вращаться в озере. Наш голос возносится в небо хором стонов. Мы тянемся к тебе, как тростник к небу. Почему ты не тянешься к нам, Элисон? Почему ты никогда не тянулась к нам, несмотря на все наши провокации?
Прежде мы знали нашего монстра. Теперь – нет. Мы смотрим на тебя десятками тысяч глаз, но не узнаем. Ты стоишь в доме у окна, и твой пустой отец все еще восседает позади тебя на кресле, как свергнутый король. Поток его мыслей остыл и утих. Ты смотришь на нас. Ты прижимаешь руки к стеклу. Ощущаешь ли ты наше тепло, как когда-то ощущало я?
Твое лицо меняется и принимает выражение, которое, как мы полагаем, что-нибудь нам расскажет. Но прежде, чем мы успеваем его прочесть, солнечный свет ударяет в оконное стекло и слепит нас блеском крошечной звезды в утреннем свете.
Черепушка
Джонатан Уормкейк, Преосвященный Упырь Хобс Лэндинга, встречает меня на пороге. Как правило, эту незначительную обязанность исполняли его слуги, но, полагаю, подобную честь я заслужил наличием сана священника в Церкви Червя. Ведь причиной тому определенно не могла стать наша с ним первая встреча, состоявшаяся пятьдесят лет назад в этот самый день. Сомневаюсь, что он вообще ее помнит.
Он любезно кивает мне в виде приветствия, а затем ведет по длинному коридору в заставленный тысячами книг огромный кабинет, чьи широкие окна выходят на Чесапикский залив, сверкающий золотом в лучах закатного осеннего солнца. Воспоминания об этом пути и кабинете отзываются болью в сердце. В последний раз я был здесь еще мальчишкой. Теперь я, как и мистер Уормкейк, совсем старик, жизнь моя подходит к концу.
Я потрясенно отмечаю, как годы отразились на нем. Казалось бы, удивляться нечему: мистер Уормкейк живет в этом доме уже сотню лет, и история его соседства с городом имеет документальные подтверждения. Но после смерти Девушки-Орхидеи в прошлом году он оставил светскую жизнь, и за это время облик его значительно изменился. Держится он также величественно, а наружность по-прежнему отличается опрятностью, но лета свисают с него как пальто не по размеру. Плоть на голове слезла, и волос – некогда самой большой гордости – больше нет. Голый череп ярко мерцает в лучах заходящего солнца и взирает на мир пустыми темными глазницами: глаза давно ссохлись и обратились в пыль. Вид у него болезненный и уставший.
Справедливости ради стоит отметить, что впечатление это многократно усиливается присутствием четырнадцати детей в возрасте от шести до двенадцати лет, столпившихся в комнате. Червь предоставил им честь присутствовать на церемонии открытия Семидесятой Ежегодной Ярмарки Черепушек, вызвав в дом каждого из них через сны. Ввиду своего, по большей части, юного возраста дети не в состоянии понять всю важность этой чести и потому в нервном ожидании шатаются по огромному кабинету, переговариваясь и трогая то, что трогать им не положено.
Давний слуга мистера Уормкейка – прежде известный как Мозг Замороженного Парламента из Банки № 17, а сегодня ласково называемый дядей Дигби – въезжает в комнату, являя взору полированное, инкрустированное золотом тело: коробку на колесиках с прозрачным куполом, под которым в зеленом растворе плавает отрезанная голова старика, чьи волосы развеваются подобно призрачным водорослям. Дядю Дигби встречают радостные крики детей, которые в ту же секунду обступают его со всех сторон. Он обнимает одного металлическими руками.
– Вы только посмотрите на этих прекрасных детишек! – говорит он. – Какие резвые существа!
Для приезжих в Хобс Лэндинг дядя Дигби являет собой пугающее зрелище. Его лицо, как и глаза, мертво, а голова – не более чем сохранившаяся часть трупа, застывшая словно каменное изваяние; но мозг, все еще находящийся внутри, полон жизни, и способность говорить ему дарит голосовой аппарат, расположенный чуть ниже стеклянного купола.
Воспользовавшись тем, что дети отвлеклись, мистер Уормкейк достает маленькую деревянную шкатулку, едва заметную на книжной полке. Он открывает ее и вынимает мясистую нижнюю часть человеческого лица – кусок от губного желобка до изгиба подбородка, который увлажняет неглубокая лужа крови. Конструкцией из шпагатов и шестеренок к куску прикреплен язык. Натянув эластичную ленту на череп, мистер Уормкейк надевает половину лица и толкает язык в рот. Кровь начинает стекать по нижней челюсти и пятнает белый воротник накрахмаленной рубашки. Даже меня – человека, выросшего в Хобс Лэндинге и повидавшего много вещей необычнее этой, – такое зрелище обескураживает.
Джонатан Уормкейк не выходит в свет уже двадцать лет, с тех пор, как обнажился его череп, и я понимаю, что мне первому из тех, кто не принадлежит этому дому, довелось стать свидетелем данной процедуры.
Сегодня мистер Уормкейк умрет, и как священник местной Церкви Червя я обязан провести ритуал, знаменующий конец его жизни.
Никто не знает, как умирает упырь. Кажется, этого не знает он сам, так как покинул норы мальчишкой и не был посвящен в таинства. Сны, дарованные Червем, изобилующие образами отслаивающейся кожи и огромных черных коршунов, парящих в потоках ночного воздуха, наводят на мысль, что конец – лишь метаморфоза. Но у нас нет формулы, с помощью которой можно было бы хоть как-то расшифровать эти сны. А потому ответ на вопрос, что ждет по ту сторону смерти, остается открытым.
Он растягивает губы и шевелит языком, будто примеряет новый костюм и проверяет, как тот сидит. Удовлетворившись, по всей видимости, посадкой новинки, он наконец смотрит на меня:
– Я рад, что вы пришли, особенно сегодня.
– Должен признаться, меня удивило, что ваш выбор пал на вечер Ярмарки Черепушек. Сегодня от постороннего внимания не спрячешься.
Он смотрит на толпу детей, которую дядя Дигби осторожно направляет к большому окну на залив. В их движениях читается возбуждение и страх – тот же клубок эмоций я ощущал, когда был на их месте.
– Я не собираюсь портить им праздник, – говорит он. – Сегодня их день. Не мой.
Не думаю, что это вся правда. Пусть дети и прошли отбор для участия в Ярмарке Черепушек, чтобы стать звездами церемонии открытия, пышность и торжественность события призваны чествовать не детей, а Червя и значимость церкви в этом городишке. Но в действительности празднеством мы славим Джонатана Уормкейка. Ни провальная избирательная кампания в мэры в середине семидесятых, ни последствия Ночной Войны, ни изобличающие секреты, обнародованные вследствие небезызвестного предательства его лучшего друга, Вацлава Слипвикета, – ничто не могло отобрать власть, которую Уормкейк обрел над Хобс Лэндингом, и каждый год Ярмарка Черепушек прославляет и укрепляет ее.
К тому же сегодняшний день знаменует сотню лет со дня его грандиозного появления в городе, а также скорое прощание с нашим миром, потому в его ложную скромность верится с трудом.
– Присядьте, – говорит он, указывая на самое удобное кресло в комнате.
Кресло с высокой спинкой и мягкими подушками, которые обычно ставят в своих гостиных английские лорды. От шахматного столика в углу Уормкейк берет еще один стул, поменьше, и придвигает его ближе, чтобы мы могли говорить свободно. Он медленно опускается на него и вздыхает с вымученным удовлетворением оттого, что тело пришло наконец в покой. Думаю, если бы он все еще имел глаза, то сейчас бы их закрыл.
Дядя Дигби тем временем рассаживает детей на складные стулья, стоящие в два ряда. Она раздает им газировку и контейнеры с попкорном, тщетно пытаясь всех успокоить, и закуски привлекают внимание.
– Говорили ли вы с кем-нибудь из детей после того, как они увидели сон? – спрашивает меня Уормкейк.
– Нет. Некоторые приходили в церковь с родителями, но ни с кем из них я лично не разговаривал. Этим занимаюсь не я, а другие.
– Насколько я понимаю, на некоторых детей сны производят сильное впечатление.
– Быть избранником Червя – почетная, но пугающая роль. Дарованные сны слишком яркие и насыщенные. Для кого-то они могут стать крайне болезненным опытом.
– Прискорбно слышать.
Я бросаю взгляд на рассевшихся детей, пихающих в рот пригоршни попкорна, который разлетается повсюду. От них исходит дикая энергия – потрескивающее живое излучение, от которого встают дыбом волосы, – и чтобы не дать ей пролиться слезами и хаосом, надо быть умелым укротителем. Как дядя Дигби. Самый дружелюбный член Замороженного Парламента долгое время являлся представителем семьи, а также доверенным лицом самого мистера Уормкейка. Многие считают, что без его неизменных усилий отношения между Уормкейками и жителями Хобс Лэндинга давным-давно перешли бы в жестокое насилие. Не все принимали новую церковь в первые годы.
– По правде говоря, я не хочу, чтобы кто-то знал, зачем вы здесь. Не хочу делать из своей смерти представление. Если бы вы пришли ко мне в любой другой день, то все бы заметили, и догадаться о причинах не составило бы труда. Но сегодня все внимание города приковано к ярмарке. К тому же я вижу в этом некую закономерность. Круг замкнулся.
– Простите за вопрос, мистер Уормкейк, но по долгу службы я обязан спросить: вы решились на этот шаг из-за смерти Девушки-Орхидеи?
Он бросает на меня мрачный взгляд. Конечно, считать эмоции с голого черепа невозможно, да и губной протез не способствует экспрессии, но тяжесть, с какой на меня обрушился его взор, без сомнения, указывает на раздражение.
– Так ее звали городские. Настоящее имя – Гретхен. Называйте ее так.
– Прошу прощения. Суть вопроса от этого не меняется. Если вы запятнаны горем, то не сможете окончательно покинуть этот мир.
– Я принес вам эту веру. Не вздумайте учить меня.
Я молча принимаю его укор.
Долгое время мы сидим в тишине, и на мгновение я переключаюсь на возбужденно переговаривающихся детей и на дядю Дигби, рассказывающего старую байку про то, как в залив вернулся Кракен. Старую для меня, но не для детей. Мистер Уормкейк возвращается к беседе, но меняет тему.
– Вы сказали про болезненный опыт. Похоже, знаете об этом не понаслышке. Вы ведь уже бывали в этом доме, не так ли?
– Бывал. Когда я был ребенком, меня тоже призвал сон на Ярмарку Черепушек. Семьдесят лет назад. На самую первую Ярмарку.
– Надо же. Это уже интересно. Именно вам выпало исполнить мой смертный ритуал. Сколько же вам тогда, получается? Восемьдесят? Вы выглядите очень молодо.
Я улыбаюсь.
– Благодарю. Но молодым себя не ощущаю.
– А как по-другому, в наше-то время? Что ж, полагаю, мне следует сказать «с возвращением».
Кажется, что в комнату втиснулись несколько пластов истории, от этого кружится голова. Сегодня я посещаю сразу три ярмарки: Ежегодную Семидесятую Ярмарку Черепушек, которая начнется ближе к вечеру; первую Ярмарку Черепушек, которая состоялась семьдесят лет назад, в 1944 году, и положила начало моей карьере в Церкви; и Ярмарку Холодной Воды, состоявшуюся сто лет назад, в 1914 году, про которую дядя Дигби вскоре начнет свой рассказ. То, что мистер Уормкейк решил умереть именно в эту ночь, а также выбрал меня в качестве исполнителя, не может быть исключительным совпадением.
Словно по команде голос дяди Дигби заполняет маленькую комнату.
– Дети, успокойтесь. Тише. Пора начинать.
Услышав эти слова, дети затихают, словно на них наложили магическое заклинание. Они смиренно сидят на стульях и наконец начинают осознавать торжественность случая. Рвущееся наружу беспокойство проявляется лишь в брошенных украдкой взглядах и, в случае с коротко стриженным мальчишкой, едва сдерживаемых слезах.
Я помню четко и ясно, как семьдесят лет назад, когда я был юнцом, радостный ужас, вызванный кошмаром, приглашающим меня в дом монстра, наполнял меня до краев. И с удивлением понимаю, что в моих глазах тоже стоят слезы. Еще большее удивление мне приносит твердая и костлявая рука мистера Уормкейка в перчатке, сжавшая мою собственную.
– Я рад, что пришли именно вы, – говорит он. – В этом тоже есть своя закономерность. Порядок мира успокаивает тревоги сердца.
Конечно, я польщен.
Но когда дядя Дигби начинает свой рассказ, трудно вспомнить что-то, кроме крови.
* * *
– Сотню лет назад, – говорит детям дядя Дигби, – три маленьких упыря решили погулять. Их звали Уормкейк, Слипвикет и Стабблгат, и они были лучшими друзьями с рождения. Родители разрешали им играть на кладбище после того, как зайдет солнце и закроют ворота. В ту ночь среди надгробий возились и другие дети, но сегодня речь пойдет только о нашей троице. Другие дети были совершенно обыкновенными, и потому слушать о них совсем неинтересно.
Той ночью, когда дети вылезли на поверхность, произошло два удивительных события. Кто-нибудь знает, что это за события?
Нет? Тогда давайте я вам расскажу. Во-первых, в ту ночь на поверхность их выпустили чуть раньше обычного. На землю опустился полумрак, и упыри могли без страха выползать из своих нор, но детям подниматься на поверхность в такую рань часто запрещалось. Однако в тот вечер Червь послал слово о собрании в склепе – о срочном собрании, на котором следовало провести обряд, именуемый Обрядом Смерти. Детям это название ни о чем не говорило, а на взрослых нагоняло уныние. В тот вечер дети не должны были мешаться под ногами. Конечно, можно спорить о мудрости этого поступка, но упыри по своей природе – замкнутый и спокойный народ, потому никто не предполагал, что может случиться плохое.
Вторым необычным происшествием в ту ночь стала Ярмарка Холодной Воды.
Ее проводили ежегодно в октябре. Традиции следовали долгие годы. Так Хобс Лэндинг праздновал свое родство с Чесапикским заливом и прославлял день, когда Кракен, поднявшийся из пучин залива, хотел уничтожить город, но был повержен смекалкой и сообразительностью жителей. В ту ночь ярмарка переехала. Привычным местом проведения была северная часть города, и с кладбища ничего не было видно. Но землю выкупили, новому владельцу не понравились расхаживающие по собственности толпы людей, поэтому жителям пришлось устраивать ярмарку у подножия холма.
Маленькие упыри никогда не видели ничего подобного! Представьте, что всю жизнь живете в норах, среди тьмы, камней и холодной земли. Всякий раз, выходя на поверхность, вы видите звезды и их отражение на водной глади, можете рассмотреть огни города, сверкающие будто драгоценные камни. Но ярмарка? Невиданное зрелище! Она походила на яркий мазок краски, переливающийся разными цветами в темной синеве сумрака, в центре которой находилось огромное, украшенное гирляндами колесо обозрения, и в раскачивающихся вагончиках сидели люди.
– Колесо обозрения! – кричит коротко стриженный мальчик, который плакал всего несколько минут назад. И хотя нос его еще красный, в глазах блестят уже не слезы, а нечто иное.
Да-да, колесо обозрения! Они в жизни его не видели. Можете себе представить?
Под ним раскинулась деревенька из пестрых палаток, полнившаяся новыми, удивительными ароматами – сахарной ваты, жареного арахиса, горячего сидра. Веселые крики детей доносились до упырей подобно ветерку из великолепного склепа. И наши чумазые детишки как зачарованные стояли у забора, вцепившись в прутья ручками и втиснув между ними мордочки.
На мгновение им показалось, что все это имеет отношение к Обряду Смерти, о котором только и говорили взрослые.
– Думаешь, они всегда так кричат? – спросил Слипвикет.
– Ну, конечно, – ответил Уормкейк. – Это ведь ярмарка. Там надо кричать.
На самом деле, дети, он ничего не знал про ярмарку. Но уже тогда ему нравилось умничать.
От этих слов дети смеются. Вероятно, этой шутке не первый год, но я все равно бросаю взгляд на мистера Уормкейка, чтобы увидеть его реакцию; однако фальшивый рот неподвижен.
Слипвикет очень тяжело и грустно вздохнул. Если бы вы услышали этот вздох, вы бы сразу заплакали – столько в нем слышалось грусти. А потом он сказал:
– Как бы я хотел попасть туда, где все только и кричат.
Дядя Дигби разыгрывает целое представление: кладет руки на стеклянный купол головы и произносит слова дрожащим голосом, полным печали. На детей уловка производит неизгладимое впечатление.
– Это невозможно, – отвечает Стабблгат. – Нам нельзя выходить за забор.