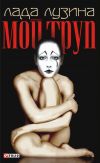Текст книги "Большие страсти маленького театра"

Автор книги: Никита Дерябин
Жанр: Юмор: прочее, Юмор
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Воспоминание четвертое.
Опальные артисты держат оборону
В дорожную сумку вслед за домашними трико и майкой полетел сотовый телефон и дорогущий костюм-тройка, заботливо подаренный Жлобовым. В свою очередь кошелек, три пачки сигарет и туфли завершили мои спешные сборы. Да, я решил уехать, и в этом я не видел ничего постыдного, так как все это было однозначно не по мне.
«Если бы мне не было что терять и чем рисковать, может быть, я ввязался бы в эту авантюру. Но оставлять жену вдовой, а ребенка без отца я точно не планировал. Пошел Жлобов к черту».
Я стремительно схватил сумку, спешно обулся, потянулся к крючку, чтобы взять ключи, как вдруг в дверь позвонили, мое внутреннее ощущение в этот момент можно было сравнить с гитарой, на которой разом оборвались струны.
«Никто не знает, где я живу. Кроме одного человека».
Я на цыпочках прошел к двери и осторожно посмотрел в глазок. На лестничной клетке стояла какая-то неприметная старушка и нетерпеливо трезвонила в дверной звонок, я выдохнул, щелкнул дверной замок, отодвинулась цепочка, и в следующую секунду резкий удар этой самой двери оттолкнул меня к стене. Пролетев добрых полметра, я вмазался головой о стену. Пока пытался понять, откуда у бабули по ту сторону столько дури, меня резко схватили за шкирку и как котенка грубо выкинули в зал. Дверь с грохотом закрылась. В глазах плясали чертята, из носа хлынула кровь, а изо рта лился поток отборной матерной брани. Когда я наконец-то «прозрел», передо мной в кресле расплывшись, словно оставленное недобросовестной хозяйкой дрожжевое тесто, восседал Яков Валерьянович собственной персоной, а Череп в этот самый момент задергивал шторы и по традиции включал паяльник советского образца в розетку перед телевизором.
– Ох, Коля, Коля. Ну почему ты такой тугой-то, а? – тяжело выдохнув, массируя виски, поинтересовался директор, с укором смотря на то, как я выпрямился в сидячем положении и прикладываю руку к разбитому носу.
– Вы не предупреждали о том, что здесь будут такие баталии, я не подписывался вставать меж двух огней. Разбирайтесь с Блатняковым сами, понятно? – Когда я говорил, кровь с новой силой полилась из носа, заливая лицо, Череп немного напрягся, когда понял, что паяльник работает слабо, а я напрягся, потому что Сергей Викторович никогда не пользовался паяльником по прямому назначению и вообще не принадлежал к кругу творчески развитых людей.
– Так тебя никто и не заставлял с Блатняковым базарить. Тебе надо урезонить конфликт с театром. Ты в это можешь врубиться, фуфел? Для того чтобы порешать этот вопрос, нужны серьезные люди, а ты к этому числу не относишься. Расстраиваешь ты меня, Николай Романович, очень сильно. Вон еще собрался ехать куда-то. Не ценишь ты хорошего отношения.
То, что происходило дальше, лучше не описывать, потому как приятного было крайне мало. Неработоспособность паяльника Череп благополучно заменил сигаретными окурками, которые тоже делали очень больно, и в этот момент я понял две вещи. Первое – я благополучно потерял любую возможность покинуть это мероприятие с возможно летальным исходом; второе – у больных на голову людей все же очень богатая фантазия.
В очередной раз сдержав крик я поднял глаза на Жлобова:
– Я понял! Понял я! Вопрос с театром урегулирую, я их повезу на «Бриллиантовую кулису» в этом сезоне. – Боль в нескольких местах каленым железом выжигала остатки рассудка, Жлобов вопросительно вздернул почти брежневские брови, а потом расплылся в поганой улыбке:
– Ну вот! Можешь ведь, когда хочешь! Молодец, Коля! Занимайся возложенными на тебя обязанностями, пока мы решаем вопрос с Блатняковым и его компашкой. Ты, я надеюсь, уже допер, что бежать куда-то – дело тухлое? – Вопрос был, конечно, риторическим, но я аккуратно глянул на Черепа, который докуривал очередную сигарету, и по примеру автомобильной игрушки-собачки торопливо закивал головой. Директор удовлетворенно прикрыл глаза и, тяжело опершись о подлокотники, поднялся с кресла, которое в свою очередь благодарно скрипнуло. Жлобов двинулся к прихожей и в дверном проеме обернулся. – Мне нужен этот театр, Коля, и если встанет выбор между тобой и им, я даже думать не буду, что мне выбрать. Смекаешь? – Я поджав губы едва заметно кивнул, Череп поправил полы черного пальто и двинулся вслед за шефом, бросив сигаретный окурок на ковер, прямо перед моими коленями, а затем он, остановившись около собранной мной дорожной сумки и сунув туда костлявую руку, извлек паспорт на мое настоящее имя. Хмыкнув, он глянул на меня, сунул документ во внутренний карман пиджака, дверь оглушительно хлопнула.
Я упал на ковер, сдерживать боль не предоставлялось больше возможным, квартиру огласил сдавленный крик.
* * *
Спустя три часа я уже торопливо шагал по театральной площади в сторону главного входа в театр. Приняв холодный душ и обработав последствия встречи с сигаретными окурками, я позвонил жене из телефона-автомата, сказав, чтобы она не беспокоилась и командировка задержится на несколько недель. Сам при этом испытывая муки совести, ибо я никогда не лгал Лене, даже по бытовым пустякам.
«Для полноты картины только Жлобова здесь и не хватало. Устроили тут мафиозные разборки, а честных людей используют как расходный материал. Одно интересно, откуда он вообще узнал про приезд Блатнякова в театр и о том, что я собираюсь сматывать удочки в сторону станции метро „Пора домой“. Любопытно». Я подошел к главному входу и дернул ручку. Она не поддавалась. Двери были заперты. В следующую секунду из маленькой бойницы над дверью мне на голову прилетело что-то невероятно тяжелое, повалившее меня на землю.
Что я чувствовал в этот момент, спросите вы? Если я скажу, что только боль, то я слукавлю. Мне стало просто невероятно обидно. За одно утро в моей жизни мне ни разу не угрожали скорой расправой, не пытали и не скидывали на голову… что это? А, отлично, железное ведро с песком. Я его заметил, когда поднял голову в сторону непонятного свистящего звука.
И вот, я вновь лежу на холодном полу у входа в театр, над головой, как в мультиках про зайца и волка, танцуют звездочки, и какие-то непонятные люди обступают меня со всех сторон и куда-то несут. На короткий миг сознание меня покинуло, проснулся я уже в плохо освещенной небольшой комнате, до отказа набитой людьми. Как выяснилось спустя пару минут после прозрения, это была театральная гримерка, а непонятные люди вокруг – сотрудники угорской культуры почти в полном составе. Я лежал на коленях у Ниночки – новенькой симпатичной статистки. Она неторопливо обрабатывала ссадину на переносице перекисью водорода. Дышать было крайне трудно. Чуть позже я понял, что в ноздри мне всунули скатанную вату для того, чтобы остановить кровотечение. Во главе процессии стояла, разумеется, Генриетта Робертовна и улыбалась:
– Эх, промазала, Анька, надо было ему точно по черепушке заехать. А ты только нос разбила. – Фраза эта была произнесена с той степенью ядовитости, что если бы Робертовна могла выделять яд при каждом слове, гримерка бы в нем потонула. Аня Федотова стояла позади всех и виновато пялилась в пол, выкручивая пальцы.
– Андрей Глебович, простите, я не разглядела вас. У меня зрение минус три на каждый глаз, вот я и… простите. – Голос ее был текуч и нежен, да и вся она была какая-то словно из мягкого бархата, странная, стремительная, словно ручей.
«А по тебе и не скажешь, милочка, что ты имеешь хоть какое-то отношение к смерти Зильберштейна. Как коварны женщины, боже мой, первый взгляд всегда так обманчив, как хорошо, что мне с Леночкой повезло». От потока мыслей моя черепная коробка отозвалась новой порцией боли, я тяжело сдержал новый подступающий стон и оглядел всех присутствующих.
– Так, допустим, вы хотели меня убить. Можно узнать мотивы перед следующей попыткой? – отшутился я, глядя на виноватые глаза артистов.
– Да мы и не собирались, это приказ Альберта, мол, забаррикадироваться в театре и никого не впускать и не выпускать. Так и ночуем здесь аж со вчера. – Обычно и без того грустные глаза Валеры сейчас стали и вовсе мультяшными, словно у кота из мультика про Шрека, взгляд его потух абсолютно. Было видно, что он устал, голоден и вообще находится на пике истощения своих физических, умственных и душевных ресурсов. Мне стало его жаль как никогда.
– Ага, забрали вещи, кое-какие продукты, попрощались с близкими и рванули на оборону храма искусства. Ох, это почти как мой дед рассказывал, когда они Сталинград от немцев отбивали, – мечтательно произнес Петрович, гордо ударив себя кулаком в грудь, представляя себя на поле брани. В действительности же никаких боевых заслуг его дед не имел никогда, точно так же, как и Петрович не имел никакой доли героизма, но он очень ценил моменты, когда этот героизм можно было проявить при участии в каком-нибудь сомнительным мероприятии вроде обороны театра.
Я тяжело провел рукой по лицу:
– Знаете что, господа артисты? Если вы угробите меня, то в обороне театра не будет никакого смысла. Попрошу заметить, что я – ваше единственное спасение, и в этой связи я требую начать работу над спектаклем, вот только я приду в себя – и мы сразу же начнем. – Я попытался тяжело поднять голову с колен Нины, череп раскололо новой вспышкой боли, и я вновь упал на очаровательные ноги статистки.
– Вы лежите, лежите, мне не тяжело, – мягко произнесла она, смущенно смотря на меня.
Послышался щелчок зажигалки, все обернулись. Генриетта Робертовна выдвинула кресло в центр гримерной и, фривольно рассевшись, затянулась сигаретой.
– Итак, что мы имеем? Театр в капитальной блокаде. Сегодня с обеда нас со всех сторон обложили ищейки Блатнякова. Трое пытались пролезть в театр через балкон, с которого так неудачно пытался скинуться Альбертик, – там ребятки потерпели поражение, ведь очень трудно цепляться за перила, когда они намазаны жиром. – Асема и Аяла улыбнулись и стукнули ладонями правых рук друг друга в знак хорошо проделанной работы. Генриетта смерила их довольным взглядом и едва заметно приподняла брови. – Следующая партия была не такая умная, они начали выламывать входную дверь, благо в театральном буфете сохранились сорокалитровые кастрюли, а кипятка у нас хоть отбавляй – на пару-тройку месяцев мы точно вывели их из игры с ожогами четвертой степени. Евгенич, Валера, браво! – Лицо Валеры осталось неизменным, и ответной пятерни он Евгеничу не протянул, чем вызвал у монтировщика личную кровную обиду. Новости, произносимые Генриеттой, труппа встречала едва ли не овациями, а я представил себя словно бы героем фильма «Один дома», где смышленый мальчуган вовсю издевается над незадачливыми воришками, но мысли вслух произносить не стал, тем более что когда они появлялись в голове, ее снова раздирало от мучительной агонии. – Что дальше? Продуктов у нас максимум на неделю, приходится распределяться по периметру и постоянно наблюдать за театром со всех сторон на тот случай, если эти недалекие увальни решат нас поджечь, а такая вероятность есть, – подытожила актриса, делая последнюю затяжку и заминая бычок в пепельницу.
– Но зачем им нас поджигать? Блатнякову ведь нужен театр, правильно? – спросила невысокая молодая девушка с темно-коричневыми волосами, стриженными под каре, выразительными глазами и волевым подбородком.
Генриетта грустно усмехнулась, подкуривая новую сигарету:
– Роксана, не тормози, ему этот театр нахрен не сдался, он его снесет и построит тут торговый центр. Так что нам надо чуть ли не сутками наблюдать обстановку. Спать будем по очереди. Карловна и Альберт дежурят у центральной арки, Марго неплохо стреляет, а Альберт умеет громко кричать, так что в любом случае мы услышим в случае чего. Этот дуэт у нас пока самый продуктивный. У кого еще есть какие-нибудь навыки в обороне? – вздернув бровь и скинув пепел, поинтересовалась актриса.
Повисла тишина:
– Ну, я занималась каратэ в школе, пойдет? – робко сказала сидевшая в углу Людочка. Все обернулись на нее с улыбкой и с теплотой посмотрели на ее решительность в помощи общему благу.
– Люда, давай ты просто будешь заниматься обедом и ужином, хорошо? – ласково промурлыкала Робертовна, не желая обидеть Люду. Но та не собиралась сдавать позиции. Поднявшись со стула и сняв туфли (став при этом ниже на голову), эта миниатюрная блондиночка прошла в сторону одиноко стоявшего в углу переломанного шкафа. Поправив маленький пиджачок, секретарша сделала крутой разворот влево и одним мощным ударом ноги проломила фанерную дверцу несчастного шифоньера, которая с треском отлетела в стену, больше не болтаясь на многострадальных, уже проржавевших петлях. И читатель мог бы подумать и сказать: «Ха, отбила дверцу, которая итак висела на соплях». Я просто решил не упоминать тот факт, что после встречи с Людочкиной пяткой дерево треснуло от места удара до самого верха дверцы и надломилось, не говоря и о толщине в двадцать миллиметров.
Повисла гробовая тишина, в какой-то момент Валера забыл, как дышать, а брови Генриетты выгнулись морской волной и грозились надломиться от смеси шока, восторга и удивления. Людочка между тем прошла в свой уголок, села на стульчик, прыгнула в туфельки и вышла из гримерной. Генриетта прокашлялась от скопившегося в легких сигаретного дыма и обернулась на Петровича:
– Пойдешь с ней к служебному входу, если что, будет тебя защищать. – Послышался смех, Петрович густо покраснел, в сердцах послал зазнавшуюся актрису к праотцам и двинулся к выходу из гримерки. Я тяжело выдохнул и сел на диванчике, упершись в спинку, Ниночка заботливо протянула мне ватку, вновь капнув на нее антисептиком.
– Я просто поражен вами, дамы и господа, это действительно так. Я еще никогда не видел, настолько преданного служения театру, и это выше всяких похвал. – Я говорил то, о чем действительно думал, и эти слова родились из глубины моей души, однако отклика в других сердцах этот порыв не нашел, потому как Генриетта решила прервать мой благодарный монолог:
– Пора отходить на боковую, в дежурстве сегодня я, Марго и Алина остальные – по гримеркам и спать. В четыре утра нас сменят Петрович, Настя и Аня. Будем думать, господа и дамы… будем думать. – Задумчиво глянув на меня актриса, поднявшись, вышла из гримерки, вслед за ней потянулись и остальные. Последней из помещения выходила Аня Федотова. Поймав мой взгляд, она едва двинула губами, словно желая что-то сказать, но, будучи окликнутой, двинулась в сторону общей процессии. Мне хотелось встать, пойти и внести свою лепту в общее дело, но, едва подняв голову, я почувствовал резкую боль, такую, словно мне на черепушку прилетело еще одно ведро. Тяжело упав на подушку, я понял, что проваливаюсь в глубокую дрему, в голове все разом закружилось, и все события дня, смешавшись в один калейдоскоп, сменились благостным покоем.
Воспоминание пятое.
О пользе дружественных связей в критических ситуациях
Всю ночь мне снилась неимоверная околесица. Вот я отъезжаю на горящем поезде от ж/д вокзала родного города, а на перроне стоит Лена с нашей дочкой Соней и машет мне рукой, а позади нее стоит Череп и накручивает глушитель на внушительный пистолет. Потом все перенеслось в театр, в темном зале не было никого, а на сцене под единственным лучом света Генриетта сидела на коленях у Евгенича и вальяжно курила, басистым голосом Петровича рассказывая о наградах своего героического дедушки. Потом это все превратилась в сумятицу, не имевшую никакого логического смысла, и в какой-то момент меня буквально выбросило из объятий Морфея.
Я огляделся. Вновь осознал, где я нахожусь, а после глянул на большие часы, висевшие над входом в гримерку. Время показывало 4:55. Первым желанием было повернуться на другой бок, в надежде найти спокойный сон, но, упомнив снившуюся минуту назад ерунду, я откинул эту идею. Осторожно оторвав голову от подушки, я проверил болевые ощущения в черепной коробке и, поняв, что вполне могу ей двигать, встал и глянул на себя в зеркало. Стало смешно, в носу все так же торчали две затычки из ваты, глаза красные от поднявшегося давления, а обычно уложенные волосы пошли непослушными «петухами» и взъерошились так, словно я ночевал на сеновале. Размяв шею и приосанившись, я обулся и вышел в пустой театральный коридор.
Время было раннее, все актеры, не несшие ночную «службу», блаженно посапывали в своих гримерках или на складах с декорациями, видя во сне теплую постель, вкусный завтрак и родных. Дурная привычка дала о себе знать, и я привычно потянулся к первой утренней сигарете, заворачивая за угол в сторону курилки. Как только моему взору открылся небольшой закуток перед поворотом в левое крыло, я увидел сидевшую на подоконнике Аню Федотову. Актриса вперила в окно абсолютно безэмоциональный взгляд и нервно курила.
Я осторожно подошел и, закурив сигарету, проследил за направлением ее взгляда. На театральной площади, в трех метрах от главного входа в театр, стояло не меньше десятка затонированных иномарок, всюду, словно часовые, были расставлены крепкие молодчики Блатнякова. Казалось, они были везде: у памятника, у курилки, возле колонн центрального крыльца, некоторые сидели на капотах машин и играли в карты, другие, нахохлившись, несли дежурство, ежась от рассветного промозглого утра, втягивая шеи в плечи, еще более становясь похожими на ксерокопии своего небезызвестного шефа.
– Дело дрянь, со всех сторон обложили. – Нелепо было начинать разговор с очевидного факта, но ничего лучше этого в мою голову не пришло. Аня грустно покачала головой.
– Полтора часа назад приехали еще три джипа, видимо, прислали замену тем ребятам, которых мы уже вывели из строя. Похоже, они настроены решительно, Лев Давыдович бы подобного не допустил. – Уголки ее губ задрожали, глаза цвета едкого изумруда начали тонуть в подступающем напоре соленой волны слез. Я нервно сглотнул и отвел взгляд. Как и любой мужчина, я органически не переваривал женские слезы и понятия не имел, как быть в подобной ситуации, поэтому сделал вид, что мне стало дико интересно происхождение паутины в верхнем левом углу над моей головой.
– Придется выбираться сами, Льва Давыдовича, к сожалению, с нами больше нет. – Я понял, какую глупость ляпнул, только в тот момент, когда Федотова спрятала свое лицо в ладонях и бессильно заплакала, я тяжело вдохнул, сунул руку в карман и достал чистый носовой платок. Протянув его девушке, я вновь затянулся сигаретой. Так, в слезливо-сопливом молчании, мы провели еще несколько минут, и в тот момент, когда фильтр сигареты начал жечь губы, Аня заговорила:
– Андрей Глебович, скажите, а вы верите в случайности? – Внезапный вопрос поставил меня в тупик, шестеренки в голове закрутились с удвоенной скоростью и, повернув голову в сторону актрисы, я произнес:
– Скорее нет, чем да, в жизни случайности есть не более чем следствие вещей, предписанных судьбой. – И тут вы можете подумать, что я в душе философ и вообще ежеминутно только и думаю о смысле бытия, на самом же деле эта реплика была взята мной из какого-то спектакля, в котором я играл не последнюю роль, вот только вспомнить какую, я явно в тот момент не мог.
– Как тогда объяснить то, что Лев Давыдович скончался в утро нашей свадьбы? – выгнув бровь и закуривая сигарету, отчаянно произнесла Аня. Сказать, что я выпал в осадок – ничего не сказать.
«ЧТО? Зильберштейн собирался жениться на ней? НА НЕЙ? В сто лет? Дедуля был явно не промах, что я могу сказать. Вот только…»
– Аня как он умер? – твердо спросил я, в полной мере осознавая идиотизм ситуации. А состоял он в том, что эта сволочь Жлобов отправил меня вести расследование, даже не удосужившись сообщить мне о том, как вообще умер его дед. Туго затянувшись сигаретой, не оборачиваясь на меня, она прошептала:
– Его отравили. Выпил бокал коньяка перед сном и умер. Я вошла в кабинет между 8:00 и 8:15 утра, он уже не дышал. Как сказали медики, смерть наступила в районе двух или трех часов ночи. Он ночевал в тот вечер в театре. Вот такие вот «случайности». Представьте мой шок, когда я в свадебном платье, не дождавшись его у себя дома, помчалась в театр и нашла его уже холодное тело! – Говорить об этом ей было нестерпимо больно, это я видел по ее глазам и тяжелому дыханию. Представить, что она чувствовала, я, разумеется, не мог. Но здесь меня почему-то выбивала из колеи сама ситуация.
– Но зачем тебе это было надо? Ты же… ты же…
– Красивая? Знаю. Вы не первый мужчина, который это говорит. Обычно на красоте все и заканчивалось. Я была красивым дополнением глупых недозрелых мальчиков, которым нравилось хвастаться мною как диковинной птичкой. Я окончила институт и пришла на службу в этот театр. И поверьте мне, свою чашу я выпила до дна. Во мне сразу увидели врага, опасного, которого необходимо уничтожить. Сначала меня возненавидела Маргарита Карловна за то, что я не позволяла себя обсчитывать во время получения зарплаты, а я не виновата в том, что, в отличие от этой старой крохоборки, я умею считать! А потом за дело взялась наша примадонна мадам Чикушкина, и она подошла к нему со всей ответственностью. Прохода мне не давала, подбила актрис массовки поливать клеем мои гримерные принадлежности, перерезала мне провода лампочек на гримерном столе, а однажды и вовсе прожгла сигаретой мое платье на Джульетту за пять минут до выхода, первое время я молчала и держалась, потом ответила – жестко и серьезно. На мою пощечину она ответила, что я за все заплачу, и уехала на фестиваль моноспектаклей в Ялту, где спуталась с каким-то низкопробным босяком.
Рассказ был очень наполненным. Наполненным ядом, болью, злобой и обидой, обидно было и за нее, и за себя (почему-то) Может, потому, что низкопробный босяк из Ялты – это я? Ну в смысле не я, а настоящий Штольц, но все же. Интересно было, чем это все закончится. Аня оказалась ценнейшим экземпляром. Она, в отличие от многих других, все ближе и ближе подводила меня к разгадке смерти Зильберштейна, а меня, в свою очередь, стоять на одном месте просто достало.
С ее отъездом стало проще дышать. Без своего негласного лидера эта шушера из массовки стушевалась, Карловна ушла в годовые отчеты, а между тем театр начал сыпаться. В один момент исчез зритель. Просто как сквозь землю провалился. Спектакли, шедшие с аншлагами, просто стали закрываться. Те спектакли, что еще были на плаву, кое-как держались, и вместо ушедшей в запой Робертовны мне пришлось пахать как лошади от рассвета до заката, но и это не спасало. Последний наш спектакль – «Униженные и оскорбленные» Достоевского, очень символично, не правда ли? – Аня замолкла на какой-то момент, по ее глазам я понимал, что она ушла глубоко в свои воспоминания. Я достал поледнюю сигарету из пачки и тяжело оперся о подоконник.
– Что было потом?
Федотова усмехнулась:
– А потом я поняла, что так продолжаться не может. Я ответила на ухаживания Льва Давыдовича и получила долгожданную защиту от всех. А после, чтобы не мучить его и без того больное здоровье и нервы, уговаривала его продать театр и уехать вместе куда подальше из этого богом забытого городка. Но он отказывался. Он словно чувствовал, что смерть уже где-то рядом. То и дело закрывался в кабинете, переписывал завещание, а недавно и вовсе собрал всех в большом зале театра и взял со всех клятву – защитить театр любыми средствами. Как видите, все чтят его последнюю волю. Зачем я вам все это рассказала? Не знаю. – Девушка зарылась длинными пальцами в волосы цвета пламени и подогнула колени под себя.
– Аня. Перестань винить себя в том, что произошло. Воля Льва Давыдовича исполнится. Театр не закроют. Для этого у вас есть я. Иди поспи, я сменю тебя.
* * *
Обстановка за окном менялась лишь в те моменты, когда одни молодчики Блатнякова меняли других, чтобы все могли выспаться или отлучиться по мелким делам в роще неподалеку. Уже вовсю светило солнце. Пришла Ниночка, принесла контейнер с бутербродами и компот в термосе:
– Подкрепитесь, скоро Асема вас сменит. – Радушно улыбнувшись мне, она легко упорхала в сторону актового зала. Между тем у меня из головы никак не выходил рассказ Ани Федотовой, и я все пытался свести концы с концами, но никакого вывода из этого не следовало.
«Девчонка подверглась травле. Генриетта, видимо, хотела выжить из театра более молодую и перспективную соперницу, вот только попала в омут любви, из которого выбраться так и не сумела, а Федотова искала защиты и нашла ее в лице Зильберштейна. Вот только не верится мне, что двадцатичетырехлетняя девушка абсолютно бескорыстно полюбила столетнего старика с миллионным состоянием и слабым сердцем. Нужны еще зацепки. Нужны».
Время тянулось до крайности медленно, я уже порядком заскучал. И вот, пока я блаженно жевал бутерброды, запивая компотом из термоса, я заметил странное движение за окном.
К центральному входу подъехала иномарка, настолько белоснежная, что в ней ослепительно затанцевали лучи полуденного солнца. Из машины вышел представительный плечистый мужчина с традиционным в банде Блатнякова полубоксом и в дорогущем костюме. Он выпрыгнул с водительского кресла, как хомяк, прищурился бившим в глаза солнечным лучам и, подбежав к задней двери, открыл ее. Из темноты машины, словно бы по примеру голливудских фильмов про роковых женщин, появилась нога на твердом каблуке, а затем вторая, а после выплыло массивное тело обладательницы этих ног.
Элеонора Владиславовна Бауман была женщиной до крайности решительной, твердой и тоталитарной в вопросах дисциплины и правопорядка. Именно поэтому она являлась главой комитета по культуре Угорской области и последней инстанцией в решении спорных или неконкретных вопросов. Кроме того, она была лицом, уполномоченным выдавать разрешения на открытие и закрытие культурных заведений в городе и области, и контролировала их работу.
Было у Элеоноры Владиславовны две страсти: деньги и молодые любовники, о благосостоянии которых она пеклась с той же прытью, с которой батюшки в церкви уповают за спасение душ прихожан. На мир она взирала выразительными черными глазами, ее одутловатое лицо издалека напоминало выражение мордочки недовольного мопса, а мешки под ее глазами не спасали ни многочисленные уколы красоты, ни подтяжки, из-за которых разрез ее глаз с каждым годом все более и более напоминал азиатский.
Между тем сама мадам Бауман считала себя женщиной роскошной и никогда не позволяла себе выйти из дома без макияжа и изящной укладки. Именно поэтому меня издалека так привлек блеск ее лица, ведь на нем была неимоверная масса косметики. Как любила говаривать покойная Изольда Гавриловна Штольц о престарелых актрисах из нашей труппы: «Кого она там мажет? Ну куда? Там в морщины уже бетон заливать надо, а она все мажется». Цитата очень подходила и к личности этой странной дамочки в темно-бардовом деловом костюмчике.
Она шла тяжелой походкой, и брусчатка под ее ногами жалобно скрипела в такт юбке-карандашу, натянувшейся до предела на богатырских бедрах главы культпросвета области.
Я соскочил с подоконника и кинулся в сторону главного входа. Послышались тяжелые удары кулаком о дубовые двери, и звук этот, без сомнения, разнесся по всему театру, от фойе до чердака. Мгновенно пролетев два лестничных пролета, я выбежал в фойе, в котором уже собралась половина труппы во главе с Маргаритой Карловной и Генриеттой Робертовной. Звуки ударов повторились. Послышался голос:
– Откройте двери. Это комитет по культуре Угорской области! – Басистый голос за дверью явно не внушал ничего позитивного.
– Что будем делать? Если откроем дверь, нас всех кинут мордами в пол! – прошипел Евгенич полушепотом. Все взгляды устремились к Карловне и Генриетте. Бухгалтерша тяжело вздохнула и, глянув на Валеру, кивнула ему, движением головы указывая на дверь. Помреж огляделся по сторонам, делая вид, что искал человека, которому велели открыть дверь, а после, закатив глаза и пожав плечами, отодвинул тяжелый засов на дверях, и они с Петровичем тяжело их раскрыли. Мадам Бауман стояла на пороге театра в окружении все тех же артистов ансамбля «Украл. Выпил. В тюрьму» и противно улыбалась. А после сделала несколько шагов и замерла в фойе, осматривая доблестных защитников театра.
– Элеонора Владиславовна Бауман, глава комитета по культуре Угорской области. Мне нужен Альберт Феликсович Нервяков, директор этого театра. Могу его увидеть? – Вопрос был скорее риторическим, по голосу Бауман можно было понять, что она просто выполняет формальности, а Альберт ей нужен просто для его подписи на бумаге, которая положит конец существованию театра. И тут случился такой «финт ушами», что я, признаться честно, чуть не упал в обморок. Мгновеньем позже этого вопроса Генриетта Робертовна упала на пол и начала биться в истерическом припадке, а еще секунду спустя давилась слезами и приговаривала:
– На кого ж ты нас оставил? Ну молодой же совсем был… Альбертик, душа моя… жизнь моя. Как я его любила! МАРГО! Ну, за что?! Почему его, а не меня? – Робертовна вцепилась в юбку Маргариты Карловны и выдала новую порцию соленого водопада, изливаясь в мучительной агонии и падая на пол. У всех, включая Мадам Бауман и быков Блатнякова, глаза вылезли на лоб. Маргарита Карловна поняла, в чем дело, и выдала скупую бухгалтерскую подучетную слезу, ее примеру последовали все остальные. Мужчины опустили глаза в пол, Людочка кинулась успокаивать Генриетту, а я огляделся по сторонам. Маргарита Карловна подняла голову на Бауман:
– Альберт Феликсович скончался вчерашней ночью – не пережил стресса в связи со встречей с местными криминальными структурами. Светлая память, добрейший был человек. – Нервно сглотнув, бухгалтерша отвела взгляд от карательной процессии, появившийся на нашем пороге. Бауман мерзко заулыбалась.
– Что ж, Альберт Феликсович был моим хорошим другом, мы часто сидели в жюри престижных конкурсов, я думаю, вы не будете против, если я отдам ему дань уважения на прощание? – Морщинистые губы министерши напоминали теперь меха аккордеона, она хотела поймать всех на лжи и была абсолютно уверена в том, что сейчас непременно это и случится. У меня закололо в груди, я тяжело задышал. – Куда мне пройти?
Только я собирался открыть рот, чтобы сморозить что-то вроде «Он умер одиноко дома, в своей кровати. И сейчас в морге», как Робертовна, вытирая потекшую тушь салфеткой, внезапно выпрямилась и указала рукой в сторону зала:
– Прошу вас. Я думаю, ему было бы приятно напоследок видеть старого друга. – Слово «старого» актриса особенно выделила, и чтоб не акцентировать на этом внимание мадам Бауман, актриса двинулась в сторону зрительного зала, возглавляя грустную процессию из ничего не понимающих коллег по сцене и технического персонала театра. Я вошел в зрительный зал и обомлел. На сцене в свете прожекторов стоял настоящий гроб изумрудно-зеленого цвета, покоящийся на постаменте, целиком и полностью заваленный цветами, венками и памятными лентами вроде «От друзей», «Помним. Любим. Скорбим», «Дорогому другу на память из Саратова» и т. д. У гроба стояли Аяла, Роксана и Настя, облаченные в черные траурные платья, лица их скрывали вуали, девушки плакали.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?