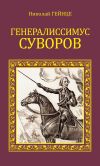Читать книгу "Современный самозванец"

Автор книги: Николай Гейнце
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
XXIX
С берегов Сены
Николай Герасимович Савин и Мадлен де Межен занимали великолепное отделение в гостинице «Англия» на Петровке.
В Москву они прибыли из Петербурга всего месяца с два.
Оправданный калужским окружным судом по обвинению в поджоге, освободившись таким образом от гнета тяготевших на нем в России обвинений, из-за которых он претерпел столько мытарств этапа и тюремного заключения, Савин полетел, как вырвавшийся школьник, на берега Невы, где ожидала его любимая и любящая женщина, покинувшая для него родину, родных и друзей, оставшихся в ее милой Франции.
Вернувшись в Париж, верная своему слову, она, покончив в нем свои дела, уехала к своей кузине и там, в глуши французской провинции, стала жить ожиданием весточек от ее «несчастного друга», как называла Мадлен де Межен Савина.
Весточки приходили, но короткие и печальные.
Краткость объяснялась необходимостью отдавать написанные письма на просмотр тюремного начальства, что заставляло Николая Герасимовича быть сдержанным в проявлении своих чувств, обреченных, как ему казалось, на профанацию посторонних, чуждых и неумеющих понять их людей.
Печальны они были потому, что настроение духа Савина в русских тюрьмах, не исключая и образцового дома предварительного заключения, за последнее время было мрачно и озлобленно.
Письма, таким образом, не удовлетворяли молодой женщины, думавшей, что при переписке она сохранит душевную близость с любимым человеком.
Этой близости, увы, она не чувствовала.
Гнетущая тоска все сильней и сильней стала сжимать ее сердце.
Наконец она не выдержала и снова уехала в Париж, не сказав ни слова своей кузине о цели своей поездки.
Цель эта между тем была во что бы то ни стало пробраться в Россию и хотя присутствием с «несчастным другом» в одном городе ободрить и утешить его, доказав ему, что обещания следовать за ним даже в «холодную Сибирь» – не были с ее стороны пустыми словами.
Обладая небольшим, но приятным сопрано, Мадлен де Межен зачастую между своими певала модные шансонетки и знала таким образом все новинки Парижа в этом роде.
На своем, хотя и коротком веку, она перевидала множество представительниц шансонетного жанра парижских бульварных сцен и усвоила без труда их шик и методу.
С таким аристократическим запасом она легко могла появиться перед русской публикой в качестве «звезды», тем более, что условия ее были много скромнее настоящих «парижских звезд».
Очень скоро через одного из театральных агентов она добыла сверх ожидания даже очень выгодный ангажемент в Петербург.
Агент расписал ее антрепренеру самыми яркими красками и сам хлопотал, чтобы не продешевить свежеиспеченную «звезду», так как его вознаграждение составлял процент с ее гонорара.
Она получила солидный аванс и уехала с берегов Сены на берега Невы.
При самом выезде из Парижа она написала письмо Савину, но при формальности передачи писем арестантам он получил его тогда, когда она уже второй день жила в шикарном номере «Европейской гостиницы» в Петербурге.
Она приехала как раз накануне дня, назначенного для судебного разбирательства дела Савина в Петербурге, и когда он вернулся в свою камеру, довольный своим оправданием, его там ожидала другая радость – письмо от Мадлен де Межен.
Прочтя письмо, он понял, что Мадлен уже в Петербурге, и стал ожидать свидания.
Он был уверен, что Мадлен де Межен добьется этого свидания.
Действительно, не без труда и хлопот Мадлен де Межен добилась свидания с ее «несчастным другом».
Чего не добьется любящая женщина?
Свидание произошло в конторе дома предварительного заключения и, несмотря на присутствие помощника смотрителя, деликатно, впрочем, отошедшего в противоположный конец комнаты и остановившегося у окна, Мадлен и Савин бросились друг к другу в объятия.
В разрешенные им полчаса они переговорили о многом.
Молодая женщина рассказала, как она сделалась артисткой с единственной целью попасть в Петербург.
– И подумай, я произвожу фурор… Меня буквально засыпают цветами и подарками, – не могла не похвалиться своим успехом Мадлен де Межен.
Николай Герасимович поморщился, но не сказал ничего.
– Мне уже косвенно, конечно, делали самые выгодные предложения… Здесь, говорят, у вас совсем нет женщин… – продолжала она вполголоса свою болтовню.
Разговор, конечно, шел по-французски.
– Что ты за вздор болтаешь?.. Как нет женщин?..
– Ну, то есть изящных женщин… Ваши мужчины имеют вид голодных собак при виде каждого смазливого личика.
Николай Герасимович не выдержал.
– Перестань болтать пустяки… Поговорим лучше о деле.
Он сообщил ей о положении своих денежных дел, о надежде на вторичное оправдание в Калуге и некоторых планах будущего.
– Тебе, конечно, придется бросить свою сценическую деятельность, – сказал он, подчеркнув последнее слово.
– Почему?
– А потому, что я ненавижу сцену, – резко отвечал он. Перед ним промелькнуло его тяжелое прошлое.
Он вспомнил Маргариту Гранпа, которую погубила и отняла та же сцена. Припомнился ему неожиданный его арест в Большом театре и поездка в Пинегу, откуда он вернулся, чтобы узнать, что девушка, которую он одну в своей жизни любил свято и искренно, начала свое гибельное падение по наклонной плоскости сценических подмостков.
Он в этот момент, на самом деле, искренно ненавидел театр, хотя эта ненависть в первый раз в такой резкой форме зажглась в его сердце.
Теперь снова женщина, которую он любит, вступила на еще более скользкие подмостки кафешантана, и хотя разум говорит ему, что это она сделала исключительно из любви к нему, но все же, кто знает, что тот фурор, который она произвела среди мужчин, глядящих на нее, по ее собственному выражению, как голодные собаки, и о котором она говорит с нескрываемым восторгом, не вскружит ей головку и она не пойдет по стопам той же Гранпа, а, быть может, падет еще ниже.
Это вторичное вмешательство сцены в его жизнь озлобило его против театра, и он это озлобление перенес на Мадлен-артистку.
Он замолчал после резкого возгласа:
– А потому, что я ненавижу сцену!..
Молодая женщина смотрела на него с нескрываемым недоумением.
Ей не был известен первый роман его юности, а потому она приписала его раздражение исключительно чувству ревности, что приятно польстило ее самолюбию.
Она внутренне была рада, что любовь его в разлуке не уменьшилась, за что она опасалась, судя по коротким и холодным последним письмам.
К чести Мадлен де Межен надо сказать, что она совершенно искренне сообщала своему «другу» о своих успехах, без предвзятой мысли возбудить его ревность, но далеко, повторяем, не была недовольна этим результатом.
– Я приглашена на сорок представлений… директор уже говорил о продлении контракта, но если ты не хочешь…
– Да, уж пожалуйста… Побаловалась и будет… – голосом, в котором все еще слышалось раздражение, прервал ее Савин.
– Я сделаю так, как ты хочешь…
– Меня скоро отправят в Калугу… – продолжал он, – а после оправдания я сейчас же вернусь в Петербург и к этому времени ты должна быть свободна… Понятно, если ты этого хочешь…
Последние слова он произнес с нескрываемой иронией и несколько деланно равнодушно.
– Nicola… – с упреком произнесла Мадлен де Межен.
– Ну, прости, прости меня, я раздражен, тюрьма не улучшает характера.
Они перешли к более миролюбивым темам.
Определенные полчаса миновали.
Они расстались.
Николай Герасимович вернулся к себе в камеру.
Странный осадок в его сердце оставило это первое свидание на родине с любимою женщиной.
До отправки в Калугу он еще несколько раз виделся с Мадлен де Межен и его поразило то, что она ни словом не обмолвилась о сценической деятельности.
Молодая женщина поняла, что эта деятельность ему неприятна, и молчала, хотя это ей стоило больших усилий, так как уже на второе свидание она принесла ему в кармане вырезки из петербургских газет, на страницах которых появились дифирамбы ее таланту и красоте.
Она поняла, с присущим ей тактом, что этим вырезкам суждено так и остаться в ее кармане.
После оправдательного приговора калужского окружного суда Николай Герасимович возвратился в Петербург и, устроив свои денежные дела, вскоре уехал с Мадлен де Межен, несмотря на горячие мольбы антрепренера, не пожелавшей возобновить контракта, в Москву.
Первые дни свободы около прелестной женщины, конечно, были для Николая Герасимовича в полном смысле медовыми, но затем в этот мед снова попала ложка дегтя в форме мучивших самолюбивого до последних пределов Савина воспоминаний об артистической деятельности Мадлен де Межен в Петербурге.
Появилась чуть заметная натянутость отношений, не оставшаяся, повторяем, тайной для чуткого сердца женщины.
В Москве они вели веселую жизнь. Николай Герасимович счастливо играл, что вместе с полученным им остатком его состояния позволяло ему не отказывать ни в чем ни себе, ни Мадлен де Межен.
Счастье в игре, по-видимому, его, однако, не радовало.
«Счастлив в картах, несчастлив в любви, – часто появлялось в его мыслях. – Несомненно, в Петербурге она не была безгрешна», – вдруг умозаключил он, стараясь, как всегда это бывает, сам найти доказательство того, чему хотел бы не верить, даже в предрассудках.
Другого доказательства у него не было, да и быть не могло.
Так жили они в Москве до встречи в Петровском парке с Нееловым и Селезневой.
После катанья они весело поужинали в ресторане «Мавритания» и Мадлен де Межен увезла Любовь Аркадьевну к себе ночевать.
С того вечера молодые женщины стали неразлучны.
XXX
Сообщники
Кирхоф продолжал одолевать графа Сигизмунда Владиславовича Стоцкого все более и более возраставшими требованиями.
Тот бился, как рыба об лед, и положительно терял голову.
Вскоре после бала у Алфимова граф снова получил лаконичную записку своего бывшего сообщника:
«Приезжай и привези денег. К.».
Раб своего прошлого, граф Стоцкий на другой же день утром отправился к Кирхофу.
– Привез денег? – встретил его последний вопросом, произнесенным повелительным тоном.
– Нет, привезу завтра вечером две тысячи.
– Этого мало, привезешь и две с половиною.
Граф Сигизмунд Владиславович бешено зашагал взад и вперед по комнате.
– Так продолжать нельзя, ты становишься ненасытен!
– А ты будешь, разумеется, неистощим, дружище! Это в твоих интересах. Видишь ли: всякому свой черед. Прежде я таскал для тебя каштаны из жара, а теперь ты потаскай за меня.
Граф Стоцкий сделал отчаянный жест.
– Не бесись, сердечный… У тебя там нож под сюртуком, зарезать хочешь? Смотри, не просчитайся! Все наши с тобой дела, как я уже говорил тебе, в руках третьего человека, и тронь ты один волос у меня на голове, он пустит их в ход! Одним словом, клянусь тебе честью каторжника – и жить, и погибать мы будем вместе.
– О, уезжай, уезжай отсюда, куда бы то ни было, и я заплачу тебе все, что ты хочешь! – скрежетал граф Сигизмунд Владиславович.
– Ведь я уже сказал тебе, что во второй раз дурака не сломаю! – спокойно отвечал Кирхов, сидя развалившись в кресле у письменного стола. – Мне хорошо и здесь, а твои заботы я ценю внше миллиона, и ты мне его сделаешь. Так успокойся же, дружочек, ступай и создавай деньги, а то я дольше завтрашнего вечера ждать не могу.
Граф Стоцкий вышел и так хлопнул дверью, что в квартире задрожали окна.
Вечером за ужином у Матильды Руга никто не мог и подозревать, что этот веселый человек в душе несчастнее каторжника.
Граф Сигизмунд Владиславович по приглашению певицы уехал последний.
Когда гости разъехались, она строго обратилась к нему.
– Почему вы не были у меня сегодня утром?
– Меня задержал Кирхоф!
– О, ненавистный человек! Хотите, я достану вам яду.
– Нет, я дорожу его жизнью, как своей собственной.
– Все это прекрасно, но он забирает у нас чуть не половину добычи.
– Увы!
– Значит, необходимо ускорить дело с графом Петром, а для этого нужно прежде всего отдалить его от жены. После этой несчастной истории с медальоном он чувствует себя виноватым и, кажется, еще более привязался к ней.
– Да, и мне трудно стало настраивать его против нее. Он запрещает мне говорить о ней.
– Вы видите, что это серьезно.
– Вижу! Но что же делать?
– Я уже кое-что придумала… Капитолина Андреевна Усова будет праздновать рождение своей шестнадцатилетней дочери Веры и на этом балу первый раз покажет ее публично. Девочка в полном смысле красавица… Вы знаете, кому она предназначена?
Граф Стоцкий утвердительно кивнул головой.
– Надо раздразнить тщеславие графа Вельского.
– Нет, из этого едва ли что-нибудь выйдет! – возразил граф Сигизмунд Владиславович. – Надо устроить, чтобы граф и графиня возненавидели друг друга… Ольга Ивановна составит для графини достаточную причину.
– Ах, да, расскажите, как вы туда ездили и знает ли она, кто…
– Она поселилась у своих дяди и тетки. Меня встретил ее дядя, и так грозно, что я почти струсил… Затем вышла она сама. Когда она меня увидала, только побледнела, как мертвец. Я поскорее достал письмо графа и подал ей. Она не берет. «Нет, – говорит, – у нас с графом нет и не может быть ничего общего». Тут дядя ее взбесился окончательно. Схватив письмо, распечатал и прочел его, да еще вслух. Пока он возился с конвертом, я думал, что тут, черт знает, что выйдет, но оказалось, что граф Петр очень вежливо уговаривает ее вернуться, а затем рассыпается в любезностях по адресу своей супруги. Дяденька даже опешил, а Ольга Ивановна дослушала до конца, тихо вскрикнула и упала в обморок. «Ничего не понимаю», – проворчал дядя и унес девушку из комнаты, как ребенка. Затем вскоре вернулся ко мне и объявил: «Ответа на письмо не будет. Моя племянница останется здесь. А будь то, что я подозреваю, правда – вашему графу пришлось бы поплатиться головой. Честь имею кланяться!» Мне оставалось только поскорее унести ноги.
– Да, но хорошо и то, что вы узнали, что она не знает, кто был героем ее романа… – заметила между тем Матильда Францовна.
– Мне же думается, что мое посещение Костина принесло нам и другие выгоды.
Певица посмотрела на него вопросительно.
– Мы знаем теперь, – продолжал граф, – что ее дядя, а тем более отец, когда они узнают все, способны мстить за дочь, ни перед чем не задумавшись, и запугав ими старика Алфимова, мы можем брать с него все, что вздумаем. С другой стороны, Ольга Ивановна не могла скрыть от родных своей любви к графу Петру Васильевичу. После обморока у ней открылась нервная горячка и она все бредит Вельским. Если ее приключение станет известным графине, конечно, в том смысле, что его герой – ее муж, она возненавидит и прогонит его, а он с горя и злобы очутится в наших руках бесповоротно. А чтобы спасти его от мести отца и дяди, мы его увезем в Париж. Насколько это удастся, мы узнаем скоро.
– Вы умный и предусмотрительный человек… – заметила Руга. – Кстати, Корнилий Потапович был сегодня у меня, и я уже его напугала, если не дядей, которого не знала, то отцом… Он пришел в восторг от младшей дочери Усовой, но я его огорчила тем, что сказала, что за ней ухаживает граф Петр Васильевич.
– И что же он?
– Он с сердцем воскликнул: «Эх, вечно этот человек у меня на дороге!.. Нельзя ли его и на этот раз устранить?»
– Разлакомился, старый черт!.. – заметил граф Стоцкий. – Что же дальше?
– Дальше начал справляться об Ольге Ивановне, но за вестями о ней я его направила к вам. Он, верно, будет у вас завтра.
– И прекрасно, я с ним поговорю.
Граф Сигизмунд Владиславович простился со своей сообщницей и уехал.
Матильда Францовна не ошиблась.
Еще не было двенадцати часов, как Корнилий Потапович явился к графу Стоцкому.
Первый вопрос его был об Ольге Ивановне.
– Говоря откровенно, – сделал граф серьезное лицо, – она серьезно меня тревожит… Она у своего дяди, во всем призналась ему и тетке, те написали ее родителям… Покуда он и она думают, что это был граф Петр, но…
– Ну и прекрасно! И прекрасно! Пусть их думают, что это был граф Петр. Он человек молодой и легче с ними справится.
– Но граф мой лучший друг, – с жаром сказал граф Сигизмунд Владиславович, – и я из дружбы к нему обязан…
– Ну, так что же? Ведь и вы мне друг. А я… готов на всякие жертвы…
– Да ведь это известно не одному мне, это знает Матильда Францовна и ее подруга… Они могут обратиться к графу Петру и он, чтобы оправдаться, способен будет…
– Ну, да это ничего, ничего… Им денег дать нужно… Я дам столько, сколько у Вельского нет… А на вас я рассчитываю.
– Право, не знаю… Это очень неприятное и щекотливое дело… – с расстановкою нерешительным тоном сказал граф Стоцкий.
– Перестаньте, граф! Ведь вы знаете, я очень богат и уже стар… Сын мой имеет отдельное состояние, дочь тоже… Хранить для них мои деньги я не намерен… Так вот что, моя касса всегда к вашим услугам… Я куплю молчание Матильды и ее подруги… и заживем по-прежнему… По рукам?..
– Хорошо, так и быть, по рукам… Я считаю вас таким же моим другом, как и графа Петра… Я не знаю, что делать между двух друзей.
– Молчать.
– Хорошо…
– Благодарю вас.
Алфимов с чувством пожал руку графу Стоцкому.
– Вы куда? – спросил он, увидев, что граф взял перчатки.
– К графу Петру…
– Так поедемте вместе… Мне надо узнать, будет ли он на вечере у Усовой.
Графиня Надежда Корнильевна сидела у себя в будуаре среди целой груды полотна, батиста и кружев и с нежными мечтами женщины, впервые готовящейся быть матерью, рассматривала крошечные рубашечки, чепчики и остальные принадлежности для новорожденного.
Вошел граф Петр Васильевич и, нежно поцеловав у жены руку, опустился рядом с ней на диван.
– О, как я счастлив, Надя! – воскликнул он, смотря на нее восторженным взглядом. – Я не могу на тебя насмотреться и нарадоваться тому, что ты стала такая спокойная, светлая, даже на щеках появился румянец.
– Я очень рада, что ты доволен.
– Да, ты спокойна! Но счастлива ли ты, Надя? Простила ли ты мне все горе, которое я тебе причинил? Любишь ли ты меня хоть чуть-чуть?..
– Ты видишь все мои поступки, знаешь все мои мысли, тайн от тебя у меня нет. Суди сам.
– Ах, что за дурак я был! – вскричал граф, снова целуя руку у жены. – Убивать время в кутежах вместо того, чтобы наслаждаться чистым, прочным счастьем.
– Сам Бог внушает тебе такие мысли, милый!
– А какой у тебя здесь беспорядок… – рассмеялся граф Петр Васильевич, оглядывая комнату, но, мгновенно поняв в чем было дело, еще раз с глубокой нежностью поцеловал руку Надежды Корнильевны.
– О, Надя, если бы ты знала, как я безгранично счастлив…
– Я искренно радуюсь этому… А что, ты ничего не знаешь об Оле? – спросила графиня.
– Нет! С минуты на минуту ожидаю Сигизмунда… Я поручил ему разузнать, где она и что с ней.
Надежда Корнильевна поморщилась, однако промолчала.
– Чрезвычайно странно, что она так уехала! И еще эта записка, которую она оставила… Я думала, что ты один можешь объяснить это… Скажи мне правду, Петя?
– Клянусь тебе, я сам ничего не понимаю! С Ольгой Ивановной я вел себя, как брат. Бывали случаи, что я бесился на тебя за твою холодность и старался заставить тебя ревновать, но с тех пор, как понял, что ты слишком чиста и высока для ревности, я веду себя так же честно.
– И слава Богу!..
– Граф Стоцкий желает видеть его сиятельство! – доложила Наташа.
– Вот сейчас и узнаю об Ольге Ивановне, – сказал граф Вельский, целуя руку у жены и уходя.
Графиня проводила мужа долгим взглядом.
Она верила ему. Граф принадлежал к числу людей испорченных и бесхарактерных, но он не был лгуном.
Это было, быть может, одно из его достоинств, но для его жены оно было хуже всех его пороков.
Он был откровенен с Надеждой Корнильевной, откровенен до мелочей, и эта-то откровенность заставила страдать и самолюбие, и нравственное чувство этой чистой женщины.
В данном случае, впрочем, эта черта характера ее мужа успокаивала ее.
Со дня завтрака у ее отца у нее не выходило из головы письмо, адресованное ей Ольгой Ивановной.
По письму выходило, что ее подруга считает себя преступницей, а потому не может видеть ни ее, Надежду Корнильевну, ни ее мужа, значит…
Графиня даже мысленно не хотела делать вывода.
«Ужели… в доме ее отца… с ее единственной подругой? Нет, не может быть!»
Надежда Корнильевна гнала от себя эту мысль, а она упорно все лезла ей в голову.
«Граф бы сказал ей, – думала она теперь после разговора с мужем, – или бы смутился после поставленного ею прямо вопроса: „Скажешь мне правду?“»
Не случилось ни того, ни другого, хотя он и дал некоторое объяснение, за которое схватилась графиня Надежда Корнильевна.
Ухаживание графа, ухаживание для возбуждения ревности к жене, вскружило голову Ольге Ивановне, она влюбилась в ее мужа и, считая это чувство преступлением, бежала и скрылась… Это было логично, особенно для такой идеалистки, какою была графиня Вельская.
«Но зачем муж вмешал в это дело графа Стоцкого? – снова при воспоминании о Сигизмунде Владиславовиче поморщилась Надежда Корнильевна. – Мог бы сам разузнать».
Она бы поехала сама, но ей не позволяли продолжительных прогулок и, главное, волнения.
«А где ее искать?.. Впрочем, увидим, что скажет граф».
На этом Надежда Корнильевна успокоилась.