Текст книги "Сказка бочки. Памфлеты"
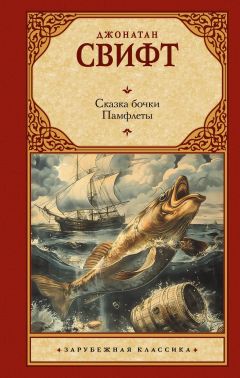
Автор книги: Николай Карамзин
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 19 страниц)
Краткая характеристика его светлости графа Томаса Уортона, вице-короля Ирландии
Ирландское королевство управляется полномочными представителями Англии, а потому со времени установления власти англичан его историю обычно связывают с именами отдельных правителей. Однако вот уже несколько лет все происходившее на этом острове было столь незначительно или настолько подчинено английским делам и событиям, что вообще не представляло собою ничего существенного для истории. Слава, которую ирландцы стяжали своей службой в армии, целиком вписывается в анналы истории Англии. Остальное – все, что относится к политике или искусству управления, – незначительно до последней степени, что бы ни говорили при дворе те, кто пользуется там властью и гордится каждым своим шагом, сделанным для окончательного порабощения ирландского народа, словно тем самым приобретаются великие выгоды для Англии.
Вообще говоря, если бы человеку был предоставлен выбор, когда ему жить, он не выбрал бы эпохи с богатой историей, как то времена различных военных событий и потрясений, происков поверженной и насильственных действий господствующей партии или, наконец, произвола и беззакония угнетателя-наместника.
Во время войны Ирландия не пользуется никакими правами, кроме права полностью подчиняться Англии; то же можно сказать о ее политических кликах: в настоящее время они представляют лишь несовершенную копию с английских. Что же касается самовластия и насилия – третьего предмета истории, – народ Ирландии уже долгие годы поставлен в исключительное положение среди всех подданных ее величества – положение, достигшее своей высочайшей вершины при его светлости графе Томасе Уортоне. А потому краткий отчет о его правлении, возможно, будет полезным и занимательным для нашего поколения, хотя следующему, надеюсь, покажется невероятным. И поскольку мое повествование, возможно, сочтут скорее историей его светлости, нежели историей его правления, полагаю необходимым заявить, что ни с какой стороны не посягаю на его особу. Я много раз удостаивался беседы с его светлостью и полностью убедился, что он безразличен к похвалам и нечувствителен к упрекам, что не является преходящим состоянием духа или позой и не проистекает от душевной чистоты или величия ума, но просто есть естественная склонность его натуры.
Он человек без чувства стыда или чести, как есть люди без чувства обоняния. А потому доброе имя имеет для него ту же цену, как для последних – изысканное благовоние. Каждый, кто взялся бы описать нрав змеи, волка, крокодила или лисы, разумеется, стал бы это делать ради блага других, а не из личных чувств любви или ненависти к этим животным.
Точно так же его светлость – один из тех, к кому я не питаю ни личной любви, ни ненависти. Я встречаюсь с ним при дворе, в его собственном доме и изредка в моем (ибо он удостаивает меня своими посещениями); и, когда эти страницы станут известны, он, по всей вероятности, скажет мне, как уже сказал однажды, что ему чертовски набили морду, и тут же с величайшей в мире легкостью переведет разговор на погоду или осведомится, который час. А потому я приступаю к делу, с тем большей охотой, что, конечно, не рассержу его и никоим образом не нанесу вреда его доброму имени. Такова та вершина счастья и покоя, которой достиг граф Уортон и куда прежде него не мог взобраться ни один философ.
Выполняя свою задачу, я сначала дам характеристику его светлости, а затем, в подтверждение ее, расскажу о некоторых фактах его правления.
Мне очень хорошо известно, что характер человека лучше всего познается из его поступков, но, так как деятельность лорда Уортона ограничивается его административной деятельностью в Ирландии, его характер, вполне возможно, содержит и нечто большее, что за краткостью времени и ограниченностью места он не имел возможности проявить.
Граф Томас Уортон, вице-король Ирландии, благодаря своему удивительному здоровью, переступив несколько лет тому назад через известный возраст, не проявляет заметных признаков старости ни телом, ни рассудком, несмотря на то что давно предается всем тем порокам, которые обычно изнашивают и то, и другое. Его поведение впору молодому человеку в двадцать пять лет. Прогуливается ли он или насвистывает, божится ли, ведет похабные разговоры или ругается, – с каждым из этих занятий он справляется лучше юриста, всего три года проведшего в Темпле. С тем же изяществом и в том же стиле он обрушивается с бранью на кучера посредине улицы в королевстве, где он правитель, и это в порядке вещей, ибо таков его нрав, и ничего другого от него и не ждут. Лицемер он слабый и неумелый враль, хотя он чаще всего прибегает к этим двум талантам и больше всего ими гордится. Если он достигает цели с помощью лжи, то скорее благодаря частому ее применению, нежели искусству, ибо его обман обнаруживается иногда через час, часто – в тот же день, всегда – через неделю. Он непринужденно рассказывает свои небылицы в смешанном обществе, хотя ему известно, что половина слушающих – его враги, что, несомненно, выведут его на чистую воду, как только расстанутся с ним. Он торжественно клянется вам в любви и преданности, и не успеваете вы повернуться к нему спиной, как он уже всем говорит, что вы пес и мошенник. Он неизменно посещает богослужения с торжественностью, какая полагается ему по должности, но будет рассказывать похабные непристойности и богохульствовать у церковных дверей. В политике он пресвитерианец, в религии – атеист, но в настоящее время он изволит блудить с паписткой. В своих отношениях с людьми он взял себе за общее правило стараться опутать их ложью, для чего существует у него одно-единственное средство – смесь из вранья и клятвенных заверений. Его он применяет безразлично и к фригольдеру с доходом в сорок шиллингов, и к тайному советнику, и этим способом ему нередко удается обмануть или позабавить легковерных и честных людей, и так или иначе он добивается своей цели. Сегодня он открыто лишает вас должности, потому что вы не принадлежите к его партии, а назавтра встретит или призовет вас как ни в чем не бывало, дружески обнимет вас за плечи, с величайшей непринужденностью и фамильярностью сообщит вам, чего его клика добивается в парламенте, попросит вас присутствовать на заседании и уговорить друзей, чтобы и они пришли, хотя он превосходно знает, что как вы, так и ваши друзья – его противники в том самом деле, о котором он ведет речь. При всей нелепости, смехотворности и грубости этого приема он не раз добивался успеха: некоторым людям свойственна неуклюжая застенчивость, и, застигнутые врасплох, они не умеют отказать; к тому же каждый человек всегда таит какие-нибудь надежды или опасения и потому остерегается доходить до крайности в отношениях с влиятельными особами, даже если для этого есть достаточно поводов. Он спустил свое состояние, пытаясь разорить одно королевство, и нажил состояние, когда преуспел в разорении другого. Обладая изрядным природным умом, великолепным даром слова и довольно изящным остроумием, он обычно худший в мире собеседник: его мысли целиком заняты распутством или политикой, так что все его речи заполнены непристойностями, богохульством или делами. Чтобы наслаждаться двумя первыми, он пользуется услугами своих фаворитов, единственный талант которых – потешать его светлость рассказами обо всех известных в городе распутствах. В деловом отношении он, говорят, весьма ловок там, где нужно пустить в ход интригу, и, кажется, целиком перенес на общественные дела присущий ему в юности талант к любовным интрижкам. Чтобы придать вес своей любви, тщеславный юнец, с риском сломать себе шею, в полночь карабкается через стену или лезет в окно к простой девчонке, куда мог бы свободно войти через дверь и в полдень. Его светлость, упражнения ли ради или ввиду особых преимуществ для своей политики, прибегает к самым темным, беспокойным и извилистым тропкам даже в тех обычных делах, которые с тем же успехом разрешились бы попросту или все равно пошли бы своим чередом, независимо от его вмешательства.
С безразличием стоика сносит он любовные приключения своей супруги и считает себя вполне вознагражденным рождением детей для продолжения рода, не утомляя себя обязанностями отцовства.
Им владеют три страсти, редко соединяющиеся в одном лице, ибо, свойственные различным характерам, они естественно исключают друг друга. Это жажда власти, жажда денег и жажда удовольствий. Иногда они царят над ним поочередно, иногда все вместе. С тех пор как он прибыл в Ирландию, он, по-видимому, с наибольшим увлечением предается второй из них, и не без успеха: менее чем за два года своего правления, по самым скромным подсчетам, он нажил сорок пять тысяч фунтов, одну половину – обычным путем, другую – благоразумным.
Одной даме, я помню, он сам сказал, что не было случая, чтобы он отказал дать обещание или сдержал его, в отношении ее (она просила его о пенсии) он клялся сделать исключение. Но и это обещание он нарушил и тем обманул, как я должен признаться, нас обоих.
Но я прошу не смешивать простое обещание со сделкой, ибо в последнем случае он, конечно, будет соблюдать условия, если они сулят ему выгоды.
Таков характер его светлости…
Предложение об исправлении, улучшении и закреплении английского языка
в письме к высокочтимому Роберту Оксфорду и Мортимеру, лорду-казначею Великобритании
Милорд!
То, что я имел честь высказать вашей светлости в недавней нашей беседе, не было для меня мыслью новой, возникшей случайно или произвольно, но плодом долгих размышлений, и с тех пор суждения некоторых весьма сведущих лиц, к которым я обратился за советом, еще более утвердили меня в справедливости моих соображений. По их общему мнению, ничто не будет столь полезным для развития наук и улучшения нравов, как действенные меры, рассчитанные на исправление, улучшение и закрепление нашего языка, и они полагают вполне возможным осуществить такого рода предприятие при покровительстве монарха, поддержке и поощрении его министров и стараниях надлежащих лиц, для этого избранных. Я с радостью услышал, что ответ вашей светлости отличается от того, что в последние годы принято говорить в подобных случаях, а именно что дела такого рода следует отложить до мирного времени – общее место, настаивая на котором, иные зашли так далеко, что рады бы любыми средствами заставить нас не думать о соблюдении наших гражданских и религиозных обязанностей из-за войны, которую мы ведем за границей.
Милорд, от имени всех ученых и просвещенных лиц нашего государства я жалуюсь вашей светлости, как премьер-министру, что язык наш крайне несовершенен, что повседневное его улучшение ни в коей мере не соответствует повседневной его порче; что те, кто полагает, будто бы они делают наш язык более отточенным и изысканным, только умножили его неправильности или нелепости и что во многих случаях попираются все законы грамматики. Но дабы ваша светлость не сочли мой приговор слишком суровым, я позволю себе высказаться подробнее.
Ваша светлость, полагаю, согласится с моим объяснением причин меньшей утонченности нашего языка по сравнению с итальянским, испанским или французским. Совершенно очевидно, что чистый латинский язык никогда не был распространен на этом острове, так как не делалось или почти не делалось никаких попыток завоевать его вплоть до времен Клавдия. И в Британии этот язык не был в столь общем употреблении среди народа, как в Галлии и Испании. Далее мы видим, что римские легионы были отсюда отозваны, чтобы помочь своей стране против нашествия готов и других варваров. Между тем, предоставленные самим себе, бритты подверглись жестоким набегам пиктов и были вынуждены призвать саксов на помощь. В результате саксы установили свою власть почти над всем островом, оттеснили бриттов в самые отдаленные и горные его части, а остальные части страны приняли обычаи, религию и язык саксов. Это, я полагаю, и послужило причиной того, что в языке бриттов сохранилось больше латинских слов, чем в древнесаксонском, который, если исключить незначительные изменения в правописании, сходен в большинстве своих исконных слов с современным английским, а также немецким и другими северными языками.
Эдуард Исповедник, долго живший во Франции, первым, по-видимому, внес некоторую примесь французского в саксонский язык. Двор стремился угодить своему королю, а все остальные сочли это модным, как это происходит и у нас. Вильгельм Завоеватель пошел значительно дальше. Он привез с собой великое множество французов, рассеял их по всем монастырям, роздал им большие земельные наделы, приказал все прошения писать по-французски и попытался ввести этот язык в общее употребление по всему королевству. Так, во всяком случае, принято думать.
Однако ваша светлость вполне убедил меня в том, что французский язык сделал еще более значительные успехи в нашей стране при Генрихе II, который получил большие владения на континенте во французской земле как от отца, так и от супруги, совершал туда частые поездки и путешествия, всегда в сопровождении большого числа соотечественников, состоявших при его дворе. В течение нескольких последующих веков продолжались постоянные сношения между Францией и Англией как ради принадлежащих нам во Франции владений, так и благодаря нашим новым завоеваниям. Таким образом, два или три столетия тому назад в нашем языке было, по-видимому, больше французской примеси, чем сейчас. Многие слова были впоследствии отвергнуты, некоторые – уже со времени Спенсера, хотя у нас сохранилось еще немало слов, давно уже устаревших во Франции. Я мог бы привести несколько примеров того и другого рода, будь они хоть сколько-нибудь полезны или занимательны.
Исследование различных обстоятельств, в силу которых может изменяться язык страны, увлекло бы меня в весьма пространную область. Я отмечу только, что у латинского, французского и английского языков была, по-видимому, одинаковая судьба. Первый со времен Ромула до Юлия Цезаря подвергался непрерывным изменениям. Из того, что мы читаем у писателей, случайно затронувших этот вопрос, так же как из отдельных отрывков древних законов, ясно, что латинский язык, на котором говорили за три столетия до Туллия, был столь же непонятен в его время, как английский или французский языки и трехсотлетней давности непонятны нам сейчас. А со времени Вильгельма Завоевателя (то есть немногим менее чем за семьсот лет) оба эти языка изменились не меньше, чем латинский за такой же период времени. Будут ли наш язык или французский разрушаться с той же быстротой, что и латинский, – вопрос, который может вызвать больше споров, чем он заслуживает. Порча латинского объясняется многими причинами, например переходом к тираническому образу правления, погубившему красноречие, так как не было больше нужды поощрять народных ораторов; предоставлением жителям многих городов в Галлии, Испании и Германии, а также в других далеких странах, вплоть до Азии, не только гражданства города Рима, но и права занимать различные должности, что привело в Рим множество чужеземных искателей удачи; раболепством сената и народа, вследствие чего остроумие и красноречие превратились в славословие – пустейшее из всех занятий; величайшей испорченностью нравов и проникновением чужеземных предметов роскоши вместе с чужеземными словами для их обозначения. Можно было бы указать еще на несколько других причин, не говоря уже о вторжениях готов и вандалов, значение коих слишком очевидно, чтобы нужно было на них останавливаться особо.
Язык римлян достиг высокого совершенства прежде, чем он начал приходить в упадок. А французский язык за последние пятьдесят лет подвергся такой тщательной отделке, какую он только в состоянии выдержать; но он, по-видимому, приходит в упадок вследствие природной непоследовательности этого народа и из-за особого пристрастия некоторых авторов недавнего времени злоупотреблять жаргонными словами – самым гибельным средством искажения языка. Покойный Лабрюйер, прославленный среди французов писатель, пользуется многими новыми словами, коих нет ни в одном из ранее составленных общих словарей. Английский язык, однако, не достиг еще такой степени совершенства, чтобы нам следовало опасаться его упадка. А если наш язык достигнет определенного предела утонченности, то, возможно, найдутся способы закрепить его навечно или по крайней мере до той поры, когда мы не подвергнемся вторжению и наша страна не будет завоевана другим государством. Но даже в последнем случае лучшие наши творения, вероятно, тщательно хранились бы, и их приучились бы ценить, а их сочинители приобрели бы бессмертие.
Однако даже и без подобных переворотов (коим, мне думается, мы менее подвержены, чем континентальные королевства) я не вижу необходимости в том, чтобы язык постоянно менялся, ибо можно привести множество примеров обратного. От Гомера до Плутарха прошло свыше тысячи лет, и можно признать, что по крайней мере в течение этого времени и неизвестно сколько веков до того чистота греческого языка сохранилась. Колонии греков простирались по всему побережью Малой Азии вплоть до северных ее частей, расположенных у Черного моря, на все острова Эгейского и на некоторые острова Средиземного моря, где в течение многих веков, даже после того как они стали римскими колониями, греческий язык сохранялся неизменным до той поры, пока после падения империи греки не были покорены варварскими народами.
У китайцев есть книги на языке двухтысячелетней давности, и даже частые нашествия татар не смогли изменить его. Немецкий, испанский и итальянский языки за последние несколько веков подверглись незначительным изменениям или не изменились вовсе. Мне ничего не известно о других европейских языках, да и нет особых причин их рассматривать.
Завершив этот обзор, я возвращаюсь к рассуждениям о нашем собственном языке и желал бы смиренно предложить их вниманию вашей светлости. По моему мнению, период, в который английский язык достиг своего наибольшего совершенства, начинается с первых лет правления королевы Елизаветы и кончается великим мятежом сорок второго года. Правда, слог и мысли были тогда очень дурного вкуса, в особенности при короле Якове I, но, кажется, обрели пристойность в первые годы правления его преемника, который, обладая и многими другими качествами превосходного монарха, был великим покровителем просвещения. Я имею основания сомневаться в том, что со времени междоусобной войны порча нашего языка не уравновесила по меньшей мере тех улучшений, которые мы в него внесли. Лишь немногие из лучших авторов нашего века полностью избежали этой порчи. В период узурпации жаргон фанатиков настолько проник во все сочинения, что от него невозможно было избавиться в течение многих последующих лет. Затем последовала пришедшая с Реставрацией распущенность, которая, пагубно отразившись на нашей религии и морали, губительно сказалась и на нашем языке. Едва ли улучшению языка мог содействовать двор Карла II, состоявший либо из людей, которые последовали за ним в изгнание, либо из тех, кто слишком наслушался жаргона фанатических времен, либо молодежи, воспитанной во Франции. Так что двор, который обычно был образцом пристойной и правильной речи, стал, и продолжает с тех пор оставаться, худшей в Англии школой языка. Он будет таким и впредь, пока не станут с большей заботой относиться к воспитанию дворянской молодежи, дабы она могла выходить в свет, владея некоторыми основами словесных наук, и стать образцом просвещенности. В какой мере этот недостаток отразился на нашем языке, можно судить по пьесам и другим развлекательным сочинениям, написанным за последние пятьдесят лет. Они в избытке наполнены жеманными речами, недавно выдуманными словами, заимствованными из придворного языка или у тех, кто, слывя остроумцами и весельчаками, считает себя вправе во всем предписывать законы. Многие из этих утонченностей давно уже устарели и едва ли понятны теперь, что неудивительно, так как они были созданы единственно невежеством и прихотью.
Насколько мне известно, еще не бывало, чтобы в этом городе не нашелся один, а то и больше высокопоставленных олухов, пользующихся достаточным весом, чтобы пустить в ход какое-нибудь новое словечко и распространять его при каждом разговоре, хотя оно не содержит в себе ни остроты, ни смысла. Если оно приходилось по вкусу, его тотчас вставляли в пьесы да журнальную писанину, и оно входило в наш язык; а умные и ученые люди, вместо того чтобы сразу же устранять такие неправильности, слишком часто поддавались соблазну подражать им и соглашаться с ними.
Есть другой разряд людей, также немало способствовавших порче английского языка: я имею в виду поэтов времен Реставрации. Эти джентльмены не могли не сознавать, сколь наш язык уже обременен односложными словами, тем не менее, чтобы сберечь себе время и труд, они ввели варварский обычай сокращать слова, чтобы приспособить их к размеру своих стихов. И занимались этим так часто и безрассудно, что создали резкие, нестройные созвучия, какие способно вынести лишь северное ухо. Они соединяли самые жесткие согласные без единой гласной между ними только ради того, чтобы сократить слово на один слог. Со временем их вкус настолько извратился, что они оказывали предпочтение тому, что прежде считалось неоправданной поэтической вольностью, утверждая, что полное произношение слов звучит слабо и вяло. Под этим предлогом такой же обычай был усвоен и в прозе, так что большинство книг, которые мы видим ныне, полно обрубками слов и сокращениями. Примеры таких злоупотреблений бесчисленны. И вот, выпуская гласную, чтобы избавиться от лишнего слога, мы образуем созвучия столь дребезжащие, столь трудно произносимые, что я часто недоумевал, можно ли их вообще выговорить.
Уродованию нашего языка немало способствовала и другая причина (вероятно, связанная с указанной выше): она заключается в дурацком мнении, сложившемся за последние годы, будто мы должны писать в точности так, как произносим. Не говоря уже об очевидном неудобстве – полном разрушении этимологии нашего языка, – изменениям тут не предвиделось бы конца. Не только в отдельных городах и графствах Англии произносят по-разному, но даже и в Лондоне при дворе комкают слова на один лад, в Сити – на другой, а в предместьях – на третий. И через несколько лет, вполне возможно, все эти выговоры опять переменятся, подчинившись причудам и моде. Перенесенное в письменность, все это окончательно запутает наше правописание. Тем не менее многим эта выдумка настолько нравится, что иногда становится нелегким делом читать современные книги и памфлеты, в которых слова так обрублены и столь отличны от своего исконного написания, что всякий привыкший к обыкновенному английскому языку едва ли узнает их по виду.
В университетах некоторые молодые люди, охваченные паническим страхом прослыть педантами, впадают в еще худшую крайность и полагают, что просвещенность состоит в том, чтобы читать каждодневный вздор, который им присылают из Лондона: они называют это знанием света и изучением людей и нравов. С такими познаниями прибывают они в город, считают совершенством свои ошибки, усваивают набор новейших выражений и когда берут в руки перо, то выдают за украшения стиля все необычайные словечки, подобранные в кофейнях и игорных домах, причем в правописании они изощряются до крайних пределов. Вот откуда взялись те чудовищные изделия, которые под именем Прогулок, Наблюдений, Развлечений и других надуманных заглавий обрушились на нас в последние годы. Вот откуда взялось то странное племя умников, которые уверяют нас, что пишут в соответствии со склонностями нынешнего века. Я был бы рад, если бы мог сказать, что эти причуды и кривлянья не затронули более серьезных предметов. Словом, я мог бы показать вашей светлости несколько сочинений, где красоты такого рода столь обильны, что даже вы, при ваших способностях к языкам, не смогли бы прочесть или понять их.
Но я убежден, что многие из этих мнимых совершенств выросли из принципа, который, если его должным образом осознать и продумать, полностью бы их развенчал. Ибо опасаюсь, милорд, при всех наших хороших качествах, просвещенность нам по природе не слишком свойственна. Наше беспрестанное стремление укорачивать слова, отбрасывая гласные, есть не что иное, как склонность вернуться к варварству тех северных народов, от которых мы произошли и языки которых страдают тем же недостатком. Нельзя не обратить внимания, что испанцы, французы и итальянцы, хотя и ведут свое происхождение от одних с нами северных предков, с величайшим трудом приучаются произносить наши слова, тогда как шведы и датчане, а также немцы и голландцы достигают этого с легкостью, потому что наши слова и их слова сходны по грубости и обилию согласных. Мы боремся с суровым климатом, чтобы вырастить более благородные сорта плодов, и, построив стены, которые задерживают и собирают слабые лучи солнца и защищают от северных ветров, мы иногда с помощью хорошей почвы получаем такие же плоды, как в более теплых странах, где нет нужды в таких затратах и усилиях. То же относится и к изящным искусствам. Возможно, что тот же недостаток тепла, который делает нас по природе суровыми, способствует и грубости нашего языка, несколько напоминающего терпкие плоды холодных стран. Ибо я не думаю, что мы менее даровиты, чем наши соседи. Ваша светлость, я надеюсь, со мной согласится, что мы должны всеми силами бороться с нашими природными недостатками и быть осмотрительными в выборе тех, кому мы поручаем их исправление, тогда как до сих пор это выполняли люди, наименее к тому пригодные. Если бы выбор был предоставлен мне, я бы скорее вверил исправление нашего языка (поскольку дело касается звуков) усмотрению женщин, нежели безграмотным придворным хлыщам, полоумным поэтам и университетским юнцам. Ибо ясно, что женщины, по свойственной им манере коверкать слова, естественно отбрасывают согласные, как мы – гласные. То, что я сейчас собираюсь рассказать вашей светлости, может показаться сущими пустяками. Находясь однажды в смешанном обществе мужчин и женщин, я просил двух или трех лиц каждого пола взять перо и написать подряд несколько букв, какие им придут в голову. Прочитав этот набор звуков, мы нашли, что написанное мужчинами, из-за частых сочетаний резких согласных, звучит как немецкий язык, а написанное женщинами – как итальянский, так как изобилует гласными и плавными звуками. И хотя я ни в коем случае не намереваюсь затруднять наших дам, испрашивая у них совета в деле преобразования нашего языка, я думаю, что нашей речи нанесен большой вред с тех пор, как они исключены из всех мест, где собирается общество, и появляются только на балах и в театрах да других местах, где творятся дела еще худшие.
Для того чтобы внести преобразования в наш язык, мне думается, милорд, следует по здравом размышлении произвести свободный выбор среди лиц, которые всеми признаны наилучшим образом пригодными для такого дела, невзирая на их звания, занятия и принадлежность к той или иной партии. Они, по крайней мере некоторые из их числа, должны собраться в назначенное время и в назначенном месте и установить правила, которыми намереваются руководствоваться. Какими методами они воспользуются – решать не мне.
Лица, взявшие на себя эту задачу, будут иметь перед собой пример французов. Они смогут подражать им в их удачах и попытаются избежать их ошибок. Помимо грамматики, где мы допускаем очень большие погрешности, они обратят внимание на многие грубые неисправности, которые, хотя и вошли в употребление и стали привычными, должны быть изъяты. Они найдут множество слов, которые заслуживают, чтобы их совершенно выбросили из языка, еще больше – слов, подлежащих исправлению, и, возможно, несколько давно устаревших, которые следует восстановить ради их силы и звучности.
Но более всего я желаю, чтобы обдумали способ установить и закрепить наш язык навечно, после того как будут внесены в него те изменения, какие сочтут необходимыми. Ибо, по моему мнению, лучше языку не достичь полного совершенства, нежели постоянно изменяться. И мы должны остановиться, в противном случае наш язык в конце концов неизбежно изменится к худшему. Так случилось с римлянами, когда они отказались от простоты стиля ради изощренных тонкостей, какие мы встречаем у Тацита и других авторов, что постепенно привело к употреблению многих варваризмов еще до вторжения готов в Италию.
Слава наших писателей обычно не выходит за пределы этих двух островов, и плохо, если из-за непрестанного изменения нашей речи она окажется ограниченной не только местом, но и временем. Именно ваша светлость заметил, что, не будь у нас Библии и молитвенника на языке народном, мы едва ли могли понимать что-либо из того, что писалось у нас каких-нибудь сто лет тому назад. Ибо постоянное чтение в церквах этих двух книг сделало их образцом для языка, особенно у простого народа. И я сомневаюсь, насколько внесенные с той поры изменения способствовали красоте или силе английской речи, хотя они во многом уничтожили ту простоту, которая является одним из величайших совершенств любого языка. Вы, милорд, столь сведущи в Священном Писании и такой знаток его оригинала, согласитесь, что ни один перевод, когда-либо выполненный в нашей стране, не может сравниться с переводом Ветхого и Нового Завета. И многие прекрасные отрывки, которые я часто удостаивался слышать от вашей милости, убедили меня в том, что переводчики Священного Писания в совершенстве владели английской речью и справились со своей задачей лучше, нежели писатели наших дней, что я приписываю той простоте, которой эта книга целиком проникнута. Далее, что касается большей части нашей литургии, составленной задолго до перевода Библии, которой мы ныне пользуемся и мало с тех пор измененной, то, по-видимому, мы вряд ли сможем где-либо найти на нашем языке более величественные примеры подлинного и возвышенного красноречия; каждый человек с хорошим вкусом найдет их в молитвах причастия, в заупокойной и других церковных службах.
Но когда я говорю, что желал бы сохранить наш язык навеки, я не хочу этим сказать, что не следует обогащать его. При условии, что ни одно слово, одобренное вновь созданным обществом, впоследствии не устареет и не исчезнет, можно разрешить включать в язык любые новые слова, которые сочтут нужными. В таком случае старые книги всегда будут ценить по их истинным достоинствам и не будут пренебрегать ими из-за непонятных слов и выражений, которые кажутся грубыми и неуклюжими единственно потому, что вышли из моды.









































