Читать книгу "Разбойничья Слуда. Книга 3. Отражение"
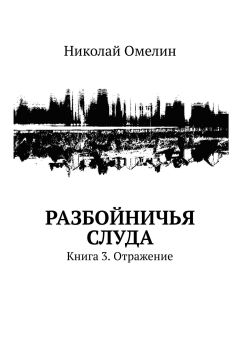
Автор книги: Николай Омелин
Жанр: Современные детективы, Детективы
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
Разбойничья Слуда
Книга 3. Отражение
Николай Омелин
© Николай Омелин, 2021
ISBN 978-5-4498-9217-1 (т. 3)
ISBN 978-5-4496-2361-4
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

В качестве иллюстраций в романе использованы фотографии и рисунки автора.
От автора: Любое сходство с реальными людьми, названиями и событиями являются случайными.
Пролог
1921 год
По палубе стоявшего у причала парохода «Соловецкий» то и дело сновали люди. И чем меньше оставалось времени до его отхода, тем быстрее передвигались заключенные, тем суетливее становились действия их охранников. Одни с мешками и ящиками, семеня ногами в драной обутке, торопливо сбегали на берег по пружинящим под их весом деревянным мосткам. Другие, обливаясь потом, катили им навстречу огромные бочки, от которых шел ни с чем несравнимый запах соленой рыбы.
Несколько выделялась от всей этой серо-черной массы заключенных троица солагерников, державшаяся от остальных чуть в стороне. И не только тем, что одежонка на них была чуть поновее, чем у остальных, а ботинки не рваные и не штопанные. Отличались тем, чем они занимались. Вернее то, что носили на борт. С поклажей троица следовали только в одном направлении – на пароход, а обратно спускались чуть не бегом, налегке. Груз был сложен на причале отдельно от всего прочего и нет, нет, да и поблескивал сквозь щели деревянных ящиков в лучах майского солнца.
Церковная утварь, погрузкой которой и занимались эти заключенные, была привезена на берег лишь после того, как накануне округу огласил протяжный гудок подходящего к причалу корабля. Груз хоть и не советский, и как говорил начальник лагеря, «бестолковый» и «антинародный», а все одно требовал учета и аккуратного отношения. А потому собранные за прошедшую зиму с монастырских подвалов храмовые принадлежности, были заблаговременно самым тщательным образом переписаны и упакованы в ящики, мешки и корзины. И теперь, когда потребовались, также бережно перегружались на палубу парохода.
Как правило, с причала на судно ставили два трапа. Один – для выгрузки привезенного на остров груза, другой – для погрузки, того, что предназначалось для доставки на большую землю. Но в этот раз второго трапа на пароходе не оказалось. Как не досчитались согласно накладной и части продовольствия, и нескольких заключенных, вероятно в спешке забытых в распределительном пункте в Архангельске.
Из-за неожиданно теплой для этих мест весны, навигацию в Белом море открыли на две-три недели раньше обычного. И лагерное начальство, планировавшее погрузку первого судна на конец мая и даже начало июня, оказалось к этому не готово. Известие о том, что «Соловецкий» уже стоит у архангельского причала, работников местного ГубЧКа застало врасплох. К тому же в тот же день был звонок из центрального аппарата ВЧК, после которого стало понятно, что Москва в курсе происходящего и заинтересована в развитии лагеря на Соловках. А значит, задержка с погрузкой и доставкой груза и арестованных на Соловки была чревата для руководства архангельского ГубЧКа серьезными последствиями. Стараясь как можно скорее отрапортовать московскому руководству об успешном открытии навигации и отправке первого в нынешнюю навигацию судна, местное руководство заметно спешило с загрузкой парохода. В результате после его убытия на причале в Архангельске помимо всего прочего остался лежать и второй грузовой трап «Соловецкого», а из барака для пересыльных забыли отправить с десяток осужденных.
– Давай, пошевеливайся, мать вашу! – кричал каждому, кто пробегал мимо его, стоявший рядом со сходнями рыжебородый мужчина в фуражке-бескозырке и накинутом поверх бушлата овчинном тулупе.
Нелепый наряд, казалось, ничуть не смущал его владельца, хотя на улице и было под двадцать градусов. Стоять несколько часов на ветру удовольствие для него было не самое приятное, а старое потертое сукно бушлата его совсем не грело. Глядя, как вокруг снуют почти раздетые разгоряченные матросы и грузчики из числа заключенных, мужчина еще больше запахнул на себе полы тулупа. И если бы не затерявшаяся неизвестно где зимняя шапка, наверняка бы одел и ее. Капитанскую фуражку в таких случаях он одевал редко – сдует и тогда не в чем на берег в городе сходить будет. А с бескозыркой все надежнее – ленточки запихнул под бушлат, и стой себе спокойно. Дальше шеи все одно не улетит. Ну, а улетит, не жаль. В каптерке их десятка два разных размеров.
– Не замерз, капитан? – несколько вызывающе спросил подошедший молоденький боцман в расстегнутом бушлате и сдвинутой на затылок бескозырке.
– Ну, ты… цыц, салага! – не оглядываясь на помощника, и не спуская глаз с заключенных, стоявших внизу у трапа рядом с огромным ящиком, проговорил рыжебородый. – С женкой своей будешь в дружков играть и шутки шутить!
Капитан, было, замолчал, но тут же добавил:
– Если женишься.
После чего обернулся, оглядел того с головы до ног и громко скомандовал:
– А ну марш в каюту! Привести себя в порядок и обратиться к капитану корабля как положено!
Дождавшись, когда бритый наголо помощник скроется за дверью кубрика, он снова повернулся к трапу и что есть мочи закричал стоявшей на причале троице:
– Ну, что встали, олухи! Давай тащи ящик наверх! Отходить пора, а они все телятся!
Мужики, решившие было перевести дух, сноровисто подхватили на плечи последний самый большой ящик за выступающие с краев доски, и устремились к трапу. Конечно же, вчетвером такие ящики таскать было сподручнее, но после утреней разнарядки старший охраны все поменял. Ранее назначенных на эти работы четверых заключенных он отправил на выгрузку привезенных строительных материалов, а эту троицу поставил на погрузку церковного имущества.
Сопровождавший их белобрысый охранник только-только раскурил самокрутку и дернулся, было, следом, но тут же остановился. Бросать такой «жирный» окурок было жаль, а курить на судне не разрешалось никому кроме капитана. «Да, куда они денутся, – подумал он и, втянув в себя очередную порцию дыма, уселся на лежавшее неподалеку бревно».
Когда громоздкую поклажу кое-как занесли на борт корабля, от стенки палубной надстройки, отделилась мужская фигура в кожаной куртке. Широкоплечий с легкой сединой брюнет лет сорока или чуть старше проследовал за ними на корму. После того, как те донесли ящик до места и положили на палубу, он указал пальцем на двоих заключенных.
– Ты и ты, задержитесь, – он указал на небольшого роста смуглого мужчину и его высокого почти под два метра ростом напарника. – Вон те ящики двиньте ближе к середине, – брюнет кивнул в сторону левого борта.
Затем, после небольшой паузы, обращаясь к третьему худощавому русоволосому заключенному, добавил:
– А ты, на берег давай.
Голос с характерным прибалтийским акцентом показался одному из тех, на кого указал моложавый чекист, знакомым. Вчера, сразу после прибытия парохода, кто-то остановил его перед входом в барак и сообщил, что завтра они должны быть готовы покинуть остров. Хотя на улице было светло – как-никак белые ночи, лица говорившего он разглядеть не успел. Тот стоял, отвернувшись от заключенного, и сразу после сказанного поспешил удалиться.
И вот, сейчас, когда тот же голос отправил их солагерника на берег, черноволосый лет двадцати пяти-тридцати, коренастый мужчина, больше походивший на цыгана, пристально посмотрел на обладателя приятного баритона. Лицо чекиста ему тоже показалось знакомым. Он явно когда-то его видел. И встречались они не здесь на острове, а раньше. Чернявый сморщился, пытаясь что-то вспомнить, но стоявший перед ним мужчина в кожаной куртке снова заговорил, не дав ему сосредоточиться.
– Слушайте внимательно, – негромко произнес тот все тем же приятным голосом, дождавшись, когда они остались втроем. – Справа по борту шлюпка. Видели?
– Ну, – кивнул тот, что помоложе с необычным шрамом над правым глазом, успев про себя окрестить говорившего «латышом».
– Я сейчас отойду к капитану. С того места, где он стоит, лодку не видно. Когда сниму фуражку, спокойно идите к ней и сразу залазьте под брезент. И сидите там тихо, пока пароход не отчалит. Я потом за вами приду, – добавил латыш, глядя, как отпущенный им грузчик, вместе с другими заключенными, сходит на берег. – Да, и вот еще. В шлюпке в сюртуке провиант на первое время и конверт с письмом от нашей общей знакомой.
Напарник чернявого, высоченный мужик, хотел было спросить о том, когда отходит корабль и долго ли им тут сидеть, но передумал. Он глубоко вздохнул, посмотрел на свою широкие мозолистые руки и, будто не зная, куда их деть, взлохматил седые давно не мытые волосы.
Чекист, какое-то время постоял, словно пытаясь понять, дошло ли до заключенных сказанное, затем отступил в сторону и, скользя ладонью по отполированному сотнями рук поручню ограждения, направился в сторону капитана.
– Митрич, – обратился он, подходя к рыжебородому. – Вроде к концу идет, – чекист кивнул в сторону спускавшихся по трапу заключенных.
– Да, немного осталось, – согласился тот с обладателем черной кожаной тужурки. – И кому нужен весь этот церковный хлам? Зарыли бы тут и дело с концом.
Он хотел еще что-то добавить, но вовремя сообразил, что не стоит говорить подобное в присутствии людей из органов и громко закашлялся.
– Никакого порядка тут у них, – произнес чекист, не обращая внимания на ворчанье капитана. – Заключенные сами по себе. Каких их тут охраняют? Разбрелись по берегу, словно в своем огороде.
– А у них тут и так, как в огороде. Только вместо забора море кругом. Чего их тут пасти…
– А сбежит кто? – перебил его брюнет. – Думаете, море когда-то служило надежной оградой?
– Матросики мои получше здешней охраны. Судно осмотрят перед отходом – мышь не спрячется, – самодовольно произнес капитан. – А с острова куда убежишь. Побегаешь-побегаешь, а жрать захочется, так в лагерь и прибежишь.
– Трудно не согласиться, но такое разгильдяйство недопустимо. Их же по штату тут столько набрано, – проговорил чекист и, сняв фуражку, почесал пятерней коротко стриженую голову.
Они постояли еще какое-то время, глядя на бредущих и скрывающихся за монастырскими воротами заключенных.
– ТЫ чего тут спать собрался? – крикнул капитан оставшемуся в одиночестве на причале охраннику.
Молодой, еще почти мальчишка, нехотя встал, для чего-то поплевал на окурок и щелчком пальца выбросил его в море.
– Так, кабыть, не все еще сошли, – громко отозвался тот. – Кабыть, еще остались на пароходе. Я бдительность проявляю согласно распорядку.
– Экой ты громогласный. Тебе бы вместо горла луженого глаза зоркие! Все уж за воротами скрылись, – загоготал капитан. – Вам не лагерников охранять, а коров пасти. Хотя от таких пастухов и коровы разбредутся, – не унимался он.
– А энти? Ну, которые ящык последний несли…, – глаза белобрысого забегали по палубе.
– Ты с какой деревни будешь, энти? – передразнил тот охранника. – Лагерные ваши уж, поди, все в столовке. А ящык, как ты говоришь, вон, – и, повернувшись, махнул рукой в сторону кормы.
Охранник посмотрел в сторону лагеря, затем быстрым шагом прошелся вдоль корабля, внимательно всматриваясь в опустевшую палубу.
– А ты чего по берегу-то бегаешь? На пароход зайди. Вместе с моей командой все и досмотрите.
Парнишка шагнул было в сторону трапа, но в нерешительности остановился.
– Не. Один не могу. Не положено. Без старшого и комиссии нельзя, – и повернулся в сторону лагеря. – А вон они и идут. Сейчас с ними досмотрим, – обрадовано заключил охранник, увидев вдалеке знакомые силуэты.
Капитан тоже бросил взгляд на приближающуюся процессию и покрутил головой, словно пытаясь кого-то отыскать среди находившихся на палубе моряков. Заметив выходящего из рубки заметно преобразившегося помощника, улыбнулся, обнажив удивительно ровные и белые зубы.
– Боцман, двоих в досмотровую комиссию, остальным готовиться к отходу, – крикнул он приближающемуся помощнику и, слегка понизив голос, спросил у стоявшего рядом чекиста:
– Как насчет соточки под хороший борщец? Через два часа отчаливаем.
– Не окажусь.
И заметив оживление в его глазах, заметил:
– Только, когда комиссия закончит работу.
Часть первая
Июнь 1925 год
Погода в этом году крестьян радовала. Зима была холодной, но не такой лютой, как в прошлом году. И весна не запоздала и пришла вовремя. Не растянулась надолго и к концу апреля согнала весь снег с полей. Уже к середине мая поля повсеместно обсохли, и весь имеющийся в деревнях гужевой транспорт был задействован в полях. Первые дни июня тоже не подкачали и по всей Северо-Двинской губернии тоже выдались по-настоящему летними: солнечными и теплыми.
Посевная в Ачеме прошла спокойно и быстро. И не только благодаря погоде. На настроении сельчан сказалось и то обстоятельство, что еще в начале весны были отменены все волостные и сельские сборы. К тому же перед самым севом все натуральные налоги заменили денежным эквивалентом. Чувствуя послабления властей, крестьяне с невиданным в последние годы желанием взялись за соху. Доставая из закромов зерно, засеяли все, что можно. Под сэкономленные из-за отмены налога семена даже пришлось в спешном порядке распахивать новые пашни. От того и работы прибавилось и времени на себя почти не оставалось.
Лошадей в деревнях не хватало. В гражданскую войну все крестьянские дворы их подчистую лишились, а новыми обзавестись успели далеко не все. К тому же взрослое поголовье было малочисленным, а недавно объезженный молодняк к труду и земле еще не привык. Потому в полях вместе с разномастной лошадиной тягой трудились только-только отведавшие первой весенней травы коровы. И надо отдать им должное: бороны и плуги они таскали не хуже лошадей. Энтузиазм и невиданный доселе подъем среди крестьян сделали свое дело – все хозяйства отсеялись в прежние сроки.
Июньское солнце уже почти скрылось за лесом, когда Лизка Гавзова пришла с работы. Войдя в дом, обессилено опустилась на лавку и, откинувшись к стене, прикрыла глаза. Сил стянуть надоевшие за день сапоги не было никаких. Только и смогла, что расстегнуть у кофты верхнюю пуговицу и стянуть с головы платок. А спустя мгновенье она уже спала. И если бы не голос сына, возможно, не проснулась бы до утра.
Митька был в дальнем конце огорода и видел, как мать подходила к дому. Он хотел уже бежать к ней, но упавшая на плечо тяжелая рука деда его остановила.
– А кто коня поить будет? – Тимофей Петрович слегка потянул мальчишку за ворот рубахи.
– А че я то? – попытался отговориться внук. – Я может не меньше твоего устал.
– Устал он. А в бубушки11
Игрушки (местное)
[Закрыть] свои играть не устал? За девять годов жизни уже успел устать. А ись не устал еще? – тут он ослабил хватку и отпустил мальчишку. – Карюха уж рассупоненная стоит. Сейчас хомут скину и поезжай.

Митька понял, что встретить мать у крыльца, как он любил, сегодня не получиться. Уговаривать, а тем паче спорить с дедом не стал. Знал, что без толку. Тот от своего не отступит, хоть что делай. Вот с бабушкой у него договориться всегда получалось. Анна Гавриловна хоть и ворчала постоянно на внука, но тот к этому привык и значения особого тому не придавал. Потому как ворчание ворчанием, а только она сызмальства баловала Митьку и в отличие от Тимофея Петровича старалась оградить его от хозяйственных дел.
Мальчишка с сожалением вздохнул и повернулся к лошади. Карюху Митька любил. Добрая кобыла была у них. Уж год он верхом на ней ездит, а та ни разу даже попытки не сделала, чтобы скинуть с себя мальца. Наоборот, ступала аккуратно и дорогу выбирала поровнее, будто старалась не запнуться и не уронить паренька. А когда тот оказывался с ней совсем рядом, не упускала возможности, чтобы его не облизать. Видать и животине мальчишка пришелся по нраву. Митька дождался, когда дед снимет хомут и шлейку, затем проворно вскочил на стоящую рядом телегу и уже с нее забрался на лошадь. Та сразу поняла, что нужно делать и послушно зашагала к реке.
Спустя полчаса Митька вернулся обратно. Карюха привычно ткнулась мордой в верельницы22
Ворота в огород. Обычно из жердей (местное).
[Закрыть], отчего верхняя жердь соскочила с опоры и упала на землю. Лошадь перешагнула через нижнюю загородку и шагнула в огород. Мальчуган доехал до крыльца, ловко спрыгнул на землю и быстро вбежал в дом. Распахнув дверь, он уже было открыл рот, чтобы позвать мать, но увидев предостерегающий жест бабки, осекся.
– Ба, давай я ей сапоги сниму? Я очень тихо сниму. Ну, очень тихонечко. Она не проснется, – негромко проговорил Митька и умоляюще посмотрел на Анну Гавриловну. – Давай?
Та кивнула головой, и тот кинулся к матери. В это время Лизка, словно почувствовав намерения сына, проснулась и открыла глаза.
– Вы тоже пришли? – от души зевая, устало проговорила она.
– А куды мы денемся, – ответил с печи Тимофей Петрович. – Все, слава Богу, отсеялись. Завтра за двором овса еще немного досею и все.
Митька опустился перед Лизкой и, обхватив ее колени, прижался к ней.
– Ты, матери дай хоть разуться, – проговорила Анна Гавриловна.
– Да, ладно, мам. Успею, – Лизка обняла припавшего сына и поцеловала.
– Успеет она. Скоро уж петухи запоют. Нам то что, выспимся, а тебе же в твой совет нужно, – ворчала Гавзова. – Разувайся, давай, да ложись, коли есть ничего не будешь.
Лизка приподняла сына и, стянув сапоги, поставила их к порогу.
– Мам, а мам? А почему «Разбойничья слуда» с больших букв оба слова начинаются? – спросил Митька, присаживаясь на лавку. – Толька Уткин говорит надо оба слова с заглавной писать, если где доведется.
– Отстань ты от матери! Не видишь, уходилась вся, – прикрикнул Тимофей Петрович на внука. – Вам в школе кроме как об угорах не о чем писать больше?
– Да ладно, папа, – улыбнулась Лизка. – Интересно видать, вот и спрашивает.
– Беда интересно! И только сейчас о том и говорить! – не унимался Гавзов-старший.
– Ты, чего тут разошелся? – вступилась Анна Гавриловна и повернулась к Митьке. – Слуду ту и нужно с главной, большой буквы писать. Потому как слуд на реке много, а Разбойничья одна. То давняя история. Я тебе потом расскажу.
– Ну, ладно, – согласился Митька и откинулся к стене.
Лизка потянулась и, повернувшись к матери, сказала:
– Завтра с утра мне никуда не нужно. С обеда в Архангельск еду, на курсы.
– Куды? Куды? – подал голос с печи Тимофей Петрович.
– В Архангельск. На краткосрочные курсы сельхозартели председатель отправляет. Сама вчера узнала.
– Ой, Лизонька! Ты так говоришь, будто в Архангельске этом не раз уже была. Будто туды сходить, как в лес по ягоды. То зачем ехать? – спросила Анна Гавриловна.
– Ох, мама, а я знаю? – вздохнула Лизка. – С района распоряжение пришло. На курсы. Там чему-то видать учить будут. Не знаю точно.
– А чего в Архангельск, а не в Устюг? То же не наша губерния. Или в Верхнюю Тойму хотя бы? Все ближе. Или токо там грамотеи есть? – удивился Тимофей Петрович. – И чего тебя. Других больше в деревне нет? Девки перевелись?
Лизка покачала головой и прошла за заборку. Вернулась спустя минуту оттуда, натянув на себя нательную рубаху.
– Я вообще в почтальоны на днях стала проситься. Надоел этот сельсовет. С утра до ночи как собака носишься, бумаг куча, а толку от того? – проговорила она, расправляя кровать. – А он сегодня говорит: «В город поедешь». Словно в отместку…
Лизка еще что-то хотела добавить, но отец громко закашлялся и перебил ее.
– Кто – он то?
– Да, кто еще, коли не председатель! Щуров же, конечно. Перед Тонькой неудобно. Вроде ее хотели учиться послать. А теперь что? Двоих же не пошлют. Кто работать будет?
– Ну, коли Петруха говорит, надо ехать, – глубоко вдохнул Тимофей Петрович и снова закашлялся.
– Он только и умеет, что говорить, да обещать. Мне, если честно, кажется, что ему не место в председателях. Ну, зачем не обратишься, ничего не знает. Только и может, что в районе спрашивать. Без района ничего не делает.
– Ты все о своей худосочной Фокиной беспокоишься. Пусть дитя своего воспитывает подружка твоя. Вот ее занятие, а не по городам шататься. Распустила космы свои рыжие…
– Отец!
– Ты, Лизка, не ерепенься, – откашлявшись, произнес Тимофей Петрович. – Нынче не то время, чтобы кочевряжиться. Раз сказал председатель, так слушать надо.
– А когда оно – то? Время ваше, – возмутилась Лизка. – Когда жить-то? Тридцать один год уже, а жизни нет. Маета одна.
Анна Гавриловна подошла сзади и обняла дочь.
– Она, дочка, такая и есть жизнь. Если будешь ждать ее, то не дождешься. Вот она жизнь-то твоя, – мать указала на притихшего на лавке Митьку. – Был бы Пашка живой…, – глаза у нее заблестели.
– Ну-ко, хватит в доме сырость разводить. Спать давайте. Утром договорим, – повысил голос Тимофей Петрович и посмотрел на внука. – Ты кобылу привязал?
Лизка тоже повернулась и посмотрела на Митьку, который свернувшись калачиком, безмятежно спал на лавке. Глядя на улыбающегося во сне сына, она в очередной раз убедилась в правоте матери. На душе стало спокойно, и появившееся раздражение тут же исчезло. «Наверное, рыбу большую поймал, – подумала Гавзова и, подхватив Митьку на руки, отнесла на лежанку к печи». Она еще какое-то время посидела возле него, а затем прошла к своей кровати и залезла под одеяло.

Лизка проснулась от крика деревенского пастуха. Не открывая глаз, прислушалась к доносившимся с улицы звукам.
– Сы33
Так пастухи подгоняют коров (местное)
[Закрыть], сы, ш-ла! – услышала она голос Коли Тяушки. – Сы, ш-лма, – кричал что-то нечленораздельное тридцатилетний парень.
– М-му-у, – вторили ему коровы, нарушая деревенскую тишину.
Николай Чупров по прозвищу Тяушка в раннем детстве перенесший неведомое для ачемян заболевание, тогда же перестал говорить и слышать. Со слухом со временем более или менее наладилось, а вот с речью проблемы остались большие. Не каждый мог разобрать то, о чем «мычал» взрослый парень. Вместо первой мировой угодил в пастухи. И вот уже более десяти лет каждый день пас местных коров. Но это было летом. А вот осенью и зимой его в деревне увидеть было трудно. Охотником он был незаурядным и мало кто из других ачемян мог с ним в этом сравниться. Кое-кто подшучивал над ним, связывая такой успех с тем, что он говорит со зверем на одном языке. В прочем и домашний скот его тоже слушался с «полуслова».
Ачем был одной из тех немногих северных деревень, где испокон веков домашний скот всей деревни пасся в одном стаде. Утром пастух пройдет по деревне, соберет стадо, и угонит на ближайший общий луг. А вечером тем же путем прогонит по деревне обратно. Коровы – животины умные. Свой двор знают хорошо. И редко какая, проходя по деревне, не узнает и не остановится у своего дома. Разве что кто-нибудь из молодых телушек забудется и пробежит мимо. Но со временем и те научатся, и у своих верельниц всегда будут останавливаться. Какие-то коровы сами способны калитку открыть и во двор зайти. А те, кто не обучен или у кого запоры посложнее, так и стоят, дожидаясь пока кто-то из хозяев не запустит.
– Митя, Митя, ты дома? – едва открыв глаза, спросила Лизка.
– Удить уж убежал, – донесся из-за заборки голос Анны Гавриловны. – Вставай, поешь чего. Старик с утра полрыбника харисов съел. Последние дни по ночам перестал вставать. А то раньше ночью наестся и утром ничего не хочет. А Митька молока только попил…
– Мам, ну чего ты отца стариком все зовешь. Он еще некоторым, что помоложе, нос утрет, – зевнув, Лизка потянулась и свесила ноги с кровати. – И удить то чего? Вода еще большая – не клюет харис еще. Или сон приснился?
– А как не старик, коли восьмой десяток идет, – мать вышла из-за заборки с кружкой молока. – А про сон ты как узнала? Он и, правда, сказал, что сон видел хороший. Обещал с уловом вернуться. Кормилец подрастает, – с какой-то особенной теплотой и гордостью, какая может быть, наверное, только у бабушек, проговорила Анна Гавриловна.
– Ой, мама, восьмой десяток, – пропуская мимо ушей хвастовство бабушки и внука, выпалила Лизка. – Трифону Ретьякову пятый пошел, а посмотришь со стороны, так будто уж сто лет живет – ходит еле-еле душа в теле.
– Трифона пожалеть нужно. Как Зинка померла, так один Гришку поднимает.
– Ага, один. Глашка их, может и поднимает. А Трифон только по Зинке своей все убивается, – не унималась Лизка.
– Не гневи Бога! Ешь лучше иди. Сочни и каравашик44
Ржаной хлеб, в форме каравая, выпекаемый в русской печи
[Закрыть] на столе под полотенцем и вот, – Анна Гавриловна поставила на стол кружку. – Молока попей. Потом все дела. Пока не поешь, никуда не пойдешь.
– Мама!
– Не мамкай, а ешь.
Лизка еще раз потянулась, почесала руками голову, взъерошив волосы, и пошла к рукомойнику.
– А кипятка нет? – спросила она.
Мать подошла к столу и потрогала медный бок самовара.
– Теплый еще. Старый уже, а долго не остыват. Ты бы сходила на реку, да намыла его, – она слегка потерла пальцем надпись на самоваре. – Чего на нем написано, Лизка?
Дочка подошла к столу, приподняла полотенце и, отломив кусок от каравашка, прочитала:
– «Самоварная фабрика наследников И.Ф.Капырина».
– Ка пы ри на, – протянула Анна Гавриловна. – Поди, умный мужик, коль такой аппарат сделал.
– Ой, мама, ты о чем? – вздохнула Лизка. – Какой самовар?
– Настоем разбавь, чего один кипяток пить. На шестке чугунок стоит, возьми, – заботливо проговорила мать. – Морковного нынче заварила. Кабыть, брусничный уж приелся.
– Эх, я бы сейчас меевник55
Пирог с меевами (местное название мелкой рыбешки – гольяна)
[Закрыть] съела, – проговорила дочка. – Прямо ужас, как охота.
– Ты как батько. С утра рыбу подавай, – усмехнулась Анна Гавриловна. – Меевник она вспомнила… Еще на святки меев доели. Прошлый год мало совсем побродили66
В данном контексте – ловить рыбу бреднем (местное)
[Закрыть]. Сейгот, как кулиги77
Мелкие небольшие речные заливы, в которых ловят меев
[Закрыть] образуются на реке, и вода нагреется, с вами бродить пойду. Тыкать88
В данном контексте – загонять рыбу (местное)
[Закрыть] не замогу, так меев почищу.
– Или ягодников с брусникой. А еще лучше с жаламудой99
Жимолость (местное)
[Закрыть] и кисилицей1010
Красная смородина (местное)
[Закрыть], – не унималась Лизка.
– Размечталась. Не июль месяц, чтобы жаламуду собирать… – она вдруг замолчала. – А ты случаем не…
– Мама!
– Не дай Бог кого в подоле принесешь…
– Мама, чего еще не придумаешь!
– Чего, чего. На соленое да кислое потянуло, вот чего!
– И что?
– Да ничего! Что ты вяжешься к каждому слову. Сказала и сказала. Коли не так, так ничего и не случится.
На мосту1111
В данном контексте – сени (местное)
[Закрыть] послышался кашель Тимофея Петровича, и тут же входная дверь распахнулась.
– Проснулась, – заметил он с порога. – Трифон с Гришкой уж спрашивали, – шаркая босыми ногами, старик прошел к окну и присел на лавку.
– Чего хотели? – удивилась Лизка. – Вчера же договорились с обеда у сельсовета собраться.
– Не беспокойся, не свататься. Ни свет, ни заря женихаться не ходят, – отец вытер тыльной стороной ладони запотевшее окно и посмотрел на улицу. – Чемодан принес. На крыльце лежит. Где и взял такой шельмец. Так надолго в Архангельск? Митька и так мать не видит. Спать токо приходишь домой. Не дай Бог, что в дороге случиться. Что с мальцом тогда будет?
– Отец, не нагнетай почем зря. Председатель говорит, что на неделю. Ну и на пароходе сколько еще… Дня два в одну сторону. Да, вы не беспокойтесь. Я же не одна еду. Конюхов Гришка тоже едет. И Трифон с ним. Ходят слухи, что скоро наш район к Архангельской губернии присоединят. Говорят, в качестве эксперимента. Наверное, их потому туда и отправляют. Сегодня у нас уж шестое. Ну, значит, до пятнадцатого вернусь.
– Экспериментаторы… И Трифон? Тот-то, что там забыл?
– Не знаю. Он с Конюховым договаривался.
– И что столько времени там делать будете?
– Учиться. Хотя, если честно, то не хочется, – Лизка собрала крошки со стола и отправила в рот. – Говорят, скоро единоличных хозяйств совсем не будет. Одни артели и коммуны. У нас под нее избу смекают1212
Ищут, присматривают (местное)
[Закрыть]. Теперь все вместе работать будут. Все общее будет. И скот и земля. Председатель говорит, что без учебы с такими артелями не управиться. Счетное дело и учет новый будет. Теперь налоги деньгами же платить надо. А кому сколько, никто толком и не знает.
– Как так все общее? Срам какой! Так кто же мою корову накормит, коли не знает ее? Лошадку Карюху даже в гражданскую не забрали, а тут заберут? Может и баня будет общая? Одна на всех? Вот грязи разведут! И ты этому учиться собралась? – не на шутку разошелся старик. – Может еще косматкой решила стать? Али сразу коммунисткой?
– Комсомолкой, – поправила Лизка.
– Да, какая разница! Все одно – антихристы!
– Ты чего разошелся? Девку с утра донимаешь? – не выдержала Анна Гавриловна. – Лучше за вениками сходил.
– Ты, мать, чего, того? Кто сейчас веники заготавливает!
– Ну, тогда…
– Тогда… Вот тебе и тогда! Дочка с чертом дружбу заводит, а она… эх, да, что говорить!
– Ты чего это тут раздухарился! Ножонками топает тут!
Лизка удивленно уставилась на мать.
– Ну, я чего. Я так, по-отцовски, – уже спокойно проговорил Тимофей Петрович. – Дочь как-никак.
– Да, ладно, мама. Пусть говорит. Я не в обиде. Самой порой и не то в голову придет, – Лизка встала из-за стола и потянулась.
– Лизка! Безбожница! Кто ж за столом вытягивается! – зашикал на дочку старик. – Вон, снова твои провожатые идут, – глядя на улицу, уже спокойным голосом заметил он.
«Ах, вы мои любимые родители, – с нежностью подумала Лизка и, посмотрев в окно, побежала за заборку одеваться».
Григорий Конюхов уже второй год работал в милиции. Поначалу на службе особых проблем не было. Все как обычно: то молодежь подерется, то мужики по пьянке подебоширят. А в начале этого года приехало с района начальство разное. Как выразился старший из той делегации, приехали, чтобы помочь должникам с государством рассчитаться. И его к тому делу тоже привлекли. А как же без милиции? Кто продналог заплатить не мог, у того из личного хозяйства изымали то, что было. Поначалу было непривычно и неприятно этим заниматься. Хотя Конюхов жил на Высоком Поле – хуторе, что в двух верстах от Ачема, но все равно все ачемские считали его своим. У одной реки жили, по одним тропам и дорогам ходили. И у своих земляков силой забирать то корову, то овцу, удовольствие не из приятных. Но уже в следующий приезд такой делегации он поймал себя на мысли, что все происходящее ему отчасти нравится и доставляет удовольствие. И не потому, что за правое дело боролся, и о стране своей беспокоился, а потому, как почувствовал, что он не как все. Понял, что он власть. И неважно ему было советская она или еще какая. Главное, что власть.
В прошлом месяце в его деревне случился пожар. Да такой, что от Высокого Поля ничего не осталось. Вся деревня сгорела. И у Конюховых оба дома: родительский и его. Народ в то время весь в поле был. Заметили слишком поздно – когда все полыхало. Кто говорит, молния в дом попала. Днем гремело и сверкало крепко. Ждали грозы, но сверху так ничего и не упало. Кое-кто, правда, о поджоге поговаривал. Конюхов сам для себя тоже решил, что кто-то из недовольных крестьян дом его спалил. Хотел, видать, только его, а сгорела вся деревня. Все восемь домов.
Родителей Григорий в Ачеме тем же днем расселил в пристройке к сельсовету. Две больших комнаты в добротном доме пустовали. Хотели их под контору будущей коммуны отдать, но чего-то передумали и для нее с помещением в сельсовете решили повременить. Сеня Федулов после смерти жены умом слегка тронулся и крепко захворал. Каждый день помирать собирался. Обещал председателю свой дом отдать, как помрет. Один он последний год в пятистенке жил и не хотел, чтобы дом после смерти без надзора остался. Хотя зря он переживал. Сельсовет тогда все и так прибирал, что без хозяев оставалось.









































