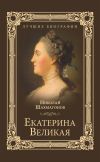Текст книги "Екатерина Великая в любви и супружестве"

Автор книги: Николай Шахмагонов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Так чей же сын Павел I?
Нередко можно слышать от читателей вопрос: если Павел сын Салтыкова, почему же он столь сильно похож на Петра Федоровича? Этот вопрос навеян исторической литературой, причем, в первую очередь, теми произведениями, которые «обслуживали» сохранение династической тайны, раскрытие которой могло быть не только неприятно, но и опасно для русского престола. Но разве кто-то пытался сравнивать портреты Сергея Салтыкова и Павла? А если их сравнить, то можно убедиться, что в них очень и очень большое сходство.
Думается, причины надо искать не столько в происхождении, сколько в том, в каких условиях оказались и Петр Федорович, и Павел Петрович. Оба они очень долгое время ожидали своего часа вступления на престол, а потому страдали от недостатка самостоятельности, вызванной положением наследника престола, но не императора.
Что же касается раздражительности, вспыльчивости и подозрительности, то у Павла они не были врожденными. Его биографы в один голос утверждают, что Павел рос живым, общительным, весьма развитым отроком, а его учитель математики Порошин даже заявлял, что «если бы Павел Петрович были партикулярным, то они могли вполне стать нашим российским Паскалем», то есть очень высоко ценил его способности к математике.
Известно, что Павел Петрович прекрасно танцевал, причем многие придворные балы были открываемы первым танцем его с матерью – императрицей Екатериной, после чего он танцевал с придворными дамами. Он был великолепным наездником и легко побеждал в конных состязаниях, так называемых «каруселях». Ну и, конечно, вовсе не о сходстве с Петром Федоровичем говорит то, что у него не было слабости в том вопросе, в котором была слабость у его мнимого отца.
У Павла Петровича, как известно, было четыре сына и четыре дочери. А в последнее время доказано, что незадолго до второго брака у него родился сын от романа с Софьей Чарторыжской, которого нарекли Симеоном Афанасьевичем Великим.
Вот как оценивает автор «Истории русского масонства» Борис Башилов черты характера Павла, «прежде чем тяжелая, ненормальная жизнь, которая досталась на его долю, подорвала его силы»:
«Многие из знавших близко Павла I лиц единодушно отмечали рыцарские черты его характера. Княгиня Ливен утверждала: „В основе его характера лежало величие и благородство – великодушный враг, чудный друг, он умел прощать с величием, а свою вину или несправедливость исправлял с большой искренностью“».
В мемуарах командира (в 1755–1758 гг.) лейб-гвардии Семеновского полка Андрея Ивановича Вельяминова-Зернова мы встречаем такую характеристику нравственного облика Павла I:
«Павел был по природе великодушен, открыт и благороден; он помнил прежние связи, желал иметь друзей и хотел любить правду, но не умел выдерживать этой роли. Должно признаться, что эта роль чрезвычайно трудна. Почти всегда под видом правды говорят царям резкую ложь, потому что она каким-нибудь косвенным образом выгодна тому, кто ее сказал».
Де Санглен в своих мемуарах писал, что «Павел был рыцарем времен протекших». Если быть точным, то правильнее было бы сказать не «рыцарь», а «витязь», ибо рыцарь – плохое слово. Рыцарь – не наше слово. Рыцарство для России – это жестокие набеги звероподобных тевтонов на псковские и новгородские земли, это осквернения православных святынь, это убийства и сожжения заживо детей, женщин, стариков, это бесчеловечные пытки попавших в плен русских воинов. Рыцарство – это агрессия, это коварный удар из-за угла. Вспомним, с каким ожесточением рвались на Русскую землю, стонавшую под ордынским игом, немецкие псы-рыцари. Они «по-рыцарски» спешили воспользоваться ослаблением Руси, чтобы грабить, жечь и убивать. И подобных примеров не счесть. Так что же такое рыцарство? На Руси рыцарей не было. На Руси были витязи, для доказательств достоинств которых не нужно было прибавлять «благородный».
Благородство, честь, достоинство – отличительная черта каждого православного витязя. На Западе же, сами того не осознавая, подчеркивали, что тот, кого зовут «благородный рыцарь», быть может, и имеет человеческие качества, остальные же рыцари – просто низкие и коварные убийцы. Рыцарством, по-видимому, считается на западе и рыцарский поступок папы римского, который в канун нашествия полчищ хана Батыя на Русь запретил купцам католических стран продавать русским князьям стратегическое сырье, а самому Батыю сделал подарок, послав военным советником своего агента, рыцаря, заметьте, католического ордена Святой Марии Альфреда фон Штумпенхаузена. Этот рыцарь согласовывал по задачам, рубежам и времени действия западных бандитов с бандитами степными. А задачи и у тех и у других были примерно одинаковы – захват чужих земель и чужого добра, порабощение народа и приобретение рабов. Ну и, конечно, борьба с православной верой, объединяющей Русские земли и мешающей коварным планам рыцарских и степных хищников.
Гитлеровское командование награждало рыцарским крестом своих звероподобных убийц, которые с большим удовольствием бомбили города и села, гонялись за санитарными поездами, расстреливали беженцев…
Впрочем, называя государя императора Павла I рыцарем времен протекших, его современник де Санглен просто не задумывался над истинным значением слова «рыцарь». Он отдавал должное личному мужеству Российского Императора. Не только де Санглен, многие европейские политики были потрясены поступком Павла I, который, желая уничтожить наполеоновские войны в самом зародыше, послал вызов на дуэль Наполеону Бонапарту. Государь предложил «корсиканскому чудовищу» (так звали Наполеона сами французы) драться в Гамбурге и поединком положить конец кровавым битвам в Европе, вызванным Французской революцией. Гвардейский полковник Николай Александрович Саблуков, долгое время находившийся в числе приближенных к императору людей, отметил: «Несмотря на всю причудливость и не современность подобного вызова, большинство европейских монархов отдали полную справедливость высокогуманным побуждениям, руководившим Русским Государем, сделавшим столь серьезное предложение с полною искренностью и чистосердечием».
Добавим: с тем чистосердечием, с которым император Павел Петрович всегда относился к людям.
По свидетельству Николая Александровича Саблукова, лично знавшего императора и оставившего записки-расследования о цареубийстве, «Павел знал в совершенстве языки: славянский, русский, французский, немецкий, имел некоторые сведения в латинском, был хорошо знакам с историей и математикой; говорил и писал весьма свободно и правильно на упомянутых языках».
Какое же здесь сходство с мнимым отцом? Петр Федорович косноязычно изъяснялся на русском языке, а в науках и вовсе не был искушен.
Горькое материнство
Императрицу Екатерину II часто обвиняют едва ли не в равнодушии к своим детям, даже более того, в отсутствии материнских чувств к ним. При этом обстоятельства, благодаря которым она была оторвана от воспитания своего первенца, вовсе не учитываются.
Вспомним замысел Елизаветы Петровны: женить Петра Федоровича, получить от этого брака ребенка и самой воспитать его – вот о чем мечтала государыня. Она прекрасно понимала, что великий князь Петр Федорович не способен стать воспитателем. Да и к тому же она-то уж точно знала, чей сын Павел.
Конечно, для сокрытия правды великий князь мог бы и прикинуться отцом, да только Петр Федорович на эту роль не годился, ибо сам не вышел из младенчества…
Екатерина Алексеевна рассказала в записках:
«Однажды, когда я вошла в покои Его Императорского Высочества, я была поражена при виде здоровой крысы, которую он велел повесить, и всей обстановкой казни среди кабинета, который он велел себе устроить при помощи перегородок.
Я спросила, что это значило; он мне сказал тогда, что эта крыса совершила уголовное преступление и заслуживает строжайшей казни по военным законам, что она перелезла через вал картонной крепости, которая была у него на столе в этом кабинете, и съела двух часовых на карауле, сделанных из крахмала, на одном из бастионов, и что он велел судить преступника по законам военного времени; что его легавая собака поймала крысу, и что тотчас же она была повешена, как я ее вижу, и что она останется там, выставленная на показ публике, в течение трех дней, для назидания. Я не могла удержаться, чтобы не расхохотаться над этим сумасбродством, но это очень ему не понравилось, ввиду той важности, какую он этому придавал; я удалилась и прикрылась моим женским незнанием военных законов, однако он не переставал дуться на меня за мой хохот…»
Вот каким был человек, которому выпало носить титул Великого Князя и Наследника Русского Престола.
Печальный юмор этой части записок перекликается с возгласом, быть может, даже притупленным временем воплем отчаяния: «есть ли б я в участь получила с молода мужа, которого бы любить могла…» Все горькие впечатления молодости будущей императрицы отразились в этой короткой фразе, попросту незамеченной хулителями и клеветниками всех мастей, недалеко ушедшими по своим умственным способностям от вешателя крыс.
Шел 1745 год… Петру было 26 лет… И в этом возрасте он с полной серьезностью рассуждал о преступлении крысы и военно-полевом суде над ней.
Нет, «не от распутства, к коему склонности» не имела, родила Екатерина от Сергея Салтыкова своего первенца, которого нарекли Павлом. И хотя она впоследствии и призналась Потемкину, что первый ее мужчина был поневоле, все же привязалась к Салтыкову, даже была влюблена в него.
Еще во время беременности Екатерина начала понимать, что рано или поздно с Сергеем Салтыковым, которого она полюбила, придется расстаться. В ее «Записках…» проскальзывают признания, что каждая разлука с ним приносила ей боль. Когда двор переезжал из Москвы в Петербург, Екатерина «умирала от страху, как бы Сергея Салтыкова… не оставили в Москве…». Но его записали в свиту малого двора.
Тем не менее она призналась: «…у меня постоянно навертывались слезы на глаза, и тысячу опасений приходили мне в голову; одним словом, я не могла избавиться от мысли, что все клонится к удалению Сергея Салтыкова…»
До родов этого не сделали только из опасений за судьбу ожидаемого важнейшего мероприятия – щадили чувства будущей матери. И вот около полудня 20 октября (1 октября) родился Павел.
«Как только его спеленали, – писала Екатерина, – Императрица ввела своего духовника, который дал ребенку имя Павла, после чего Императрица велела акушерке взять ребенка и следовать за ней».
Здесь явно проявилось желание Елизаветы Петровны взять под свое крыло и свою опеку того, кого она определила в свои преемники. Императрица была хорошо осведомлена о выходках великого князя, который в те дни пил беспробудно, и лишь однажды заглянул к супруге, справился о здоровье и тут же удалился, заявив, что «не имеет времени оставаться».
Уж кто-кто, а он-то отлично понимал, что не имеет ни малейшего отношения к новорожденному.
Нелегкими для Екатерины были дни после родов. Вот только несколько выдержек из «Записок…»:
«Его Императорское Высочество со своей стороны только и делал, что пил, а Императрица занималась ребенком…»
«Со следующего дня (после родов) я начала чувствовать невыносимую ревматическую боль… и при том я схватила сильную лихорадку. Несмотря на это, на следующий день мне оказывали почти столько же внимания; я никого не видела, и никто не справлялся о моем здоровье…»
А далее в «Записках…» говорится о том, что пришлось испытать молодой маме, которой ребенка показывать нужным не считали.
«Я то и дело плакала и стонала в своей постели», – признается она.
Даже на крестины маленького Павла Екатерину не пригласили:
«На шестой день были крестины моего сына; он уже чуть не умер от молочницы. Я могла узнавать о нем только украдкой, потому что спрашивать об его здоровье значило бы сомневаться в заботе, которую имела о нем Императрица, и это могло быть принято дурно. Она и без того взяла его в свою комнату, и, как только он кричал, она сама к нему подбегала и заботами его буквально душила…»
Вскоре после крестин Екатерине сообщили, что Сергей Салтыков был назначен отвезти известие о рождении Павла в Швецию. Этого и следовало ожидать. Держать при дворе такого свидетеля рождения наследника было бы опрометчиво. Вот когда Екатерина поняла, что привязалась к нему, а быть может, даже полюбила. Недаром, признаваясь в «Чистосердечной исповеди» о своих отношениях с Понятовским, она откровенно написала, что это произошло «после года и великой скорби». А тогда, после отъезда Сергея Салтыкова, призналась, что «зарылась больше, чем когда-либо, в свою постель, где я только и делала, что горевала».
Уже и крестины прошли, а мать еще ни разу не видела сына. Но виновна ли она была в том? У нее не спрашивали, любит или не любит она жениха, когда вели под венец, более того, один из вельмож прямо и определенно сказал, что «Государи не любят». То есть государи вершат браки по государственной необходимости. В то время считалось, что государи и члены правящей династии не всегда могут решать, как вести себя при дворе. Их действия также истолковывались государственной необходимостью. Императрица Елизавета Петровна полагала, что Павел не должен видеться с родителями, что его необходимо оградить от их влияния, тем более что родительницей была, по сути, одна Екатерина.
Жестоко? А разве не жестоко то, что было сделано в отношении и вовсе безвинного младенца Иоанна Антоновича, упрятанного в крепость по государственной необходимости. И тут трудно что-то оспорить, ведь для укрепления государственной власти, для прекращения эпохи дворцовых переворотов действительно необходимо было скрыть от всякого рода авантюристов личность, которую можно было использовать как знамя для поднятия смуты. И тут уж было не до того, чтобы считаться с интересами этой личности. Можно спорить лишь о суровости тех мер, которые были приняты к человеку невиновному в том, что судьба распорядилась с ним так, как распорядилась.
Наверное, мы не вправе судить императрицу Елизавету Петровну за ее решение самой воспитать наследника престола. Ведь несомненно одно – думала она прежде всего не о себе, а о Державе Российской, и преследовала не какие-то свои узкокорыстные интересы, а действовала во имя интересов, как считала, всеобщих.
И все же добрые чувства, порою, брали верх…
«Когда прошло 40 дней со времени моих родов, – вспоминала Екатерина, – …сына моего принесли в мою комнату: это было в первый раз, что я его увидела после рождения. Я нашла его очень красивым, и его вид развеселил меня немного; но в ту же самую минуту, как молитвы были кончены, Императрица велела его унести и ушла…»
Интересны наблюдения иностранцев и оценки, сделанные ими по поводу происходящего при Российском Императорском Дворе. Прусский посланник доносил Фридриху II:
«Надобно полагать, что Великий Князь (Петр Федорович. – Н.Ш.) никогда не будет царствовать в России; не говоря уже о его слабом здоровье, которое угрожает ему рановременною смертью… надобно признаться, что поведение его вовсе не способно привлечь сердца народа. Непонятно, как принц его лет может вести себя до такой степени ребячески. Некоторые думают, что он притворяется, но в таком случае он был бы мудрее Брута. К несчастью, он действует безо всякого притворства. Великая Княгиня ведет себя совершенно иначе».
Безусловно, Елизавета Петровна нисколько не обольщалась насчет наследника, она была в весьма щекотливом положении. Ведь после нее престол мог занять именно великий князь Петр Федорович. Великая княгиня, даже при том условии, что она была гораздо достойнее, при живом супруге никаких прав не имела. Осталось уповать на Павла. Но объявить его наследником при живых родителях можно было лишь по достижении совершеннолетия. И Елизавета Петровна готовила его к этому, стараясь всячески ограничивать его контакты с родителями, тем более великий князь даже и не стремился по понятным причинам к этому.
О Екатерине же складывалось мнение совершенно противоположное, нежели о Петре.
Английский посланник Ульямс писал в 1755 году:
«Как только она приехала сюда, то начала стараться всеми силами приобрести любовь русских. Она очень прилежно училась их языку и теперь говорит на нем в совершенстве (как говорят мне сами русские). Она достигла своей цели и пользуется здесь большой любовью и уважением. Ее наружность и обращение очень привлекательны. Она обладает большими познаниями о Русском государстве, которое составляет предмет ее самого ревностного изучения. Канцлер говорит мне, что ни у кого нет столько твердости и решительности».
Именно в те годы своей молодости будущая императрица написала весьма значительные строки:
«Желаю и хочу только блага стране, в которую привел меня Господь. Слава ее делает меня славною. Вот мое правило, и я буду счастлива, если мои мысли могут в том содействовать».
Заметки, сделанные Екатериной, когда она была еще великой княгиней, говорят о том, что она задумывалась о предстоящем царствовании.
«Я хочу, чтобы страна и поданные были богаты: вот начало, от которого я отправляюсь.
Я хочу, чтобы повиновались законам; но не рабов; я хочу общей цели – делать счастливыми, но вовсе не своенравия, не чудачества, и не тирании.
Противно христианской религии и справедливости делать рабов из людей, которые все получают свободу при рождении. <Здесь ощущается явный намек на освобождение крестьян, закрепощенных Петром I.>
Власть без доверия народа ничего не значит.
Приобретите доверенность общества, основывая весь образ ваших действий на правде и общественном благе».
Не давали покоя и мысли о воспитании сына, хотя и не подпускали ее к воспитанию. Она именовала его по-европейски принцем:
«По моему мнению, есть два правила при воспитании принца: это сделать его благодетельным и заставить его любить истину. Таким образом, он сделается любезным пред Богом и у людей.
Пусть связывают мне руки, когда хотят помешать злу; но оставляйте меня свободною делать добро».
Что же касается личной жизни, то она оставалась по-прежнему безрадостной. Быть может, оттого и раскрылось сердце для нового увлечения, случившегося «после года и великой скорби» по удаленному от двора Салтыкову.
«Сей был любезен и любим…»
В «Чистосердечной исповеди» читаем: «По прошествии года и великой скорби приехал нонешний король польский…»
«Исповедь» датирована 1774 годом. Написана она, по мнению исследователей, 21 февраля. Королем в то время (как выразилась она «нонешним») был Станислав Август Понятовский.
«Сей был любезен и любим от 1755 до 1761 г.», – признается императрица Екатерина Потемкину, которому, как мы уже говорили, и адресована исповедь. Здесь важно отметить, что, касаясь столь деликатных моментов биографии императрицы, исследователь, историк, биограф не должен забывать, что героиня его исследований не только императрица, но еще и женщина. Именно по этой немаловажной причине необходимо соблюдать корректность и позволять себе размышления только над тем, в чем она сама признается, а не смаковать выдуманное клеветниками и злопыхателями. И не след домысливать и додумывать, что означает «любезен и любим», а лучше послушать саму героиню.
В «Записках…» Екатерина Алексеевна упоминает о нескольких встречах с Понятовским, который в 1756 году состоял в свите английского посланника.
Подробно рассказывает она о знакомстве, которое устроил… Кто бы вы думали? Лев Нарышкин. Тот самый Лев Нарышкин, который был кандидатом в отцы Павла Петровича. В трудные годы после рождения наследника, когда Екатерину, мягко говоря, не жаловали при дворе и даже ограничили ее свободу, он приходил на выручку, желая развеять, развлечь, сказать доброе слово.
В «Записках…» Екатерина Алексеевна рассказала:
«Так как наши комнаты были очень обширны, великий князь устраивал каждую неделю по балу и по концерту: четверг был для бала, а вторник – для концерта. На них бывали только фрейлины и кавалеры нашего двора с их женами. Эти балы бывали интересны, смотря по лицам, которые на них бывали. Я очень любила Нарышкиных, которые были общительнее других; в этом числе я считаю госпож Сенявину и Измайлову, сестер Нарышкиных, и жену старшего брата… Лев Нарышкин, все такой же сумасбродный и на которого все смотрели, как на человека пустого, каким он и был в действительности, взял привычку перебегать постоянно из комнаты великого князя в мою, не останавливаясь нигде подолгу. Чтобы войти ко мне, он принял обыкновение мяукать кошкой у двери моей комнаты, и когда я ему отвечала, он входил.
17 декабря между шестью и семью часами вечера он, таким образом, доложил о себе у моей двери; я велела ему войти; он начал с того, что передал мне приветствия от своей невестки, причем сказал мне, что она не особенно здорова; потом он прибавил:
– Но вы должны были бы ее навестить.
Я сказала:
– Я охотно бы это сделала, но вы знаете, что я не могу выходить без позволения и что мне никогда не разрешат пойти к ней.
Он мне ответил:
– Я сведу вас туда.
Я возразила ему:
– В своем ли вы уме? Как можно пойти с вами? Вас посадят в крепость, а мне за это бог знает какая будет история.
– О! – сказал он. – Никто этого не узнает; мы примем свои меры.
– Как так?
Тогда он мне сказал:
– Я зайду за вами через час или два, великий князь будет ужинать.
Я уже давно под предлогом, что не ужинаю, оставалась в своей комнате».
Конечно, Нарышкин предлагал очень рискованное предприятие. Действительно, наказание могло быть очень и очень суровым. Екатерина сделала свое дело – Елизавета Петровна получила то, чего желала, а следовательно, нужда в супруге никчемного Петра Федоровича, да и в нем самом отпала.
Но Нарышкин все продумал основательно, о чем далее рассказала Екатерина Алексеевна, приведя пояснения, касающиеся великого князя:
«– Он проведет за столом часть ночи, встанет только, когда будет очень пьян, и пойдет спать.
Он спал тогда большею частью у себя, со времени моих родов.
– Для большей безопасности оденьтесь мужчиной, и мы пойдем вместе к Анне Никитичне.
Это предприятие начинало меня соблазнять; я всегда была одна в своей комнате, со своими книгами, без всякого общества. Наконец, по мере того, как я разбирала с ним этот проект, сам по себе безрассудный и показавшийся мне таковым в первую минуту, я нашла его осуществимым и согласилась с целью доставить себе минуту развлечения и веселья.
Он вышел; я позвала парикмахера-калмыка, который у меня служил, и велела ему принести мне один из моих мужских костюмов и все, что мне для этого было нужно, под тем предлогом, что мне надо было подарить его кому-то. Этот малый имел привычку не разжимать рта, и нужно было больше труда, чтобы заставить его говорить, чем требуется для других, чтобы заставить их молчать; он быстро исполнил мое поручение и принес все, что мне было нужно. Под предлогом, что у меня болит голова, я пошла спать пораньше.
Как только Владиславова меня уложила и удалилась, я поднялась и оделась с головы до ног в мужской костюм; я подобрала волосы, как могла лучше; давно уже я имела эту привычку и хорошо в этом наловчилась.
В назначенный час Лев Нарышкин пришел через покои великого князя и стал мяукать у моей двери, которую я ему отворила; мы вышли через маленькую переднюю в сени и сели в его карету, никем не замеченные, смеясь, как сумасшедшие над нашей проделкой. Лев жил со своим братом и женою его в том же доме, который занимала и их мать. Когда мы приехали в этот дом, там находилась Анна Никитична, ничего не подозревавшая; мы нашли там графа Понятовского; Лев представил меня как своего друга, которого просил принять ласково, и вечер прошел в самом сумасшедшем веселье, какое только можно себе вообразить. Пробыв полтора часа в гостях, я ушла и вернулась домой самым счастливым образом, не встретив ни души. На другой день, в день рождения императрицы, на утреннем куртаге и вечером на балу, мы все, бывшие в секрете, не могли смотреть друг на друга, чтобы не расхохотаться при воспоминании о вчерашней шалости».
Итак, знакомство состоялось. По-видимому, Понятовский все же догадался или ему подсказал Нарышкин, кто скрывается под мужским нарядом. Дальнейшие события развивались стремительно:
«Несколько дней спустя Лев предложил ответный визит, который должен был иметь место у меня; он таким же путем привел своих гостей в мою комнату и так удачно, что никто этого не пронюхал. Так начался 1756 год. Мы находили необыкновенное удовольствие в этих свиданиях украдкой. Не проходило недели, чтобы не было хоть одной, двух и до трех встреч, то у одних, то у других, и когда кто-нибудь из компании бывал болен, то непременно у него-то и собирались. Иногда во время представления, не говоря друг с другом, а известными условными знаками, хотя бы мы находились в разных ложах, а некоторые в креслах, но все мигом узнавали, где встретиться, и никогда не случалось у нас ошибки, только два раза мне пришлось возвращаться домой пешком, что было хорошей прогулкой».
Какую роль играл Лев Нарышкин в свершившемся знакомстве, точнее, кто поручил ему эту роль, история умалчивает. Возможно, он и не подозревал, что Станислав Понятовский набивался к нему в друзья, зная о добрых его отношениях с великой княгиней. Ведь Понятовский изначально действовал по заданию английского посла, которому нужно было найти твердый и прочный выход на Екатерину. Впрочем, нельзя исключать, что задание заданием, а любовь Понятовского к Екатерине была вполне искренней. Недаром он признался, что в любви своей «позабыл о том, что существует Сибирь»…
Знакомство состоялось. А затем были письма, причем письма, якобы писанные секретарем Нарышкина.
Екатерина вспоминала: «Он просил у меня в этих письмах то варенья, то других подобных пустяков, а потом забавно благодарил меня за них. Эти письма были отлично написаны и очень остроумные… А вскоре я узнала, что роль секретаря играл Понятовский».
Подробнее о своих отношениях с Понятовским Екатерина Алексеевна не сообщила. Лишь в «Чистосердечной исповеди» сказано, что он был «любезен и любим».
Когда связь открылась, императрица Елизавета Петровна была разгневана. Понятовского выслали из России, но через некоторое время, в 1757 году, он снова прибыл в Петербург уже в качестве посланника польского короля.
В «Записках…» Екатерины не содержится даже намека на какие-либо особые отношения с Понятовским, хотя имя Станислава Августа упоминается достаточно часто. Там же опровергаются предположения некоторых исследователей эпохи и биографов, что Понятовский был удален из Петербурга за связь с великой княгиней. Истинная причина, по словам самой Екатерины, в политических интригах Понятовского.
9 декабря 1758 года Екатерина родила дочь. Вот как рассказала об этом в своих записках она сама:
«…Я разрешилась 9 декабря между 10 и 11 часами вечера дочерью, которой я просила Императрицу разрешить дать ее имя; но она решила, что она будет носить имя старшей сестры Ее Императорского Величества, герцогини Голштинской, Анны Петровны, матери Великого Князя».
В «Записках…» упомянуто о реакции на это со стороны Петра Федоровича:
«Его Императорское Высочество сердился на мою беременность и вздумал сказать однажды у себя в присутствии Льва Нарышкина и некоторых других:
„Бог знает, откуда моя жена берет свою беременность, я не слишком-то знаю, мой ли это ребенок и должен ли я его принять на свой счет“.
Лев Нарышкин прибежал ко мне и передал мне эти слова прямо в пылу. Я, понятно, испугалась таких речей и сказала ему:
„Вы все ветреники; потребуйте от него клятвы, что он не спал со своею женою, и скажите, что если он даст эту клятву, то вы сообщите об этом Александру Шувалову, как великому инквизитору Империи“.
Лев Нарышкин пошел действительно к Его Императорскому Высочеству и потребовал от него этой клятвы, на что получил в ответ:
„Убирайтесь к черту и не говорите мне больше об этом“».
Некоторые историки пытались на свой лад трактовать сказанное и даже делали вывод, что родившаяся девочка была дочерью Понятовского. Но Екатерина Алексеевна не дала и намека на то в данном случае, в отличие от того, что говорила она весьма прозрачно относительно рождения Павла. А следовательно, и историк не вправе делать свои умозаключения.
Единственное, что подчеркнула великая княгиня, так это явно безнравственное заявление великого князя. Так и читается в его адрес сквозь строки: «Коли не можешь быть мужчиной, так молчи».
Вольтер в свое время сказал, что тайна кабинета, стола и постели императора (добавим – членов императорской фамилии) не может быть разоблачаема иностранцем (добавим, что и никем другим тоже). Поэтому оставим гадания по поводу тех случаев, когда сама Екатерина Алексеевна не считала нужным открывать тайну.
После рождения Анны Екатерина оказалась в том же положении, что и после рождения Павла. Ей выдали в награду шестьдесят тысяч рублей и опять забыли о ней. Она писала об этом так: «…я была в моей постели одна-одинешенька, и не было ни единой души со мной…»
Посещала же великую княгиню, по ее словам, «обычная маленькая компания, которую составляли, как прежде, Нарышкина, Сенявина, Измайлова и граф Понятовский…».
В «Чистосердечной исповеди» Екатерина признается, что поначалу она «отнюдь не приметила» Понятовского, «но добрые люди заставили пустыми подозрениями догадаться, что он на свете, что глаза его были отменной красоты и что он их обращал, хотя так близорук, что далее носа не видит, чаще на одну сторону, нежели на другие».
Видный исследователь екатерининской эпохи Вячеслав Сергеевич Лопатин указывает, что «прекрасно образованный и воспитанный Понятовский был близок Екатерине по своему интеллекту. Он разделял ее интересы и вкусы. Обожая великую княгиню, граф Станислав Август с уважением относился к ее высокому положению. Единственный из возлюбленных Екатерины Понятовский запечатлел ее портрет:
„Ей было 25 лет. Она только что оправилась от первых родов, когда красота, данная ее натурой, расцвела пышным светом. У нее были черные волосы, изумительная фигура и цвет кожи, большие выразительные голубые глаза, длинные, темные ресницы, четко очерченный нос, чувственный рот, прекрасные руки и плечи. Стройная, скорее высокая, чем низкая, она двигалась быстро, но с большим достоинствам. У нее был приятный голос и веселый заразительный смех. Она легко переходила от простых тем к самым сложным“.»
Комментируя этот отзыв, В. С. Лопатин пишет: «Возможно, Понятовский преувеличивал красоту Екатерины как женщины, но современники единодушно отмечали ее обаяние».
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?