Читать книгу "Амур-батюшка. Золотая лихорадка"
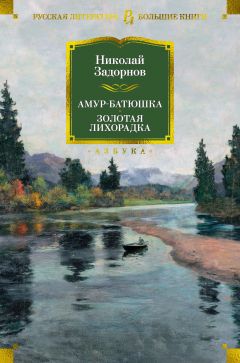
Автор книги: Николай Задорнов
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Так минуло рождество, прошел хмель и веселья как не бывало. Снова перед крестьянами были лишь темные землянки, орава полураздетых ребятишек, убогий скарб, худая одежонка и скудные запасы пищи.
Глава семнадцатая– Ну, Ивану есть с чего гулять, он богатый, а ты куда лезешь? – упрекал Егор Тимошку. Они сидели на релке, на лиственнице, только что срубленной Егором. – Разве нельзя собраться песни попеть, сплясать да и водочку попить, но все бы ладом, не тужиться из последнего. Нет, ведь норовят все вывернуть. Ты, что ль, боишься, что на твой век веселья не станет? Ты думал бы, как робить да робить! Ан робить-то нам неохота, нам бы жар-птицу поймать в лесу. Нищие мы, жрать нечего, а на уме пьянство да гулянство. Нам бы тайгу-матушку чистить, а мы все языки чешем, кто прав, да кто виноват, да что зачем, чтобы причина нам была лодырить. Самих себя обманываем, причину находим: мол, холод ли или еще кто виноват. Языком-то чесать легче, чем робить, сомнениям-то всем твоим грош цена. Э-эх, родимцы, мужички!.. Пошто через Сибирь шагали, али чтобы испиться тут? Китаец-то этот разок-другой даст муки тебе, а после в шею погонит да долг-то обратно потребует. Кто тебе тут поможет, у кого ты милостыню просить станешь? Тут и по миру некуда пойти.
– Правда, Кондратьич! Да и то сказать, где нам с бедности-то ума набраться, кабы нам это понять! Богатый-то, сказывают, и ума прикупит, а бедный так и есть дурак дураком, – вздыхал Тимошка, глядя на ясное небо. Лицо у него маленькое, рябоватое, с клочковатой бороденкой.
– То-то! – хмурился Егор, не понимая толком, что Тимоха хочет сказать.
Подошел Федюшка с наточенными топорами. Егор поднялся, подступил к лесине и стал обтаптывать вокруг снег. После крещенья братья работали от зари до зари. Рубили лес и заготовляли дрова и бревна для будущих построек.
– Возьми топорик да пособи нам, – сказал Егор сурово.
– Дай-ка мне топорик-то, я тоже разогреюсь, – попросил Тимошка через некоторое время, глядя, как бойко и весело братья застучали топорами по березе.
Федюшка засмеялся и отдал топор Тимофею. Тот оживился и заработал с видимым удовольствием.
– А пошто же у себя не робишь? – спросил его Кузнецов, когда лесина с треском повалилась поперек лиственницы.
– Видать, застоялся ты, – засмеялся Федюшка. – Как закраснел! Живой опять стал.
– Чистил бы у себя, вот бы и ожил, а то замерзнешь, – твердил Егор.
– Никак не соберусь, – поскреб в бороде Тимошка. – Ведь я один…
– Приходи нам пособлять, а потом мы поможем тебе. Вот и будешь на людях, и работа пойдет.
– При людях, конечно, веселее работать, – обрадовался Силин, – а один я никак не могу. Как гляну я на эту тайгу, тоска меня берет: экая ведь трущоба, да разве один человек тут может? – смущенно признался он. – Я, может, оттого не роблю, что это все понимаю. Да и как возьмешься, когда все неладно? – с виноватой улыбкой продолжал он, как бы оправдываясь, что позволил себе такое откровение. – Вот теперь Фекле неможется, голова у нее болит, в глазах темнеет, кости ломит, кровь с десен идет, сама она не своя, цинга, что ль, на нее наваливается?
– У нас дедка тоже зубы изо рта таскает, – улыбаясь, вымолвил Федюшка, словно это было смешно и забавно. Для Федюшки в его скучной жизни и дедова немочь была чем-то вроде разнообразия. – Бабка его пользует, – продолжал он. – Ты спроси-ка ее. Она знает траву такую, у нее она насушена, с собой. Будто помогает.
– Это, сказывают, уж каждому надо тут цингой переболеть, никуда от нее не денешься. Лечить ее, поди, зря только время проводить. Наверно, перетерпеть надо – и все. Не стоит и лечиться.
Тимошка все же пошел к Дарье. Старуха побывала у Феклы и велела ей пить пихтовый отвар. Но, несмотря на бабкино леченье, чем теплее становились дни, тем все хуже было Фекле.
Тимошка стал работать, помогать Кузнецовым, а Егор и Федюшка каждый третий день работали на его участке. Тимоха оказался мужиком сильным и работящим. Работая на чужом участке, каждый старался, чтобы не остаться в долгу.
…Дед Кондрат стал плох и уже с трудом выходил из землянки на солнышко.
После Нового года погода стояла переменчивая. То солнце пригревало, и как будто дело шло к весне, и даже однажды в тихий день на солнцепеке подтаяли снега; Егор с Федюшкой, чистившие в этот день тайгу, слегка закраснели от свежего загара. То вдруг снова ударял мороз, как и в начале зимы, лес и реку окутывал туман, и холодные ветры осаждали поселье то сверху, то снизу. Однако морозы были уж не такие стойкие, и, если не было ветра, стоило в ясный день солнцу разогреться к полудню, как холод несколько спадал. Все же, по мнению переселенцев, январь стоял студенее, чем на родине.
Федор Барабанов после праздников старательно охотничал. Он уходил теперь надолго, ночевал в тайге.
Санка был постоянным спутником и помощником отца. За последний год парнишка поздоровел, раздался в плечах, нагулял щеки, стал смугл лицом. Он уже начал покуривать табачок, с ребятами разговаривал небрежно, поглядывая на них с высокомерием, и терся около мужиков. Во всем его обличье сквозили смышленость и пробуждающаяся хитроватость промысловика. Он ходил вразвалку, лениво и в то же время шустро поглядывал по сторонам бойкими светлыми глазами, как бы чего-то все время высматривая. На промысле он был проворен и приметлив. Ему иногда даже удавалось и такое, что не всегда мог сделать сам Федор. Умел он делать дело и помалкивать, в чем был противоположностью Федюшке Кузнецову, который хоть и старше его и на вид казался рослым, здоровым пареньком, но в душе оставался еще подростком – простым, наивным и добрым.
Побывав у гольдов, Санка и Федька устроили себе такие же самоловы, какие видели они у горбатого Баты. Однако за работой Федьке редко удавалось половить у проруби рыбку. Зато устройство махалки живо переняли другие ребята. Из обломков гвоздей они сами ковали и обтачивали крючки, раскаляя их в печках.
– Какую вы тут кузницу затеяли? – ругала бабка Ваську и Петрована, стучавших у порога. – Может, нужный гвоздь-то стащили. Тут всякая железка дорога.
– Ладно, бабка, – с сердцем отмахивался Васька, увлеченный работой.
– Я тебе дам «ладно»!.. Разве это игра? Вот схвачу тебя за вихры – будешь знать. Вон бери лопату да ступай стайку чисти. Дела полон рот, а им в забавы забавляться.
Санка Барабанов, ходивший с отцом на охоту, смилостивился над ребятами и подбил для них белку-летягу, чтобы было чем обшить деревянные рыбки, вырезанные для самоловов.
Когда Бердышова не было дома, меньшие ребята со всякой просьбой бежали к гольдке, с которой водили дружбу с тех пор, как она учила их объезжать собак.
Анга, пополневшая – она была беременна, – садилась посреди избы на пол, ребятишки окружали ее, и она помогала им ладить самоловы.
Однажды веселая ватага ребят ввалилась в землянку Кузнецовых. Плохонькая одежонка детей затвердела от мороза и запорошилась от возни у прорубей.
– Ты где это завалялся?
Наталья растолкала малышей, подбираясь к Ваське, но не договорила и ахнула, всплеснув руками. У мальчика из-под мышки торчала большая пятнистая рыба, несколько мерзлых щучек он придерживал рукой, приподняв полу шубейки.
– Ах, пострел! Никак сам добыл! – с добротой в голосе воскликнула бабка.
Васька сжал губы и гордо сверкнул голубыми глазами. Побледневшее за зиму, острое, решительное лицо его зарделось.
В дверях появился Петрован с самоловом. Важно и небрежно оглядев всех в землянке и оставаясь безразличным к радости матери и бабки и к визгу Настьки, он стал раздеваться и как бы невзначай поставил махалку на видное место у окошка. Он разулся, повесил ичиги на большой деревянный гвоздь и полез на лавку. Остальные ребята выбежали за дверь и с криком понеслись по морозу к своим землянкам.
Все радовались добыче Васьки и Петрована. Рыба осеннего улова всем надоела, и свежая добыча пришлась кстати.
– Эх ты, кормилец ты мой! – поцеловала меньшого Наталья.
Теперь на ребячью махалку все стали смотреть совсем по-иному.
– Кто же это вам такую снастеньку показал? – спрашивала ребят бабка, трогая рыбку и крючок.
– Федюшка с Санкой у гольдов подсмотрели, да Иванова тетка нам помогла, мы к ней бегали за нитками, она нам балберы пришивала, – рассказывал Петрован небрежно, как о чем-то давно прошедшем.
– А у нас ведь на Каме тоже на ненаживленные крючки ловят, – сказал Егор, возвратившись домой и рассмотрев сыновьи самоловы. – Это, говорят, русские обучили гольдов.
– Не знаю, кто кого, русские ли гольдов, гольды ли русских, – рассудительно отвечал Петрован.
С того дня ребят посылали к проруби за рыбой, как в кладовку. Вскоре ловля щук стала для них такой же работой, как помощь отцу на релке или уход за коровой и за конем.
После рассказов ребят о том, как Анга им помогала, Наталья стала чаще бывать у Бердышовой. Она видела, что гольдка славная и добрая женщина. Анга, тяжело переносившая беременность, за последнее время особенно чувствовала свое одиночество. Русских баб она все еще несколько стеснялась. Иван пропадал на охоте, родные были далеко. Ее влекло к детям, с ними она чувствовала себя как ровня, а они были рады, что во всяком деле у них есть советчик. Но все же гольдка была одинока. Наталья, чувствуя это, потянулась к ней.
Больная Фекла все более и более водилась с Бормотовыми, которые жили большой и дружной семьей несколько поодаль от землянок Кузнецовых, Силиных и Барабановых, саженях в ста выше, ближе к старому стану. Фекле было трудно ходить на верхний конец, и она добиралась туда лишь в случае крайней нужды, но жены Терехи и Пахома Бормотовых бывали у нее постоянно, туда же захаживала часто Дарья.
Другая соседка Кузнецовых – Агафья – была женщина грубая, жесткая и завистливая. Наталья и прежде особенно с ней не дружила, хотя и встречалась с утра до ночи по многу раз. Агафья с приездом на Додьгу стала завидовать во всем Наталье: и что та хороша собой, и что Егор ее – мужик работящий, не в пример Федору, прямой, не шатающийся от одного дела к другому. Завидуя, Барабаниха по всякой малости и при всяком случае превозносила себя, своего Федора и все свое и старалась хоть разговорами о своем превосходстве уязвить соседку.
Темнолицая и скуластая, с жесткой складкой губ и низким лбом, плотная и коренастая, Барабаниха была женщиной редкой силы и здоровья. «Жала дома на полоске, – рассказывал про нее еще в дороге Федор, – шаг шагнула – и ребеночка родила». Долгий сибирский путь, во время которого она схоронила двух новорожденных, еще более озлобил ее.
Федор хотя и делал вид, что держит в семье верх, но в душе побаивался жены. На праздниках, возвратившись с гулянки от Бердышовых, он попробовал было под пьяную руку помыкать ею, но она влепила ему такую затрещину, что мужик только охнул тяжко, улегся на лавку и уж более не заикался.
Барабаниха всегда была зла на кого-нибудь по пустякам со всей силой своей могучей природы и крепкого простого ума.
К Наталье, после того как та сдружилась с Бердышовой, она особенно придиралась. Гольдка среди жителей Додьги была богаче всех, и Агафья усматривала в дружбе Натальи с ней корысть, не допуская мысли, что с туземкой можно водиться из-за чего-нибудь, кроме выгоды.
– Хитрые эти Кузнецовы, гольдячку обхаживают, – как-то поутру сказала она мужу, заходя в землянку. Она чистила курятник, стоявший в землянке, и только что вынесла помет. – Сейчас идет Наталья и несет от нее новенькие обутки, расписные, гольдяцкие. Так я и знала, что она чем-то у них поживиться хочет.
Надевши подарок Анги – новые унты, Наталья пошла по воду. Любо теперь было и поглядеть на свои ноги. Белоснежная сохатина была мелко и искусно расшита яркими нитками и бисером. Ремешки туго перехватывали голяшки, и мех прилегал плотно и красиво. Обутки были мягки, легки, как перышко, и теплы. Сильные Натальины ноги, привыкшие к грубой и тяжелой обуви, шли теперь легко, как в скороходах.
Возвращаясь с полными ведрами от проруби, Кузнецова повстречала у барабановской землянки Агафью.
– Твой-то опять седни робит? – вздохнула Барабаниха, как бы желая сказать: мол, Егор, бедняга, из кожи лезет вон, старается дорваться до богатства.
– Чего же ему не робить? – возразила Наталья, ставя ведра на тропинку. – Погода позволяет. А твой-то опять, поди, в тайгу собирается? – не без насмешки сверкнула она бойкими светло-серыми глазами.
– Да ты, никак, в обновке? – делано удивилась Агафья. – Ну, вот и ладно, а то уж больно ты мерзла в рваных-то, жаль глядеть было. Не зря, значит, ты к Анге бегала. Видишь, и потрафила она тебе. А я не стала бы расписные надевать, – выставила она ногу в загнувшемся, подшитом кожей катанке, – этак-то теплее и красивей, чем в расписных ходить. Да и ноги в них подкатываются, – заключила она презрительно.
– Как-нибудь и в этих проходим! – Наталья подняла ведра и пошла своей дорогой. – Где уж нам стары пимы таскать! – кинула она через плечо.
После этого разговора Наталья стала чаще бывать у Анги. Иван неделями пропадал в тайге, и женщины часто подолгу бывали вместе. Наталья помогала Анге сшить платье крестьянского покроя, с оборками и лифом, и сарафан, научила ее повязываться платком на разные лады, как делают это русские бабы. За беременность гольдка располнела, лицом стала бела и румяна, щеки округлились, и скулы сгладились.
– Ты теперь на русскую походить стала, – говорила ей Наталья.
Как-то раз вечером Наталья, подойдя к бердышовской избе, увидела Ангу за странным занятием. Над Пиваном ярко светила луна, и торосы на реке горели, как костры, разложенные по льду, а лес и сопки были видны ясно, как днем. Стоя под лиственницами, гольдка держала тарелку с вареной рыбой и с чашечкой водки. Что-то приговаривая по-своему, она разбрасывала кусочки рыбы кругом себя на искрящийся свежий снег, брызгала пальцами водку и так была увлечена этим занятием, что даже не взглянула на подошедшую к ней подругу.
– Ты чего это делаешь? – внезапно обняла ее Наталья.
– Не знаю, – виновато улыбнулась Анга и поежилась, вбирая голову в красивые плечи. Потом она широким и решительным движением выплеснула остатки водки на снег, сбросила рыбу с тарелки и, нахмурившись, сказала Наталье:
– Это старый обычай. Ты не срами меня за это. Рожать-то мне скоро. Пойдем-ка богу помолимся, чтобы бог добро нам давал, – и тихо, таинственно добавила: – Чтобы нам всем ладно было.
– За что же тебя срамить, бог с тобой…
Бабы вошли в избу, засветили сальную свечу и встали на колени перед маленькими медными складнями.
– Молитва говори, – велела Анга, подымая взволнованные глаза к божничке.
Анга крестилась, низко кланялась и, коверкая славянские слова, старательно повторяла молитву. Когда же Наталья смолкла, она поднялась проворно и спросила:
– А другой-то молитва знаешь?
– Знаю.
– Ну, другой молитва другой раз молиться станем, сегодня, однако, хватит.
– Тебя кто молиться-то учил? – спросила ее Наталья.
– Батька учил, а Иван плохо молится…
– Известно, мужик: гром не грянет, лба не перекрестит.
– Ваша бабка учила. Она много молитва знает, а Иван-то мой плохо знает, он ничего не знает.
Иногда женщины привозили в нартах кадушку воды, переливали ее в печной котел, жарко топили печь и мылись. До переезда на Додьгу Анга мылась редко. В детстве и в юности, до встречи с Иваном, она совсем не знала мыла. Когда-то, первые разы, купалась она неохотно, но со временем вошла во вкус и теперь с упоением плескалась и обливалась водой. Когда Наталья растирала ей длинную смуглую спину, она приходила в восторг и хохотала.
Потом бабы одевались, приводили в порядок избу, ставили сушить корыто и садились ужинать ухой из свежей рыбы, которую Иван выловил подо льдом снастями и наморозил в амбарушке.
Возвратившись с охоты, Бердышов был приятно удивлен переменой во внешности жены.
– С обновкой тебя, что ль? – вымолвил он, высунув поутру лохматую голову из-под мехового одеяла и глядя, как жена обряжается в сарафан. – Поди-ка, щипну тебя.
– А Наталья – боец, – говорил он, натягивая на ноги усохшие за ночь ичиги. – Надо нам с тобою уважить Кузнецовых, гостинца, что ль, ей послать.
– Сохатины-то нету… – Анга расчесывала деревянным гребнем густые сбившиеся волосы. – Однако бы, ангалкой[36]36
Ангалка – сетка (нанайск.).
[Закрыть] рыбы наловить им.
– Одолжить им, что ль, снасти? – в нерешительности спросил Иван. – Пусть ловят. И сетку дам, ведь они мне сказывали, что на родине ловили подо льдом рыбу.
– А может, Ванча, к китайцу бы нам поехать? Наталье-то товару взять?
Анге давно хотелось побывать дома, но причины не было, чтобы поехать в Бельго.
– Ну нет, к китайцу не поеду, – отмахнулся Иван. – Товар-то им дарить не жирно ли станет?
Анга с сожалением покачала головой. Усевшись на корточки перед очагом, она сложила туда дрова, занесенные в избу с вечера, и стала щепать из сухого полена лучины.
– Ваня, а пошто ты меха ныне у себя держишь, в лавку не везешь? – спросила Анга, склонив голову и лукаво смеясь из-за плеча.
– Маленько обожду. Считай сама: до рождества я Ваньке Галдафу соболей давал, за ним еще оставалось, а чего набрал к празднику, так это пустяки. Куда мне теперь торопиться? Не к спеху, а у них и без меня мехов хватает. Соболь пошел хлестко, гольды им полные амбары натаскают. Дал я им задаток пару соболей, теперь они шишей от меня дождутся. Беда! – вдруг ухмыльнулся Бердышов.
– Ты задумал чего? – мягко и счастливо засмеялась Анга… – Однако, чтобы Гао тебя только не обманули…
– С них станется, – вздохнул Иван. А голос был насмеш– ливо-самоуверенный, и Анге казалось, что вышло у него: мол, так я и дался!
Анга догадывалась о намерениях мужа.
Чтобы китаец ничего не подозревал, Иван дал ему из ранней добычи пару соболиных шкурок, из которых одна случайно была попорчена при снятии. Уже тогда у Ивана в запасе был десяток соболей. И потому, что он отнес в барабановскую землянку лишь пару, не пожалев к испорченному приложить пушистого и черного, Анга почуяла, что муж ее что-то затевает…
В амбаре у Ивана стояли ящики с водкой, Иван ни жене, ни тестю толком не рассказывал, что он задумал. Он всегда все свои предприятия начинал втайне и только при таком условии верил в их успех.
После обеда Бердышов зашел к Кузнецовым.
– Тебе свежей рыбы надо? – обратился он к Егору.
– Мало ли чего мне надо, – возразил тот.
– Эх ты, рыбак! Как же ты на Амур без снастей пришел? А говоришь, на Каме тоже всякий лов ведется. Нет, кабы там было так же, как тут, что эта рыба-матушка нам и хлеб и мануфактура, ты без снастей никуда бы не тронулся.
– Два-то года мы, чай, не по реке шли. В степи или в лесу ловить-то было неводом?..
– А разве в степи нет реки?
– Нету.
– А я всю жизнь при реке, так мне кажется, что и мест без реки не бывает. Калужатины сейчас бы нам с тобой, амуров ли этих. Самая жирная рыба амуры-то. Бери-ка, Кондратьич, пешню и айда на реку. Жалко, Федор куда-то пропал, а то бы и его взяли. Ты собирайся, а я за снастью да за ангой схожу – не за женой, а за сеткой. Вот она у меня каким именем названа. Чудилы эти гольды, девку «сеткой» назвали… Я спросил как-то Григория: «Ты пошто ее так назвал?» – «Как же, – говорит, – пусть сеткой зовется, чтобы счастье ей ловилось».
Накануне из тайги подул ветер. Ночью он переменился, и с верховьев опять нагнало холода. День был сумрачный, и даже в полдень стоял трескучий мороз.
– Ненадолго же отпустило. А мы-то полагали, что весна началась, – говорил Кузнецов, шагая с пешней следом за Иваном и за Федюшкой, нагруженными разными рыболовными снастями.
– Не-ет, до весны еще далеко. Тут до шуги-то еще одна зима пройдет.
Неподалеку от острова Иван и Егор проломали старые проруби, выгребая льдинки берестяной чумазкой[37]37
Чумазка, или чумашка – берестяной черпачок.
[Закрыть].
– А ты, Иван Карпыч, откуда знаешь, что тут рыба есть? – спросил Федюшка.
– Как же! Это уж я знаю. Я тут все тропинки в Амуре знаю.
В крайней проруби Бердышов утопил веревку, а из другой зацепил ее «нырилом», длинной палкой с сучком на конце, наподобие багра. Протянув веревку подо льдом между несколькими прорубями, он продернул следом за ней сеть и установил ее. Так же Иван поставил и снасть – длинную хребтину с ответвляющимися от нее поводками. К этим поводкам прикреплены были балберы и большие ненаживленные крючки с остро отточенными лезвиями, рассчитанными на поимку крупной рыбы.
Когда мужики возвратились в поселье, солнце уже село, и где-то в стороне Бельго из синего сумрака выплыла меж склонов большая багровая луна, перепоясанная тонким синим облаком. Морозный ветер так нажег и настудил рыбаков, что у Егора окоченели ноги, и он не помнил, как добрался до жаркой и душной землянки.
– Нос отморозил, потри-ка снегом, – сказала мужу Наталья, когда он выложил из мешка пару осетров.
Егор вышел из землянки, надломил голой рукой корку на сугробе, набрал в застывшие пальцы горсть крупитчатого сухого снега и растер им лицо до боли. Однако поздно было оттирать побывавшее в тепле лицо. Обмороз не проходил. Пришлось бабке после ужина помазать ему щеки кабаньим салом.
– Как же это ты недоглядел! – говорила Наталья. – Теперь лицо мерзнуть станет.
– Завтра бери чепан, да езжайте на коне, – наказывал дед. – Поди, и огонь на льду развести можно.
На другой день мужики запрягли Саврасого и поехали на реку. На снасть попала крупная калуга. Подтянутая к проруби, она заходила ходуном. В водовороте то и дело всплывали ее бьющиеся плавники и жирная спина с зубчатой хребтиной. Калуга ярилась, но острый крючок, вонзившийся глубоко в белое брюхо, не отпускал ее.
– Кабы не сорвалась, – беспокоился Егор, крепко держа веревку.
– Не-ет. На утине-то зазубрик, никуда не соскочит с него. Только шибко не давай ей дергаться, подпускай снастину-то…
Бердышов изловчился, вонзил в калугу багор. Рыба забилась, вышибая столбы брызг из проруби. Ветер, схватывая их, тотчас морозил, и одежда мужиков покрывалась чешуей из пупырчатых ледяшек, а вокруг проруби намерзала скользкая ледяная осыпь.
– Смотри, Егор, не оступись, а то утащит. Ну, что же ты дуришь? – уговаривал Иван бьющуюся калугу, вытаскивая ее на лед. – Сама себе в тягость стала, так разожралась. Столько жиру зря таскать – с ума сойти!
Калуга была хрящеватая и жирная, величиной с небольшую лодку-однодеревку. Взметнув хвост и заиндевелые плавники, она ощерила пасть, оттопырила жабры и выкатила глаза. Рыба застыла в напряженном изгибе, сгорбатив пилообразную хребтину, словно силясь сбросить с себя ледяную корку. Казалось, мороз мгновенно охватил ее, запечатлев исступленное отчаяние. Мужики с трудом, как тяжелое бревно, взвалили рыбину в сани и вместе с мелочью, попавшейся в сетку, отвезли в поселье.
Там было радости и веселья всем семьям. Иван и Егор распилили калугу на козлах, потом большие куски разрубили.
У переселенцев вошло в обычай делиться между собой всякой добычей. Наталья выбрала для Барабанихи самый жирный кусок и сама его отнесла, обезоружив этим завистливую бабу, не пожелавшую даже поглядеть, как рубят громадную рыбину.
По Иванову совету кузнецовские бабы вместе с Ангой затеяли пир. Решили стряпать калужьи пельмени и варить уху. В землянке было людно, шумно и весело.
Бердышов пошел за водкой. Даже Егор, на этот раз намерзшийся и наработавшийся досыта, чувствовал, что утро он провел не зря, и не прочь был выпить и повеселиться. Умывшись и вытерев обветренное лицо полотенцем, расчесав светлые усы и бороду, сидел он на лавке и поджидал Ивана.
Варится рыбка, едет Филипка, —
подпевала под веселый треск лиственничных дров хлопотавшая у котла старуха.
В красной шапке, сам на лошадке, Детей своих благодарить…
Больше всех доволен был хворый дед, ожидая, что от свежей и нежной рыбы ему полегчает.
– Эх, хороша ушица! – приговаривал он за обедом, прихлебывая из чашки.
– Из щуки-то вкусней, – вдруг с сердцем выпалил Васька.
Все засмеялись упорству маленького рыболова.
– Васька, обидно тебе, что мы калугу поймали, застрамили тебя с твоей махалкой и со щуками? Эх ты, ерш! – ткнул его Иван в бок.
– А ты чего дразнишься? Сам ерш! – Голубые глаза Васьки запалились злым холодком. – Вот захочу, наловлю осетров… – Парнишка тут же смолк, ухватившись за голову: отец стукнул его по лбу деревянной ложкой.
Петрован по-прежнему казался ко всему безразличным. Уплетая калужатину, он лениво морщился, косясь внимательными серыми, как у матери, глазами то на пьяневших, смеющихся взрослых, то на крепившегося, чтобы не зареветь, братишку.
– Ну, Петька-Петрован, что молчишь, как дурован? – дразнил его Федюшка.









































