Текст книги "Невероятные похождения Алексиса Зорбаса"
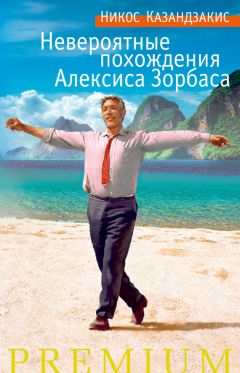
Автор книги: Никос Казандзакис
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
– С твоего позволения, хозяин. Я опять проголодался.
Он взял ломоть хлеба, луковицу, горсть маслин и принялся жадно есть, а затем запрокинул надо ртом флягу, не прикасаясь к ней губами, и послышалось бульканье вина. Прищелкнув от удовольствия языком, Зорбас сказал:
– Ну вот теперь сердце опять стало на место. – Он подмигнул и спросил: – Что ж ты не радуешься? Что меня разглядываешь? Такова уж моя натура. Какой-то дьявол сидит во мне, а я исполняю все его приказания. Как только мне становится невмоготу, он кричит: «Танцуй!», и я танцую. И становится легче. Однажды, когда умер мой сынишка Димитракис – было то на Халкидике, – я снова пустился в пляс. Родственники и друзья, увидев, как я пляшу у его трупика, бросились было удерживать меня. «Спятил Зорбас! Спятил!» – кричали они. А я, если бы не танцевал тогда, действительно спятил бы от горя. Потому что это был мой первенец, было ему всего три годика, и смерть его была для меня невыносима. Понимаешь, хозяин, или я это все зря болтаю?
– Понимаю, Зорбас. Понимаю. Я тебя слушаю.
– А в другой раз… Было это в России. Туда я тоже рудокопом ездил. В медные рудники у Новороссийска.
По-русски я знал всего несколько слов, самых необходимых для работы: «нет», «да», «хлеб», «вода», «я тебя люблю», «иди сюда», «сколько?». И вот подружился я там с одним русским, с замечательным большевиком. Каждый вечер мы просиживали вместе в портовой таверне. Пропускали по несколько графинов водки, и настроение у нас поднималось. А как поднималось у нас настроение, то и душа распахивалась. Он пытался рассказать мне обо всем, что пережил во время русской революции, а я старался поведать ему свои невероятные похождения. Захмелев, мы становились братьями.
С помощью жестов мы кое-как понимали друг друга. Сперва говорил он, а я, когда уже не мог понять, кричал: «Стоп!», и тогда он пускался в пляс. Плясал он все то, что хотел выразить словами. А потом то же самое делал я. То, что было невозможно выразить словами, мы выражали ногами, руками, животом и дикими возгласами: «Эй! Ну! Давай!»
Начинал русский. Он рассказывал, как они взялись за оружие, как началась война, как они дошли до Новороссийска… Когда я не понимал, что он хочет сказать, то поднимал руку и кричал: «Стоп!», а русский тут же срывался с места и пускался в пляс. Плясал он как окаянный, а я смотрел на его руки, ноги, на грудь, в его глаза и понимал все: как они вошли в Новороссийск, как перебили господ, как грабили магазины, как входили затем в дома и овладевали женщинами. Поначалу бесстыдницы плакали, раздирали ногтями тело и себе, и им, но затем постепенно успокаивались, закрывали глаза и только вскрикивали от наслаждения. На то они и женщины…
Затем принимался за рассказ я. Русский – он, видать, соображал не шибко – сразу же кричал: «Стоп!» А мне только того и надо было! Я вскакивал, раздвигал столы и стулья и пускался в пляс… Эх, до чего дошли люди, тьфу, пропади они пропадом! Дожили до того, что тела их совсем онемели, только губами и разговаривают! Да разве губами можно что сказать? Если б ты видел, как русский пожирал меня глазами с головы до ног, как он все понимал! Танцуя, я рассказал ему про все свои страдания и странствия, сколько раз был женат, какие ремесла знал – как рубил камень, как был подрывником, ходил с лотком, лепил горшки, как был комитадзисом, играл на сандури, торговал орехами, как был кузнецом и контрабандистом, как меня посадили, как я сбежал и добрался до России…
Он все понимал, все, хоть и не шибко соображал. Говорили мои ноги и руки, говорили мои волосы и одежда. Даже нож, который висел у меня на поясе, и тот говорил… А когда я оканчивал рассказ, этот болван хватал меня в объятия и расцеловывал. Мы снова наполняли стаканы водкой и принимались плакать и смеяться, обнявшись. На рассвете приходилось расставаться, и мы, шатаясь, отправлялись спать. А вечером встречались снова.
Смешно? Не веришь, хозяин? Ты, должно быть, думаешь: «Да что это он за чушь городит, этот Синдбад-мореход?» А я голову даю на отсечение, что именно так и разговаривали друг с другом боги и дьяволы.
Да тебя уже сон взял. Слишком ты нежный, быстро сдаешься. Ну ладно, ступай баинькать, завтра продолжим. Есть у меня план, замечательный план – завтра расскажу. Я еще выкурю сигарету, а то и в море окунусь: голова вся в огне, охладить не мешало бы. Спокойной ночи!
Уснул я не скоро. «Жизнь моя пропащая, – думалось мне. – Вот если бы можно было взять тряпку и стереть все, что я читал, слышал и видел, пойти в учение к Зорбасу и начать постигать все с азов! Как бы все было по-другому! Я научил бы все мои пять органов чувств и все мое тело радоваться и понимать. Научился бы бегать, бороться, плавать, скакать верхом, грести, водить машину, стрелять из ружья. Дал бы плоть моей душе и примирил бы наконец в своем существе двух этих вечных врагов…»
Сидя на постели, я вспоминал все мою пропащую жизнь. Через открытую дверь было видно, как в тусклом мерцании звезд Зорбас сидит, согнувшись, на скале, словно ночная птица, и смотрит на море. Я завидовал ему. «Он нашел истину, – думал я. – Вот истинный путь!»
В другие, первозданные времена творения Зорбас был бы вождем своего народа и вел бы его за собой, прокладывая секирой путь. Или был бы прославленным трубадуром, который странствует от замка к замку, и все – вельможи, дамы и их подданные – безропотно внимали ли бы словам, слетающим с его толстых губ… А в наше безрадостное время он – словно голодный волк, кружащий вокруг загона. Даже опустился до того, что стал шутом у бумагомарателя.
Вдруг Зорбас поднялся, разделся, бросил одежду на гальку и окунулся в море. В скудном лунном свете его огромная голова то появлялась из воды, то снова исчезала. И было слышно, как он издает возгласы, лает, ржет, кричит петухом: душа его снова возвращалась к животным, пребывая среди ночного спокойствия в полном одиночестве и купаясь в море.
Мало-помалу, сам не почувствовав как, я уснул. А утром на рассвете я увидел веселого и полного сил Зорбаса, который направлялся ко мне, собравшись потащить за ноги.
– Вставай, хозяин. Расскажу тебе мой план. Ты слушаешь?
– Слушаю.
Он уселся, согнувшись и скрестив ноги, и принялся рассказывать, как он установит подвесную дорогу от вершины горы и до самого берега, чтобы спускать по ней лес, необходимый для устройства шахты, а остатки его можно будет продать на дрова. Мы решили взять в аренду у монастыря сосновую рощу, но перевозка леса стоила слишком дорого, а мулов найти было негде. И вот Зорбас задумал соорудить подвесную дорогу, использовав толстый трос и столбы со шкивами: подвешенные на вершине холма бревна во мгновение ока будут долетать до берега.
– Согласен? – спросил Зорбас напоследок. – Подписываешь?
– Подписываю, Зорбас. Приступай.
Он зажег мангал, поставил джезву, приготовил кофе, набросил мне на ноги одеяло, чтобы я не мерз, и, довольный, удалился.
– Сегодня, – сказал Зорбас, – мы проложим новую галерею. Я нашел жилу. Настоящий черный бриллиант!
Я раскрыл рукопись «Будды» и углубился в мои собственные глубинные галереи. Я работал весь день и, работая, ощущал облегчение, обретал спасение, испытывал смешанное чувство освобождения, гордости и омерзения. Работал я вдохновенно, потому что знал: как только закончу эту рукопись, перевяжу ее и запечатаю, я буду свободен.
Почувствовав голод, я съел немного изюма, миндаля и кусок хлеба. Я ожидал, когда придет Зорбас и принесет блага, радующие человека, – бодрящий смех, доброе слово, вкусную еду.
Зорбас появился вечером, приготовил еду, и мы поели. Мысли его витали далеко. Зорбас опустился на колени, укрепил в земле несколько щепок, протянул веревку, подвесил на крохотных крючках спичку и принялся искать нужный угол наклона, при котором конструкция не развалится.
– Если угол будет слишком большим, все пойдет к дьяволу, а если будет слишком малым, все опять-таки пойдет к дьяволу, – объяснял он. – Угол нужно определить точь-в-точь, хозяин, а для этого нужны ум и вино.
Я засмеялся:
– Вина у нас вдоволь, а вот насчет ума не знаю.
Тогда и Зорбас расхохотался.
– А ведь и ты тоже кое-что соображаешь, хозяин, – сказал он, ласково глянув на меня.
Он присел передохнуть, закурил сигарету. Настроение у него снова поднялось, язык развязался.
– Получится подвесная дорога – спустим весь лес, откроем завод, наделаем досок, столбов, брусьев, заработаем кучу денег, соорудим трехмачтовый корабль, бросим камень через плечо и отправимся куда глаза глядят по всему свету.
Глаза у Зорбаса загорелись: в них были заморские женщины, города, огни иллюминации, огромные дома, машины, корабли.
– Я, хозяин, уже до седых волос дожил, зубы уже шатаются, времени зря терять больше не могу. Ты еще молод и можешь подождать, а я – нет. Чем больше старею, тем больше зло меня берет, ей-богу! Что за вздор, будто старость успокаивает человека, будто сообразительность у него притупляется, а увидев перед собой Смерть, он безропотно подставляет шею и говорит: «Зарежь меня, и я обрету Царство Небесное»?! Я чем больше старею, тем больше зло меня берет. И не только не сдаюсь, но весь мир хочу захватить.
Зорбас поднялся, снял со стены сандури.
– Иди-ка сюда, чертяка! Что это ты повис на стене и ни звука? Ну-ка, спой!
Я смотрел и не мог насмотреться, как Зорбас бережно и нежно снимал с сандури укрывавшую инструмент ткань: он словно снимал кожуру со смоквы или раздевал женщину.
Зорбас пристроил сандури на коленях, склонился над ним, бережно погладил струны, словно советуясь, какую мелодию сыграть. Он ласково будил сандури, стараясь задобрить, чтобы инструмент составил компанию его душе, которая уже бунтовала, не в силах больше выносить одиночество. Зорбас принимался за какую-то песню, песня не выходила, и тогда Зорбас оставлял эту песню и принимался за другую. Струны визжали, словно от боли, не желая петь. Тогда Зорбас прислонился к стене и утер внезапно выступивший на лбу пот.
– Не хочет… – пробормотал он, испуганно глядя на сандури. – Не хочет…
Зорбас с опаской укутал инструмент, словно это был зверь, который мог укусить, медленно поднялся и снова повесил его на стену.
– Не хочет… – снова пробормотал он. – Не хочет. А принуждать его нельзя.
Зорбас снова подсел к мангалу, перевернул запекавшиеся в золе каштаны и наполнил стаканы вином. Он выпил, еще раз выпил, почистил каштан и протянул мне.
– Понимаешь в чем тут дело, хозяин? – спросил Зорбас. – Я совсем запутался. Все в мире имеет душу – дерево, камни, вино, которое мы пьем, земля, по которой мы ступаем. Все, совершенно все, хозяин. – Он поднял стакан. – Твое здоровье!
Зорбас осушил стакан и снова наполнил его.
– Жизнь бесстыжая! – пробормотал он. – Бесстыжая! Все равно что Бубулина!
Я засмеялся.
– Послушай меня, хозяин. Не смейся. Жизнь – та же Бубулина. Старуха уже, а все-таки в ней, милашке, что-то есть. Знает, чем с ума свести. Стоит только глаза закрыть, и кажется, будто ласкаешь двадцатилетнюю девушку. Было бы только настроение да свет погасить – ей-богу, двадцатилетняя!
Ты скажешь, что она уже развалюха, что она все на своем веку перепробовала – адмиралов, морячков, солдатиков, крестьян, лоточников, попов, рыбаков, полицейских, учителей, проповедников, судей, – ну и что из этого? Она, негодница, быстро забывает, не помнит ни одного любовника, становится воистину голубкой невинной, малюткой, девочкой и краснеет – да, представь себе – краснеет и дрожит, будто в первый раз. Женщина – чудо непостижимое, хозяин. Тысячи раз падет и тысячи раз снова поднимется девственной. А почему? Да потому, что она не помнит.
– Зато попугай помнит, Зорбас, – сказал я, желая подразнить его. – Он все время кричит одно и то же имя – не твое, а чужое. Это тебя не злит? В минуту, когда ты пребываешь с ней на седьмом небе и вдруг раздается крик попугая: «Канаваро! Канаваро!» – у тебя не возникает желания свернуть ему шею? Разве не пора уже научить его кричать: «Зорбас! Зорбас!»
– Старые бредни! Старая демагогия! – закричал Зорбас, зажимая уши своими огромными ручищами. – Свернуть ему шею? Да я вне себя от восторга, когда слышу это имя. Ночью окаянная вешает его над кроватью, а он, едва увидев, что мы начинаем давить друг друга, принимается кричать: «Канаваро! Канаваро!»
И клянусь, хозяин, – да только где тебе понять, тебе, заплесневевшему среди проклятых книг! – клянусь, я чувствую, что на ногах у меня – лаковые туфли, на голове – перья, а борода у меня мягкая, как шелк, и пропитана пачулями. «Buon giorno! Buona sera! Mangiate maccheroni?»[30]30
Добрый день! Добрый вечер! Не желаете ли макарон? (ит.)
[Закрыть] Я становлюсь настоящим Канаваро. Я поднимаюсь на мой тысячи раз продырявленный флагман и открываю огонь! И идет пальба!
Зорбас засмеялся и посмотрел на меня, прищурив левый глаз.
– Извини, хозяин, но я похож на моего деда, капитана Алексиса, да простит Бог душу его! Когда было ему уже сто лет, по вечерам он садился у порога своего дома и любовался девушками, которые ходили к ручью за водой. Но зрение у него уже ослабло, видел он плохо. «Ты кто будешь, детка?» – «Леньо, дочка Мастрантониса!» – «Подойди, дай-ка прикоснусь к тебе! Подойди, детка, не бойся!» И девушка, стараясь не рассмеяться, подходила. Дед опускал ладонь ей на лицо и ощупывал пытливо, нежно, ненасытно. А затем плакал. «Почему ты плачешь, дедушка?» – как-то спросил я. «Эх, да как же мне не плакать, внучек, когда я умру и оставлю здесь столько пригожих девушек?» – Зорбас вздохнул. – Эх, дедушка горемычный, как я тебя понимаю! Как часто, бывает, говорю я сам себе: «Эх! Вот если бы и все красавицы умерли вместе со мной!» Но они, негодницы, будут жить, жить в свое удовольствие, обниматься и целоваться, а Зорбас станет прахом у ног их!
Он вытащил из жаровни несколько каштанов, почистил их, и мы чокнулись. А затем мы долго пили и спокойно жевали, словно два больших кролика, слушая, как снаружи шумит море.
VII
Некоторое время мы молчали, сидя у мангала. Я еще раз получил возможность убедиться, что счастье – вещь простая и неприхотливая: стакан вина, печеные каштаны, скромный мангал, шум моря и ничего больше. А чтобы почувствовать, что все это – счастье, нужно только простое и неприхотливое сердце.
– Сколько раз ты был женат, Зорбас? – спросил я, немного погодя.
Оба мы слегка опьянели не столько от большого количества выпитого вина, сколько от переполнявшего нас невыразимого счастья. В глубине души оба мы понимали, каждый по-своему, что мы – два маленьких недолговечных насекомых, которые удобно устроились на коре земной, нашли уютный уголок на берегу моря, за тростником, досками и старыми канистрами и сидят рядышком, и перед ними находятся приятные и съедобные вещи, а внутри – покой, любовь и уверенность.
Зорбас не слышал: одному Богу ведомо, по каким морям странствовал он мысленно и поэтому не мог слышать моего голоса. Я протянул руку, прикоснулся к нему и спросил снова:
– Сколько раз ты был женат, Зорбас?
Он вздрогнул, услышав на сей раз, и махнул рукой:
– Эх, что старое ворошить? Разве я не человек? И я тоже совершил Большую Глупость – вступил в брак, да простят меня все женатые за такие слова. Тоже совершил Большую Глупость – женился.
– Понятно. А сколько раз?
Зорбас раздраженно почесал шею, немного задумался, а затем сказал:
– Сколько раз? Законно – раз, один только раз. Полузаконно – два раза. А так себе – тысячу, несколько тысяч раз, всего не сосчитать!
– Рассказывай, Зорбас! Завтра воскресенье: побреемся, принарядимся, сходим к госпоже Бубулине и гульнем! Работы у нас нет, можно и посидеть подольше. Рассказывай!
– Что тут рассказывать? Разве такое рассказывается, хозяин? Добродетельная семейная жизнь – глупость. Еда без перца. Что тут еще сказать? Что за удовольствие, когда святые смотрят на тебя с иконостаса и дают благословение? У нас в селе говорят: «Настоящий вкус – у краденого мяса». А своя жена не краденое мясо.
А про связи так себе… опять-таки разве про все упомнишь? Петух, он что – с учетной книгой ходит? Ничуть не бывало! Да и на что петуху учетная книга? Когда-то, еще в молодости, имел я блажь брать у каждой женщины, с которой переспал, прядь волос. Я для этого даже небольшие ножницы с собой носил. Даже когда в церковь ходил, ножницы всегда в кармане. Разве мы не люди? Все случиться может.
Собирал я так вот локоны – черные, русые, каштановые, даже с проседью. Собирал я, собирал, на целую подушку насобирал. Набил я волосами подушку и спал на ней. Но только зимой, потому что летом она меня распаляла. Только вскоре стало мне противно: подушка стала дурно пахнуть, и я ее сжег. – Зорбас засмеялся. – Это были мои учетные книги, хозяин. Сгорели они. Надоело: думал я, что их немного, а оказалось, что им конца нет, и я выбросил ножницы.
– А полузаконные женитьбы, Зорбас?
– Вот в них уже было кое-что, – ответил он, посмеиваясь. – С женой-славянкой хоть тысячу лет живи! Свобода! Никогда тебя не спросит: «Где ты был? Почему опоздал? Где ночевал?» Ни она тебя не спрашивает, ни ты ее. Свобода!
Зорбас поднял стакан, осушил его, почистил каштан и, жуя, стал рассказывать:
– Одну из них звали Софинка, другую – Нюша. С Софинкой я познакомился в большом селе под Новороссийском. Была зима, шел снег. Я направлялся на рудник, проходил через село и задержался там. В тот день была ярмарка, и народ – мужчины и женщины отовсюду из окрестных сел – собрался покупать и продавать. Ужасный голод, страшный мороз. Люди продавали все, что могли, даже иконы, чтобы только купить хлеба.
Ходил я так вот туда-сюда по ярмарке и вдруг вижу: спрыгивает с телеги мощная крестьянка, баба двух метров ростом, с синими, как море, глазами, с потрясными ляжками, настоящая кобыла… Я так и обомлел. «Ну, – говорю, – бедняга Зорбас, теперь ты пропал!»
Я шел за ней следом, пожирал глазами, пожирал и все не мог насытиться, видя, как бедра ее раскачиваются, будто колокола на Пасху. «Что ты забыл на руднике? – сказал я себе. – Что ты там, несчастный, жизнь свою понапрасну губишь? Вот где настоящий рудник – залазь в него с головой, прокладывай галереи!»
Девушка остановилась, поторговалась, купила дров, подняла их – что за ручищи, боже мой! – и бросила в телегу. Взяла она немного хлеба и несколько копченых рыбин. «Сколько стоит?» – спрашивает. «Столько-то», – отвечают ей. Снимает она тогда с уха золотую серьгу. Денег у нее не было – серьгой решила заплатить. Меня всего передернуло. Как?! Позволить женщине отдать серьги, побрякушки, душистое мыло, флакон лаванды… Если они и это отдадут, тогда уж всему конец! Это все равно что павлина ощипать. Ты бы позволил ощипать павлина? Я – ни за что! Нет, сказал я, нет, пока Зорбас жив, не бывать этому! Раскрыл я кошель и заплатил. В те времена рубль ценился не больше бумаги. За сто драхм можно было мула купить, а за десять – женщину.
Заплатил, стало быть. Баба обернулась. Посмотрела на меня. Потом схватила руку, чтобы поцеловать. Но руку я тут же отдернул: старик я, что ли? Она мне кричит: «Спасибо! Спасибо!» – благодарит, значит, а потом прыгнула в телегу, взяла вожжи, подняла кнут. «Смотри в оба, Зорбас, – говорю я себе, – а то, чего доброго, улизнет!» И я тоже одним прыжком очутился рядом с ней. Женщина ничего не сказала, даже не обернулась в мою сторону. Хлестнула она лошадей – и в путь.
В дороге она поняла, что я хочу ее как женщину. Несколько слов по-русски я знал, но слов в таких делах особо не требуется. Мы разговаривали глазами, руками, коленями. Короче, приехали мы в село, остановились у избы. Спустились. Она толкнула ворота, и мы вошли. Выгрузили во дворе дрова, взяли хлеб и рыбу, вошли в комнату. У потухшего очага сидела дрожавшая от холода старуха. Она куталась в мешковину, в лохмотья, в овчину, но все равно дрожала. Холодина такая, что ногти отваливались. Я нагнулся, положил в очаг дров, не скупясь, зажег огонь. Старуха глянула на меня и улыбнулась. Дочь ей что-то сказала, но я не понял. Я зажег огонь, старуха согрелась, ожила.
Тем временем девушка накрыла на стол, принесла водки, мы выпили. Потом она поставила самовар, заварила чаю, мы поели и накормили старуху. Приготовила она постель, постелила чистые простыни, зажгла лампадку перед образом Богородицы, перекрестилась. Затем кивнула мне, мы вместе стали на колени перед старухой, поцеловали ей руку. А та опустила свои костлявые ладони нам на головы и что-то пробормотала – думаю, благословила нас. «Спасибо! Спасибо!» – крикнул я и прыгнул к бабе в постель.
Зорбас замолчал, поднял голову и посмотрел вдаль, на море.
– Звали ее Софинка… – сказал он затем и снова погрузился в молчание.
– А дальше? – нетерпеливо спросил я. – Дальше?
– «Дальше» не было! Что это за блажь, хозяин, всякий раз допытываться про «дальше» да «почему»? Разве про то говорят, ей-богу?! Женщина – что свежий источник: наклонишься к нему и видишь свое лицо, а пьешь – пьешь, и кости хрустят. А затем приходит следующий жаждущий, тоже склоняется, тоже видит свое лицо и принимается пить. А затем опять следующий… Вот что такое источник, вот что такое женщина.
– Ты что, потом ушел?
– А что было делать? Это же источник, а я был путником, потому и снова в путь отправился. Три месяца прожил я с нею – да благословит ее Бог! – жаловаться не на что было. Но через три месяца вспомнил я, что направлялся на рудник. «Послушай, Софинка, – говорю я ей как-то поутру, – дело у меня есть. Нужно ехать». – «Хорошо, – говорит Софинка, – ступай. Буду ждать тебя месяц. Не вернешься через месяц, знай, что я – свободная. И ты тоже свободен. Ступай с Богом!»
– И вернулся ты через месяц?
– Да ты что, хозяин, извини, оглох, что ли?! – воскликнул Зорбас. – Не тут-то было! Разве грешницы отпустят?! Через месяц на Кубани нашел я Нюшу.
– Говори! Говори!
– В следующий раз, хозяин. Не нужно их одну с другой путать. За Софинку! – Он залпом выпил вино, прислонился к стене. – Ну, так и быть, расскажу про Нюшу. Сегодня у меня в голове только Россия. Расскажу – и с плеч долой!
Зорбас вытер усы, поворошил золу.
– Ну так вот, с Нюшей познакомился я в селе на Кубани. Дело было летом. Арбузов и дынь – горы. Стоило только нагнуться, взять – и никто тебе не скажет: «Эй ты! Чего здесь делаешь?!» Так вот, брал я арбуз, разрезал посредине – и ну туда мордой!
Хорошо было там, на Кавказе, хозяин, всего вдоволь – только подходи и выбирай! И не только дынь да арбузов было там навалом, но и рыбы и женщин. Идешь, бывало, видишь: арбуз – и взял, а иной раз видишь: женщина – и взял. Не так, как здесь, в задрипанной Греции, где за один арбузный лист тебя в суд ведут, а прикоснешься к женщине – ее брат уже с ножом бежит котлету из тебя делать. Нищета, жадность, это – «мое», это – «твое» – пропадите вы пропадом, голодранцы! В Россию съездите – вот где знатная жизнь!
Итак, был я тогда на Кубани, увидел на баштане женщину, и здорово она мне приглянулась. Надо сказать, хозяин, что славянка – не такая, как здешние дешевые скупердяйки-гречанки, которые продают любовь по капле и при этом из кожи вон лезут, чтобы продать подороже, да еще и обвесить. Славянка, хозяин, отвешивает вдоволь, полновесно: в том, что касается сна, любви и еды, она совсем сродни зверю, совсем сродни земле – дает вдоволь, не скупясь, как мелочные гречанки! «Тебя как зовут?» – спрашиваю. С женщинами я, видишь ли, и русскому немного научился… «Нюша. А тебя?» – «Алексис. Ты мне очень нравишься, Нюша». Она посмотрела на меня очень внимательно, как смотрят на лошадь при покупке. «Да и ты выглядишь что надо. Зубы у тебя здоровые, усы большие, плечи широкие, руки сильные. И ты мне нравишься». Много мы не говорили, да и ни к чему это было. Тут же порешили, что я в тот же вечер принаряжусь и приду к ней домой. «А шуба у тебя есть?» – спрашивает Нюша. «Есть, да только в такую жару…» – «Ничего, принеси ее ради престижу».
Так вот, принарядился я вечером женихом, перекинул через руку шубу, взял трость с серебряным набалдашником и пошел к ней. Дом у нее был большой, крестьянский, с дворами, коровами, давильнями, во дворе стояли котлы, а под ними горели огни. «Что это вы здесь варите?» – «Сусло из арбузов». – «А здесь?» – «Сусло из дынь». Да что же это такое?! – говорю я себе. Слыханное ли дело: сусло из дынь да арбузов! Земля обетованная! Долой нищету! Повезло тебе, Зорбас, попал куда надо: словно мышь на гору сыра свалилась.
Поднялся я по ступеням. Ступени были такие, знаешь, огромные и поскрипывали. На верху лестницы стояли отец и мать Нюши. На отце были зеленые шаровары, повязанные красным поясом с толстой бахромой. Люди видные. Раскрыли мне свои объятия, пошли поцелуи, я весь в слюне оказался. Они что-то очень быстро говорили мне, я ничего не понимал – ну и что из того? По лицам было видно, что зла они мне не желают.
Захожу я внутрь – и что же там вижу? Столы стоят накрытые, едой груженные, как корабли трехмачтовые. У столов вся родня стоя меня ждет, и мужчины и женщины, а впереди – Нюша, накрашенная, наряженная, с грудью напоказ, словно сирена на носу корабля, и так красотой и молодостью и сияет. На голове у нее был красный платок, а на груди, у сердца, вышиты серп и молот. «Да неужто это тело принадлежит тебе, Зорбас окаянный? Неужто это вот тело ты будешь ласкать нынешней ночью? Да благословит Бог отца и мать, что родили тебя!»
Все мы, и мужчины и женщины, налегли что было сил на еду и питье. Жрали, как свиньи, пили, как быки. «А поп где? – спрашиваю я Нюшиного отца, который сидел рядом, весь покрывшись потом от обильной еды. – Где же поп с благословением?» – «Попа не будет, – отвечает тот, снова брызжа на меня слюной. – Не будет попа. Религия – опиум для народа!»
Сказав это, он встал, вытянулся горделиво, затянул потуже пояс и, подняв руку, призвал всех к молчанию. С полным до краев стаканом в руке он посмотрел на меня и стал говорить. Говорил он и говорил, речь ко мне держал. Что он говорил? А бог его знает! Я устал стоять, было уже невмоготу, и я снова сел. Сел и коснулся коленом Нюшиного колена.
Старик все говорил и говорил, пока потом не покрылся, и все бросились обнимать его, чтобы он замолчал. Наконец он замолчал. «И ты тоже скажи что-нибудь», – кивнула мне Нюша.
Поднялся тогда я и произнес речь – наполовину по-русски, наполовину по-гречески. Что я говорил? Клянусь, я и сам того не знал. Помню только, что закончил я клефтской песней. Так вот, без всякого повода, взял и затянул:
В горы клефты вышли раз,
Чтобы лошадей украсть.
Лошади пропали,
Нюшеньку украли!
Песню я чуток изменил, хозяин, чтобы к месту было.
И идут, идут, идут,
Мама родная, идут!
Нюша, Нюшенька моя,
Нюша моя, Нюша!
Эх!
Крикнув «эх!», я бросился к Нюше и поцеловал ее.
Вот тут-то и пошло! Я словно дал сигнал, которого все только и ждали: несколько верзил вскочили и погасили свет.
Женщины, лукавые, завизжали, будто со страху. Но вскоре в темноте раздалось «хи-хи-хи!» и заливающийся смех.
Что там было, один Бог знает! Впрочем, думаю, даже Бог того не знает, потому что если бы он про то знал, то испепелил бы нас всех молнией. Мужчины и женщины вперемешку рухнули все на пол. Я попытался было отыскать Нюшу, да где там! Нашел какую-то женщину и занялся с нею.
На рассвете поднялся я, чтобы взять жену и уйти. Было еще темно, плохо видно. Нащупал я ногу – не Нюшина, нащупал другую – опять не Нюшина! Нащупал еще одну – снова не ее! Перепробовал я все ноги, наконец нашел Нюшину, вытащил ее из-под нескольких верзил, которые чуть было совсем не раздавили бедную женщину, разбудил. «Пошли, Нюша! – говорю ей. – Шубу свою не забудь». – «Пошли», – отвечает она. Мы и пошли.
– А дальше?
– Снова «дальше»? – раздраженно ответил Зорбас и вздохнул. – Прожил я с ней шесть месяцев. С тех пор – Бог свидетель! – ничего не боюсь! Ничего, совсем ничего! Только одного: как бы дьявол или Бог не стер из памяти моей эти шесть месяцев! Ты понял? Скажи: «Понял».
Зорбас закрыл глаза. Он выглядел очень взволнованным. Впервые я видел, что он так расстроился из-за воспоминаний.
– Стало быть, ты так сильно любил эту женщину? – спросил я после некоторого молчания.
Зорбас открыл глаза:
– Ты еще молод, хозяин, молод. Разве тебе это понять? Вот когда будут у тебя седые волосы, тогда и поговорим об этой нескончаемой истории…
– О какой еще «нескончаемой истории»?
– О женщине. Сколько раз повторять? Женщина и есть нескончаемая история. Ты еще как петушок, который, мигом разделавшись с курами, взбирается на кучу навоза и принимается кричать да петушиться. Не курица его заботит, а собственный гребень. Что они могут знать про любовь? Несчастные!
Зорбас презрительно сплюнул и отвернулся, не желая видеть меня.
– А дальше, Зорбас? – спросил я. – С Нюшей что случилось?
Зорбас посмотрел вдаль, на море и ответил:
– Однажды вечером воротился я домой и не нашел ее. Ушла. Какой-то смазливый солдат побывал в те дни в селе, она и ушла с ним. И все! Сердце мое на части разорвалось. Но вскоре опять зажило, негодное. Приходилось тебе видеть чиненые-перечиненые корабельные паруса с красными, желтыми, черными заплатами, зашитые толстым шпагатом, которых не разорвать уже даже самой страшной буре? Так и сердце мое. Тысячи раз разорванное, тысячи раз зашитое, неодолимое.
– А на Нюшу ты даже не рассердился, Зорбас?
– К чему тут сердиться? Можешь думать что угодно, хозяин, только женщина – это что-то особое, не человек. Чего ж тут сердиться? Женщина – вещь непостижимая, и никакие общественные и религиозные законы здесь не применимы. Руководствуясь ими, к женщине подступать нельзя ни в коем случае! Слишком жестоко поступают с ней, хозяин, слишком несправедливо… Если бы в моей власти было устанавливать законы, я придумал бы одни для мужчины, а другие – для женщины. Для мужчины – десять, сто, тысячи требований: он все вынесет, на то он и мужчина, а для женщины – ни одного. Потому что (сколько раз повторять, хозяин?!) женщина – создание слабое. За Нюшу, хозяин! За женщину! И да образумит Бог нас, мужчин!
Зорбас выпил, поднял было руку и тут же резко опустил ее, словно ударив молотом.
– Или пусть нас образумит, или сделает нам операцию. Иначе – поверь мне, хозяин, – мы пропали!
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































