Текст книги "Ртуть"
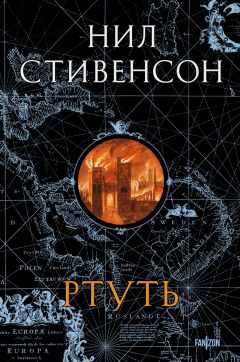
Автор книги: Нил Стивенсон
Жанр: Зарубежное фэнтези, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 21 (всего у книги 66 страниц) [доступный отрывок для чтения: 21 страниц]
– Так он вроде Спинозы?
– Вы хотите сказать, из тех, для кого Бог – не более чем Природа? Сомневаюсь.
– Чего хочет Гук?
– Он день и ночь занят проектированием зданий и прокладкой улиц…
– Да, а я занимаюсь реформированием немецкого законодательства, однако это не то, чего я хочу.
– Мистер Гук строит различные козни против Ольденбурга.
– Но не потому, что хочет?
– Он пишет статьи и читает лекции…
Лейбниц фыркнул:
– Менее десятой части того, что он знает, изложено на бумаге, не так ли?
– Гука плохо понимают, отчасти из-за странностей, отчасти из-за скверного характера. В мире, где многие отказываются верить в гипотезу Коперника, некоторые самые передовые идеи Гука, будучи обнародованы, могли бы привести его в Бедлам.
Лейбниц сощурился:
– Алхимия?
– Мистер Гук презирает алхимию.
– Отлично! – выпалил Лейбниц, позабыв про дипломатию.
Даниель спрятал улыбку за чашкой кофе. Лейбниц ужасно смутился, испугавшись, что Даниель сам окажется алхимиком. Даниель успокоил его, процитировав из Гука:
– «Зачем искать загадки там, где их нет? Уподобляться раввинам-каббалистам, ищущим энигмы в числах и расположении букв, ничего такого не содержащих, тем временем как в природных формах… чем более мы увеличиваем предмет, тем восхитительнейшие тайны раскрываем и тем более постигаем несовершенство собственных чувств и всемогущество нашего Создателя».
– Итак, Гук верит, что тайны мироздания можно открыть под микроскопом.
– Да. Снежинки, например. Коли каждая непохожа на другую, почему все шесть лучиков конкретной снежинки одинаковы?
– Если мы полагаем, что лучи растут из центра, значит, в центре есть нечто, придающее каждому из шести лучей общий организующий принцип – как все дубы и все липы имеют общую природу и вырастают примерно одинаковой формы.
– Человек, говорящий о некой загадочной природе, подобен схоласту – этакий Аристотель в камзоле.
– Или в мантии алхимика, – добавил Лейбниц.
– Согласен. Ньютон бы сказал…
– Это который изобрёл телескоп?
– Да. Он бы сказал, что, если поймать снежинку, расплавить и перегнать воду, можно получить дистиллят – сущность, которая воплощает её природу в физическом мире и определяет форму.
– Да, это точный дистиллят алхимического мышления – веры в то, что всё непонятное нам имеет некую физическую сущность, которую в принципе можно выделить из грубого вещества.
– Мистер Гук, напротив, убеждён, что пути Природы созвучны человеческому разумению. Как биение мушиных крыл созвучно колебаниям струны и может войти с ним в резонанс – так и каждый феномен в мире может, в принципе, быть познан человеческим разумом.
Лейбниц сказал:
– И обладая достаточно мощным микроскопом, Гук мог бы, заглянув внутрь снежинки при её рождении, увидеть, как сцепляются внутренние части, словно шестерни в творимых Богом часах.
– Именно так, сударь.
– И этого-то он хочет?
– Такова неназванная цель его исследований – в это он должен верить и к этому стремиться, ибо такова его внутренняя природа.
– Теперь вы говорите как аристотельянец, – пошутил Лейбниц.
Он потянулся через стол, положил руку на ящичек и произнёс уже не шутя:
– Что часы для времени, то эта машина для мысли.
– Сударь! Вы показали мне, как несколько шестерён складывают и умножают числа. Превосходно. Но это не значит мыслить!
– Что есть число, мистер Уотерхауз?
Даниель застонал.
– Как вы можете задавать такие вопросы?
– Как можете вы их не задавать? Вы ведь философ?
– Натурфилософ.
– Тогда вы должны согласиться, что в современном мире математика – сердце натурфилософии. Она подобна загадочной сущности в центре снежинки. Когда мне было пятнадцать, мистер Уотерхауз, я бродил по Розенталю – это сад на краю Лейпцига – и определил свой путь к натурфилософии: отбросить старую доктрину субстанциальных форм и положиться в объяснении мира на механику. Это неизбежно привело меня к математике.
– В свои пятнадцать я раздавал пуританские памфлеты на соседней улице и бегал от городской стражи – но со временем, доктор, когда мы с Ньютоном изучали Декарта в Кембридже, я пришёл к тому же, что и вы, заключению о ведущей роли математики.
– Тогда повторю свой вопрос: что есть число? И что значит перемножить два числа?
– Не знаю, но в любом случае не то же, что мыслить.
– Бэкон сказал: «Всё, обладающее заметным различием, по природе своей способно обозначать мысль». Нельзя отрицать, что числа в этом смысле способны…
– Обозначать мысль, да! Но обозначить мысль не значит мыслить – иначе перья и печатные прессы сами бы писали стихи.
– Может ли ваш разум манипулировать этой ложкой непосредственно? – Лейбниц взял серебряную ложечку и положил её на стол между ними.
– Без помощи рук – нет.
– И когда вы думаете о ложке, манипулирует ли ею ваш разум?
– Нет. Когда я о ней думаю, с ложкой ничего не происходит.
– Поскольку наш разум не может манипулировать физическими предметами – чашкой, блюдцем, ложкой, он манипулирует их символами, хранящимися в нашем мозгу.
– Тут я соглашусь.
– Вы сами помогали епископу Честерскому придумать философский язык, который – и в этом главное его достоинство – приписывает каждой вещи положение в определённой таблице. Это положение может быть обозначено числом.
– Опять-таки, соглашусь. Числа могут обозначать мысль, пусть и своего рода шифром. Но мыслить – совершенно другое дело!
– Почему? Мы складываем, вычитаем и умножаем числа.
– Положим, число «три» обозначает курицу, а число «двенадцать» – кольца Сатурна. Сколько будет трижды двенадцать?
– Ну, нельзя делать это произвольно, – сказал Лейбниц, – как Евклид не мог бы, проведя произвольные окружности и прямые, получить теорему. Должна быть строгая система правил, по которым производятся действия над числами.
– И вы предлагаете построить для этого машину?
– Pourquoi non?[44]44
Почему бы нет? (фр.)
[Закрыть] При помощи машины истину удастся запечатлеть, как на бумаге.
– И всё равно это не мысль. Мыслят ангелы; эту способность дал человеку Господь.
– И как, по-вашему, Господь её нам даёт?
– Не знаю, сударь!
– Если подвергнуть перегонке человеческий мозг, удастся ли извлечь таинственную сущность – присутствие Божие на земле?
– Алхимики зовут её философской ртутью.
– Или, если Гук посмотрит на человеческий мозг в микроскоп, увидит ли он крошечные зубчатые колёса?
Даниель молчал. Лейбниц взорвал его мозг. Зубчатые колёса застопорились, философская ртуть капала из ушей.
– Вы уже объединились с Гуком против Ньютона касательно снежинок – могу ли я предположить, что вы придерживаетесь таких же взглядов касательно мозга? – с преувеличенной вежливостью продолжал Лейбниц.
Даниель некоторое время смотрел через окно в какую-то далёкую точку. Постепенно его мысль вернулась в кофейню. Он покосился на арифметическую машину.
– В одной из глав «Микрографии» Гук описывает, как мухи вьются над мясом, бабочки – над цветком, комары – над водой, создавая видимость разумного поведения. Однако он считает, что пары́, исходящие от мяса, цветов и прочего, включают некий внутренний механизм. Другими словами, он считает, что эти твари не разумней ловушки, в которой животное, хватая приманку, тянет за нить, привязанную к мушкету. Дикарь, видя, как ловушка убивает зверя, сочтёт её разумной. Однако ловушка не разумна, разумен человек, который её придумал. Так вот, если вы, изобретательный доктор Лейбниц, создадите машину, которая будет якобы мыслить, – будет ли она мыслить на самом деле или только отражать ваш гений?
– С тем же успехом вы могли бы спросить: мыслим ли мы? Или только отражаем Божий гений?
– Предположим, я бы задал этот вопрос – что бы вы ответили, доктор?
– Я бы ответил: и то и другое.
– И то и другое? Невозможно. Должно быть либо то, либо это.
– Не согласен с вами, мистер Уотерхауз.
– Если мы всего лишь механизмы, работающие по правилам, которые положил Господь, то все наши действия предопределены и мы на самом деле не мыслим.
– Однако, мистер Уотерхауз, вас воспитали пуритане, верящие в предопределение…
– Воспитали, да… – он не договорил фразу.
– Вы больше не верите в предопределение?
– Оно не созвучно моим наблюдениям, как пристало хорошей гипотезе. – Даниель вздохнул. – Теперь я вижу, почему Ньютон избрал путь алхимии.
– Когда вы говорите «избрал», вы подразумеваете, что он отринул другой путь. Значит ли это, что ваш друг Ньютон исследовал идею механически детерминированного разума и отверг её?
– Если он исследовал её, то лишь в страшных снах.
Лейбниц поднял брови и некоторое время смотрел на чашки.
– Таков один из двух великих лабиринтов, в которые увлекается человеческая мысль: свободная воля или предопределённость. Вас учили верить в последнюю. Вы отвергли её – вероятно, в ходе мучительной душевной борьбы – и стали мыслителем. Вы приняли современную, механистическую философию. И теперь эта самая философия вроде бы ведёт вас назад к предопределённости. Тяжело.
– Однако вы утверждаете, что знаете третий путь, доктор. Расскажите о нём.
– Охотно бы, – промолвил Лейбниц, – но должен сейчас с вами расстаться и встретиться с моими спутниками. Можем ли мы продолжить беседу в другой раз?
На «Минерве», залив Кейп-Код, Массачусетс
ноябрь 1713
В бытность свою молодым членом Королевского общества Даниель не раз препарировал человеческие головы и знает: череп, точно корпус корабля, сплошь опутан мокрым такелажем – внизу галсы сухожилий и брасы связок крепятся на кофель-планках нижней челюсти и височной кости, вверху, словно парус, растянуто широкое полотнище соединительной ткани. Покуда Даниель рысцой поднимается из трюма «Минервы», таща за собою мешок с боеприпасом, он чувствует, как все эти снасти неумолимо выбираются втугую. Каждая ступенька – щёлканье палов, как будто невидимые матросы вращают кабестан в его голове. Последний час он провёл ниже ватерлинии, не в самой уютной части корабля, зато вне опасности от летящих ядер, – разбивал тарелки молотком и горланил старые песни. Никогда в жизни он так не отдыхал душой. Однако сейчас он взбирается по трапу в самой середине корпуса: как раз в такое массивное «яблочко» будут целить пираты, не уверенные в своей способности навести фальконеты на более мелкую мишень.
Посредине «Минервы», сразу за огромным стволом грот-мачты, начинается шахта, идущая до самого трюма; два винтовых трапа закручены в противоположные стороны, чтобы те, кто спускается, не мешали тем, кто поднимается; или чтобы дряхлые доктора с мешками битой посуды не путались под ногами у юнг, бегущих из трюма… с чем? Свет тусклый. Вроде бы это полотняные мешочки: тяжёлые раздутые многогранники с торчащими из углов ржавыми гвоздями. Даниель рад, что поднимается по другому трапу. Не хотелось бы напороться на такой мешок – верная смерть от столбняка.
На батарейной палубе происходит какая-то важная операция. Все орудийные порты закрыты, за исключением одного, приоткрытого на ширину ладони, в правом борту, то есть недалеко от того места, где появляется с трапа Даниель. Несколько относительно важных офицеров стоят у этого порта полукругом, как на крестинах. Сквозь доски сверху доносятся глухие удары. Это может быть обстрел; а если может быть, значит, он самый и есть. Кто-то выхватывает у Даниеля мешок и тащит к центру батарейной палубы. Матросы с пустыми мушкетонами набрасываются на него, как шакалы на кость.
Даниеля резко отодвигает локтем человек, тянущий трос, пропущенный через маленькое отверстие над орудийным портом. В итоге: (1) Даниель падает на костлявый зад; (2) указанный порт раскрывается, являя квадрат внезапного света. В нём прорисован такелаж судёнышка: так близко, что кто-нибудь помоложе мог бы на него перепрыгнуть. Человек – пират – с этого корабля направляет мушкет в сторону Даниеля, но его настигает яркий сноп старого фаянса с верхней палубы «Минервы». «Ежи бросай!» – кричит кто-то. Юнги с мешочками подбегают к орудийному порту и обрушивают лязгающий космос на палубу пиратского судна. Через минуту та же процедура повторяется у левого борта, – значит, там тоже есть пиратский корабль. Орудийные порты снова закрываются, так что никто не успевает полюбоваться красочным зрелищем: выпущенными по ним созвездиями крупных свинцовых шариков.
Соотношение вопли/крики заметно возрастает. Даниель (помогая себе встать и бочком перебираясь в безопасный уголок поближе к грот-мачте, чтобы на досуге составить список жалоб) предполагает, что вопят босоногие пираты, напарываясь на ржавые гвозди. Тут он слышит «Пожар! Горим!» и видит, как через приоткрытый порт, клубясь в солнечном луче, вползает облако дыма. Какой-то инстинкт заставляет Даниеля позабыть ушибы вместе с растяжениями – он с проворством восьмилетнего юнги преодолевает последний отрезок трапа и оказывается в кружевной тени парусов. Уж лучше мушкетные пули, чем пожар внутри корабля.
Однако горит не «Минерва», а пиратский шлюп. Вдоль половины правого борта провисают концы. Каждый из них привязан к ржавому абордажному крюку, зацепленному за фальшборт или за выбленку. Пираты рубят абордажные тросы!
Теперь моряки бросаются к левому борту, где по-прежнему остаётся пиратский вельбот. «Минерва» кренится влево. Показывается вельбот, и в тот же миг по нему выпаливают два десятка мушкетов и мушкетонов. Даниель едва успевает увидеть результат – ужасающий, – как «Минерва» снова кренится вправо и закрывает вельбот.
Матросы бросают оружие в ящики и лезут по вантам. Ван Крюйк на юте отдаёт команды в блестящий медный рупор. Внизу много матросов, которые могли бы подсобить в работе, но они не показываются. Даниель уже немного разобрался в тактике пиратской войны и понимает, что ван Крюйк хочет скрыть от Тича истинный размер команды.
Они больше часа шли с попутным северным ветром (хотя сейчас он, кажется, стал чуть западнее). Южная оконечность мыса Кейп-Код прямо впереди. Однако задолго до берега «Минерва» села бы днищем на грубый бурый песок. Поэтому она поворачивает и берёт курс круто к ветру. Простые слова – например, «поворачивает» – означают процедуру столь же сложную и разработанную в деталях, как избрание нового папы. Рослые крепыши-матросы – брасовые и шкотовые фока-рея и кливера – бегут к носу и занимают позиции на баке и на бушприте, но вежливо сторонятся, пропуская марсовых, которые взбираются по вантам, чтобы развернуть марсель и что там ещё на фок-мачте выше. Это дремучий лес флотских частностей, наблюдать за ним – всё равно что смотреть, как пятьдесят врачей режут разом пятьдесят разных животных. Полвека назад Даниель восхитился бы, увлёкся такой жизнью, стал капитаном. Однако сейчас, как шкипер, спешащий зарифить или убрать паруса, пока чересчур свежий ветер не бросил корабль на мель, он старается пропустить всё, без чего может обойтись, и понять главное: «Минерва» берёт круче к ветру. В её кильватерной струе беспомощно дрейфует шлюп, паруса полощутся, матросы пытаются мокрой парусиной сбить пламя, не наступая при этом на «ежи». В нескольких милях севернее, на выходе из залива, поджидают ещё четыре корабля.
Дрожь пробегает по снастям «Минервы»: паруса вступают в новые отношения с ветром, всё натягивается втугую, как и положено. Она идёт в самый крутой бейдевинд, курсом норд-ост. Через несколько минут судно снова рядом с пиратским шлюпом, от которого поднимается уже не столько дым, сколько пар. Пираты пытаются поднять паруса. Очевидно, фаянсовый бой и ржавые гвозди полностью их деморализовали; никто уже толком не понимает, что и когда делать. Движения шлюпа неубедительны.
Тем удивительней, что ван Крюйк без всякой надобности снова даёт команду к повороту. «Минерва» разворачивается и встаёт на дыбы, тараня шлюп в середину корпуса, потом вздрагивает, вдавливая килем в воду его обломки. Дюжие баковые матросы абордажными саблями и топорами срубают с бушприта паутину чужого такелажа. Ван Крюйк с юта наводит пистоль за борт и, распустившись внезапной лилией дыма, ускоряет тонущим пиратам дорогу в ад.
Собрание Королевского общества, Ганфлит-хаус
1673
– Вновь заявляю протест, – сказал Роберт Бойль. – Неуважительно инвентаризовать внутренности нашего основателя, словно носильные вещи, оставленные им в сундуке.
– Отклоняется, – произнёс Джон Комсток, всё ещё председатель Королевского общества, пусть и уходящий. – Впрочем, из уважения к нашему исключительно щедрому хозяину я предоставлю решение ему.
Томас Мор Англси, герцог Ганфлитский, сидел во главе вызывающе нового стола в пышном барочном стиле. Другие большие шишки, вроде Джона Комстока, расположились вокруг стола в соответствии со столь же барочными правилами этикета. Англси вытащил из кармана большие часы и поднёс их к свету, льющемуся из огромного, в пол-акра, оконного стекла, исключительно чистого, бесцветного и недавно установленного.
– Сумеем ли мы уложиться в пятьдесят секунд? – спросил он.
Общий вздох. Краем глаза Даниель видел, как несколько членов Общества торопливо прячут часы в выцветшие, затёртые до лоска кармашки. Однако граф Апнорский и – кто бы мог подумать? – Роджер Комсток (сидящий рядом с Даниелем) полезли в новёхонькие карманы и вытащили новёхонькие часы, причем исхитрились повернуть их так, чтобы все увидели не две, а три стрелки. Третья двигалась с заметной скоростью – она отсчитывала секунды!
Многие украдкой покосились на Роберта Гука, Гефеста точных механизмов. Гук сидел с безучастным видом – вероятно, ему и впрямь было всё равно. Даниель взглянул на Лейбница; тот держал на коленях ящичек и отрешённо глядел вдаль.
Роджер Комсток тоже это приметил:
– Так немцы выглядят перед тем, как разрыдаться?
Апнор, перехватив взгляд Роджера:
– Или перед тем, как выхватить палаши и врубиться в ряды турок.
– Мы должны быть благодарны за то, что он вообще с нами, – пробормотал Даниель, заворожённый секундной стрелкой на часах Роджера. – Вчера пришло известие: в Майнце скончался его покровитель.
– От смущения, надо полагать, – прошипел граф Апнорский.
Врач, явно чувствуя себя не в своей тарелке, выступил на середину комнаты. Она была большая, и герцог Ганфлитский, надо думать под влиянием архитектора, называл её Гранд-Салон. По-французски это значит всего лишь большая-пребольшая комната, однако, названная по-заграничному, она казалась чуть больше и даже чуть грандиознее.
Для врача она была чересчур велика и чересчур грандиозна даже в качестве просто большой-пребольшой комнаты.
– Пятьдесят секунд? – переспросил он.
Последовавшая неловкая сцена заняла куда больше пятидесяти секунд. Члены Общества пытались втолковать врачу, что такое секунда, а у того прочно засело в голове, что речь о вторых ступенях диатонической гаммы. Может быть, это какой-то жаргон картёжников?
– Вспомните минуту долготы, – крикнул кто-то из дальнего конца большой-пребольшой комнаты. – Как зовётся её шестидесятая часть?
– Секунда долготы, – отвечал врач.
– Тогда по аналогии одна шестидесятая часть от минуты времени…
– Секунда… времени, – проговорил врач и что-то быстро просчитал в уме. Лицо у него вытянулось.
– Одна триста шестидесятая часа, – подсказал скучающий голос с французским акцентом.
– Время вышло! – выкрикнул Бойль. – Давайте перейдём к…
– Мы даём доктору ещё пятьдесят секунд, – объявил Англси.
– Благодарю, милорд. – Врач прочистил горло. – Может быть, джентльмены, покровительствовавшие изысканиям мистера Гука и теперь располагающие его остроумным прибором, соблаговолят информировать меня о ходе времени, покуда я зачитываю результаты посмертного вскрытия епископа Честерского…
– Идёт. Вы уже потратили двадцать секунд, – сказал граф Апнорский.
– Прошу тебя, Луи, давай проявим уважение к нашему покойному основателю и присутствующему здесь доктору, – обратился к нему отец.
– Первому, полагаю, наше уважение уже ни к чему, но ради второго соглашусь.
– Тишина! – потребовал Бойль.
Врач дрогнул, но Джон Комсток пригвоздил его взглядом.
– Бо́льшая часть органов епископа Честерского нормальна для человека его возраста, – сказал врач. – В одной почке я нашёл два маленьких камня. В мочеточнике – песок.
Он сел с поспешностью пехотинца, только что заметившего белые дымки над полками неприятельских мушкетов. Комната загудела, словно была стеклянным пчельником Уилкинса, и врач разворошил её палкой. Однако пчелиная царица умерла, и пчёлы не могли сойтись во мнении, кого жалить.
– Как я и подозревал: прекращения оттока мочи не было, – объявил наконец Гук. – Только боль от почечного камня. Боль, понудившая епископа Честерского искать облегчения в опиатах.
Это было всё равно что выплеснуть стакан воды в лицо мсье Лефевру. Королевский аптекарь встал.
– Я горжусь тем, что помог епископу Честерскому умерить страдания последних месяцев, – сказал он.
Снова гул, хотя в другой тональности. Роджер Комсток встал и прочистил горло:
– Если бы мистер Пепис любезно показал нам свой камень…
Пепис с готовностью вскочил и сунул руку в карман.
Джон Комсток чугунным взглядом усадил обоих на место.
– Любезность излишняя, мистер… э… Комсток, поскольку мы все его видели.
Черёд Даниеля:
– Камень мистера Пеписа огромен, и всё же ему удавалось немного мочиться. Учитывая узость просвета мочевыводящих путей, не может ли маленький камень закупорить его так же, и даже основательней, чем большой?
Уже не гул, но общий одобрительный рокот. Даниель сел. Роджер Комсток осыпал его комплиментами.
– У меня были камни в почке, – сообщил Англси. – Готов засвидетельствовать, что это невыносимая пытка.
Джон Комсток:
– Как те, что применяет папская инквизиция?
– Не разберусь, что происходит, – шепнул Даниель соседу.
– Вам стоит разобраться, прежде чем вы что-нибудь ещё скажете, – отвечал Роджер.
– Сперва Англси и Комсток сообща марают память Уилкинса – и через мгновение вцепляются друг другу в глотку из-за религии.
– И что это означает, Даниель? – спросил Роджер.
Англси, не поведя бровью:
– Уверен, что выражу мнение всего Королевского общества, если в самых искренних выражениях поблагодарю мсье Лефевра, облегчившего епископу Честерскому муки последних месяцев.
– «Elixir Proprietalis LeFebure» пользуется большим успехом при дворе, в том числе среди юных дам, не страдающих изощрённо-мучительными заболеваниями, – сказал Джон Комсток. – Некоторые так к нему пристрастились, что завели новую моду: засыпать и не просыпаться.
Разговор принял характер теннисной партии, в которой игроки перебрасываются шипящей гранатой. Заскрипели стулья: члены Королевского общества ёрзали и тянули шеи, чтобы не пропустить зрелище.
Мсье Лефевр, не дрогнув, отбил мяч:
– С древних времён известно, что настой мака, даже в малых дозах, ослабляет здравость суждений днём и вызывает кошмары ночью. Вы не согласны?
Джон Комсток, чувствуя ловушку, промолчал. Однако Гук ответил:
– Это я могу подтвердить.
– Ваша приверженность истине, мистер Гук, пример для всех нас. Разумеется, в больших дозах лекарство убивает. Первое следствие – ослабление умственных способностей – способно привести ко второму: смерти от избыточной дозы. Вот почему «Elixir Proprietalis LeFebure» следует принимать лишь под моим наблюдением; и вот почему я самолично навещал епископа Честерского каждые несколько дней в течение тех месяцев, что разум его был ослаблен лекарством.
Комстока раздражало упрямство Лефевра. Однако (как с опозданием осознал Даниель) Комсток преследовал и другую цель – не только замарать Лефевра – и в этой цели был един с Томасом Мором Англси, своим всегдашним соперником и врагом. Они переглянулись.
Даниель встал. Роджер схватил его за рукав, но не мог схватить за язык.
– В последние недели я неоднократно навещал епископа Честерского и не видел, чтобы его умственные способности ослабели! Напротив…
– Дабы кому-нибудь не пришла в голову вздорная мысль, будто мы несправедливы к покойному, – проговорил Англси, бросая на Даниеля яростный взгляд, – ответьте, мсье Лефевр: считал ли епископ ослабление умственных способностей приемлемой платой за то, чтобы провести последние несколько месяцев с близкими?
– О, он платил её с охотой, – сказал аптекарь.
– Вероятно, потому-то в последнее время он так мало сделал на ниве натурфилософии, – произнёс Комсток.
– Да, и вот почему стоит оставить без внимания его последние…
– Просчёты?
– Поползновения?
– Опрометчивые вылазки в низменную область политики…
– Его ум ослабел… сердце оставалось, как всегда, чистым… он искал утешения в прекраснодушных жестах.
Этих отравленных панегириков Даниель не снёс – через мгновение он был уже в саду Ганфлит-хауса перед белой мраморной нимфой, которую бесконечно тошнило в прудик струёй чистой воды. Роджер Комсток вышел следом.
Всюду стояли мраморные скамьи, но Даниель не мог сидеть. Его душила ярость. Даниель не был особенно подвержен этой страсти, но сейчас понимал, почему греки считали фурий своего рода быстрокрылыми ангелами, с бичами и факелами, которые вырываются из Эреба и доводят смертных до умоисступления. Роджер, глядя, как мечется Даниель, легко бы поверил, что того хлещут невидимыми бичами, а лицо его опалено факелами.
– О, мне бы меч! – вскричал Даниель.
– А вы не думаете, что тут бы вам сразу и конец?
– Знаю, Роджер. Иные сказали бы, что есть вещи похуже смерти. Слава богу, тут не было Джеффриса, и он не видел, как я сбежал, словно вор!
Голос его сорвался, глаза наполнились слезами. Ибо это было самое страшное: в конечном итоге он ничего не сделал, только выбежал из Гранд-Салона.
– Вы умны, но не знаете, что делать, – сказал Роджер. – Со мной всё наоборот. Мы друг друга дополняем.
Даниель готов был вспылить, но потом рассудил, что дополнять Роджера Комстока – при его-то изъянах! – большая честь. Он оглядел бывшего однокашника с ног до головы, возможно обдумывая, не дать ли тому в рожу. Роджер не столько носил парик, сколько пребывал в его просторах, и сам парик был великолепен. Даже будь Даниель человеком иного склада, у него бы не поднялась рука испортить такое великолепие.
– Вы умаляете себя, Роджер. Очевидно, вы провернули что-то исключительно умное.
– О, вы приметили мой наряд! Надеюсь, вы не находите его излишне щегольским.
– Я нахожу его очень дорогим.
– Вы хотите сказать, для Золотого Комстока.
Роджер подошёл ближе. Даниель нарочно говорил неприятные слова, чтобы Роджер его оставил, но тот воспринимал их как прямоту – знак близкой дружбы.
– Во всяком случае, вы выглядите куда лучше, чем при нашей последней встрече.
Даниель говорил про случай в лаборатории, теперь уже давний – и у него, и у Роджера брови успели отрасти. С тех пор он Роджера не видел: Исаак, вернувшись и увидев следы взрыва, выставил того не только из лаборатории, но и вообще из Кембриджа. Таков был конец научной карьеры, которую и без того, вероятно, следовало пресечь из жалости. Даниель не знал, куда сбежала их Золушка, но, судя по всему, Роджер сумел неплохо устроиться.
Сейчас он явно не понимал, о чём речь.
– Не припомню… вы видели меня на улице перед отъездом в Амстердам? Тогда я впрямь выглядел довольно жалко.
Даниель проделал лейбницевский опыт: попытался взглянуть на события той ночи глазами Роджера.
Роджер работал в темноте: обычная предосторожность, чтобы порох не вспыхнул от огня. И не большая помеха, поскольку дело было самое простое: растирать порох в ступке и ссыпать в мешок. По звуку и по ощущению пестика под рукой он мог определить, что порох истёрт до какой уж там ему нужно кондиции. Соответственно, он работал вслепую, менее всего желая увидеть свет, то есть искру и неминуемый взрыв. Поглощённый опасной работой, Роджер не знал, что Даниель вернулся – да и с какой стати тому было возвращаться? Роджер не слышал рукоплесканий и далёкого гула голосов, означавших бы конец пьесы. Шагов он тоже не слышал: Даниель, полагая, что подкрадывается к крысе, старался ступать бесшумно. Плотная ширма заслоняла свечу, куда менее яркую, чем отблески печей. Внезапно пламя оказалось перед самым лицом Роджера. В других обстоятельствах он бы смекнул, что к чему, однако, стоя с мешком пороха в руках, предположил худшее – искру, поэтому отбросил мешок и ступку, а сам упал навзничь. В следующее мгновение грянул взрыв. Роджер не видел и не слышал ничего, пока не выбежал из дома. У него не было ни малейших оснований подозревать, что Даниель заходил в лабораторию. С тех пор они не виделись.
Даниель мог сказать Роджеру правду, а мог соврать, что действительно видел его перед отъездом в Амстердам. Правда представлялась безопасной, ложь могла завести в ловушку – вдруг Роджер на самом деле его испытывает?
– Я думал, вы знаете, – произнёс Даниель. – Я был в лаборатории, когда это случилось. Зашёл взять Исаакову статью о касательных. Чуть сам на воздух не взлетел.
Наконец до Роджера дошло; лицо его осветилось, как будто молнией. Однако, будь у Даниеля Гуковы часы, он бы засёк лишь несколько секунд до того, как оно приняло прежнее глуповатое выражение. Так колпачок для тушения свеч опускается на горящий фитиль; трепетный свет, наполнявший взор, гаснет, остаётся лишь знакомый скучный блеск старого серебра.
– Мне казалось, что я слышал чьи-то шаги! – воскликнул Роджер. Это была очевидная ложь; однако она облегчила дальнейший разговор.
Даниелю хотелось спросить, чего ради Роджер возился с порохом, однако он решил подождать, когда тот сам скажет.
– Итак, вы поехали в Амстердам, чтобы оправиться от пережитого волнения.
– Сначала туда.
– Затем в Лондон?
– Затем к Англси. Милейшее семейство. Общение с ними принесло свои выгоды. – Роджер потянулся было к парику, но не отважился его тронуть.
– Что?! Вы же не поступили к ним на службу?
– Нет, нет! Всё куда лучше. Я располагаю сведениями. В прошлом столетии некоторые Золотые Комстоки эмигрировали – ладно, ладно, кое-кто сказал бы сбежали в Голландию. Осели в Амстердаме. Я нанёс им визит. От них я узнал, что де Рёйтер направил свой флот в Гвинею, чтобы захватить невольничьи порты герцога Йоркского. Поэтому я продал акции Гвинейской компании, покуда они были ещё в цене. От Англси я узнал, что король Луи намерен вторгнуться в Голландию, но не может начать кампанию, пока не купит зерно, – ни за что не угадаете, у кого.
– Не может быть!
– Именно так – голландцы продали Франции зерно, необходимое Людовику для вторжения в Голландию! Так или иначе, на деньги от продажи акций Гвинейской компании я закупил в Амстердаме изрядное количество зерна до того, как король Луи взвинтил цены! Вуаля! И теперь у меня Гуковы часы, роскошный парик и участок земли на Уотерхауз-сквер!
– Вы купили… – Даниель уже собирался сказать: «Участок нашей семейной земли», когда увидел, что через клумбу идёт Лейбниц, прижимая к груди мозг-в-ящике.
– Господин Лейбниц… Королевское общество потрясено вашей арифметической машиной! – воскликнул Роджер.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































