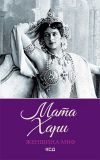Текст книги "Железная женщина"

Автор книги: Нина Берберова
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Потом, всё ожидая сигнала, оба заговорили о пустяках, о таких вещах, будничных и неинтересных, о которых, кажется, никогда раньше не говорили друг с другом. Она стояла рядом с ним, он все вспоминал, как они третьего дня поспорили из-за пустяков и она сердито сказала, что он «немного хитрый, но недостаточно хитер, что он немного сильный, но недостаточно силен, и что он немного слабый, но недостаточно слаб». А он рассердился в ответ на это. Она говорила это, потому что он сделал ей больно, и в этом, он понимал, была правда.
Он, наконец, заметил, что Мура едва держится на ногах. Поезд все стоял. Локкарт пошел вдоль вагонов, нашел Уордвелла и попросил отвезти Муру домой. Она не возражала. Уордвелл взял ее под руку, и они пошли по шпалам обратно. Локкарт смотрел ей вслед, пока она не исчезла в черноте вокзальной ночи. И тогда он поднялся в свое тускло освещенное купе и остался один со своими мыслями. Поезд отошел только в два часа ночи.
Борьба
О, сердце тигра, скрытое в шкуре женщины!
«Король Генрих VI». Часть 3. I, 4, 137.
Куда было ей теперь идти? Где был теперь ее дом? Был ли у нее выбор, или выбора не было? Начальник американского Красного креста Уордвелл был лицом если не официальным, то по существу несомненно политическим, как и его предшественник Робинс; он, сначала живший в здании американского консульства, вот уже около месяца как поселился со всеми своими пищевыми запасами во флигеле во дворе норвежской миссии. Сами норвежцы переехали в это здание, с просторным двором, садом и флигелем, – еще весной здание принадлежало американцам. Здесь вначале было консульство, но когда дипломатические отношения между США и Россией были прерваны, и посол Фрэнсис со всем штатом посольства и консульства в Москве выехал в Вологду, норвежцы сняли этот дом, и Уордвелл жил в хорошо ему знакомом помещении, но как бы в гостях. Можно сказать с уверенностью, что Уордвелл в ту ночь не посмел привести Муру к себе. Он был широким и гостеприимным человеком и своим сгущенным молоком, какао, бобами в банках и прочим добром щедро делился со всеми вокруг, арестованными и оставленными на свободе, как союзными, так и нейтральными представителями государств больших и малых. Но он должен был соблюдать осторожность, потому что видел в эти месяцы, что большевистское правительство не делает слишком глубоких различий между своим отношением к Англии и Франции, с одной стороны, и к США – с другой. Президент Вильсон по-прежнему требовал полного невмешательства во внутренние дела России и твердо стоял против интервенции. Пуанкаре и Ллойд Джордж были, разумеется, противоположного мнения. Уордвелл научился необходимости соблюдать некоторое расстояние между своим Красным крестом и Гренаром, Хиксом и Лавернем – этот последний, укрываясь от ареста в первые дни сентября в американском консульстве, доставил ему неприятные минуты. Личные отношения не влияли на его поведение в деловой сфере, но он по приказанию из Вашингтона соблюдал строгий нейтралитет во всем, что касалось политики, продиктованной Белым домом в отношении Москвы. О том, чтобы вести Муру к себе, в здание норвежской легации, не могло в таком случае быть и речи. Вести ее сейчас к кому-нибудь из общих «нейтральных» друзей он тоже не мог: близкие личные отношения с ней за последний месяц у многих сильно испортились, и сейчас контакт с Мурой шведов и датчан мог только усложнить их жизнь, уже и без того нелегкую. Вести ее к англичанам или французам, не связанным с дипломатией (если такие еще были), было тоже невозможно: все эти люди были под угрозой ареста, если еще не были арестованы или высланы. Срочным порядком, вместе со своими семьями, все они теперь выезжали из Москвы на родину.
Оставались русские знакомые. Но кто были они? В дореволюционные годы ни Мура, ни ее семья, ни Бенкендорфы с Москвой не имели ничего общего. Конечно, можно предположить, что еще в тюремной камере (т. е. в Кавалерском флигеле) при свиданиях с Локкартом они вместе нашли ответ на вопрос, куда ей деваться, нашли кого-то, кто мог бы приютить ее, кто не был бы связан ни с дипломатическим корпусом, ни с прошлым Муры, не знал о ней ничего и открыл бы ей свои двери. В советских газетах, среди дюжины имен от Локкарта до Каламатиано и от Фриде до Вертемона, никогда, ни теперь, ни позже, не было упомянуто ее имя. У прислуги Локкарта была сестра, жившая где-то за Таганкой, была Мария Николаевна, старая цыганка, которая пела в цыганском хоре и однажды гадала им обоим в Сокольниках. Или, может быть, можно было найти случайно встреченную этим летом институтскую подругу, жившую продажей остатков дворянской роскоши, продавая ее на Смоленском рынке в «дворянском ряду»? Деньги у Муры были: из тех, которыми были набиты ящики письменного стола Локкарта и которые были украдены стражей, кое-что потом было Петерсом возвращено. Но оставить ей много он не мог, он боялся, что, если у нее найдут крупную сумму, ее заподозрят в связях с контрреволюцией, а от обыска теперь никто не был гарантирован, и меньше всех она. Он оставил ей немного, и на эти деньги она, вероятно, могла прожить несколько недель. Но где?
В ту ночь, больная и разбитая, она в конце концов оказалась в Хлебном переулке. Ключ у нее был. Она никогда не говорила о следующих днях, об этих московских неделях. Одно она тогда знала: за ней не следят, филеров не было. Но этого было недостаточно, чтобы чувствовать себя – не то что счастливой, об этом речи быть не могло, – но хотя бы спокойной. Больная сравнительно легкой формой испанки, в полном одиночестве, в сущности в чужой ей Москве, она понимала, что необходимо что-то сделать, собрать свои силы и шагнуть куда-то из этого отчаяния, которое теперь было в тысячу раз страшнее, чем то, в котором она была меньше года тому назад, когда узнала об убийстве Бенкендорфа от незнакомого ей человека на одном из перекрестков Петрограда. Тогда был близкий ей город, были иностранные посольства, были лавки, где можно было купить хлеба, были человеческие лица вокруг. Сейчас был «красный террор», Лубянка, разлука с любимым человеком, ее первая любовь – другой до того не было, другой она никогда еще не знала, – первая и навсегда оборванная любовь.
Она рассчитала деньги правильно, и когда они кончились, она продала свои девичьи бриллиантовые сережки, последнее, что у нее было, на том же Смоленском рынке, и хотя половину денег у нее немедленно украли, их хватило, чтобы купить билет до Петрограда. Это был верный шаг: она принадлежала Петрограду, в Москве ей нечего было делать. Она часть ночи простояла в коридоре вагона третьего класса и часть ночи просидела на площадке вагона на своем чемодане. На подножках всю ночь висели люди.
Декабрь был холодный и снежный. Ничего не известно о ее последних днях в Москве. Простилась ли она с кем-нибудь? Было ли с кем проститься? Нашла ли она кого-нибудь из тех, кто всю осень просидел в тюрьме по «заговору Локкарта» и теперь, в декабре, был свободен? Были ли такие? Искала ли она их? Простилась ли с Петерсом? Или он и без нее знал, куда и когда она едет?
Она выехала после Рождества. Ноябрь и декабрь были месяцами огромных событий, общих и личных: 11 ноября было заключено перемирие союзников с Германией; Европа, США и Япония выходили из войны победителями. С 28 ноября по 3 декабря Революционный трибунал при ВЦИКе рассматривал «дело Локкарта». На скамье подсудимых отсутствовали главные действующие лица: Локкарт, Вертемон, Лавернь, Гренар и Рейли. Все они были приговорены трибуналом к расстрелу и объявлены вне закона. К расстрелу же были приговорены присутствовавшие на суде А. В. Фриде, офицер царской службы, и К. Д. Каламатиано, работавший в американской контрразведке. Оба были казнены немедленно. На пять лет принудительных работ были приговорены восемь человек, а один, некто Пшеничко, – к тюремному заключению на срок «до прекращения чехословацких военных действий против Советской России». Все это Мура прочитала на углу Поварской и Никитского бульвара, где теперь начали расклеивать стенгазеты, и на перекрестке обычно стояли небольшие кучки людей и молча, всегда молча, с каменными лицами читали о том, кого и за что вывели в расход, кому завтра идти чистить улицы от снега со своими лопатами (казенных не выдавали), кому получать селедки, кому пшено, а кому – овес с соломой. У нее продовольственных карточек не было: она жила без прописки.
Наступал 1919 год, гражданская война на юге была в разгаре. На востоке шла борьба с большевиками между чехами и эсерами, с одной стороны, и казачьими атаманами, поддерживаемыми Японией, – с другой. На западе начинался поход генерала Юденича, который шел так успешно, что падение Петрограда казалось неминуемым. Но в Петрограде, в противоположность Москве, у Муры была над головой крыша – у бывшего генерала-лейтенанта А. А. Мосолова, впоследствии автора книги воспоминаний «При дворе императора». Он был до революции начальником канцелярии министерства Двора и Уделов. Она его знала по военному госпиталю, где она работала в 1914–1916 годах. Госпиталь был имени одной из великих княжен, Мосолов был там одним из администраторов, хотя главным образом его назначили туда за представительную фигуру, благородное лицо и врожденную светскость манер, которые особенно нравились высокопоставленным дамам. Эти дамы, частично «распутники», еще в 1914 году надели на себя косынки, нашили на грудь красные кресты и больше мешали, чем помогали в лазарете раненым. Теперь большинство из них сидело в Петропавловской крепости или на Шпалерной, пройдя через ВЧК на Гороховой улице.
Здесь, в этом умирающем городе, пришла Муре впервые мысль о работе, о заработке. Она раньше никогда не думала, что может что-то делать полезное, чтобы прожить. Это показалось ей почти смешным, но постепенно смехотворная сторона этой мысли как-то померкла, она стала серьезной, даже навязчивой и под конец неотступной. Работать? Но как и где?
Мосолов жил в огромной, уплотненной чужими людьми довоенной квартире с высокими потолками, с видом на Неву. Только опять не могло быть ни карточек, ни прописки. Она поселилась в комнате за кухней, где когда-то жила прислуга. На третий день на Троицком мосту ее арестовали: в ее карманах нашли две продовольственные карточки, на которые она обменяла соболью муфту. Карточки оказались фальшивыми.
Она просидела на Гороховой около месяца. Только через неделю после ареста она решилась сказать, чтобы позвонили в Москву, Петерсу. На нее посмотрели недоверчиво и спросили, не хочет ли она поговорить с самим Лениным в Кремле? Она смолчала и стала ждать. Прошли две недели, и ничего не случилось. Она все сидела в подвале, в общей камере. Здесь не было политических, одни уголовные – за мелкие кражи, за проституцию и по черному рынку. Контингент менялся в несколько дней, она одна была забыта. Наконец она была вызвана на допрос. Она опять сказала, чтобы позвонили на Лубянку. На этот раз не было саркастических ответов, было удивление. Через четыре дня ее освободили.
1919-й, страшный год. Симметрия двух девяток для многих на всю жизнь осталась зловещим знаком голодной смерти, сыпного тифа, испанки, лютого холода в разрушающихся и разрушаемых (топили паркетами) домах и самодержавного царствования ВЧК. Мертвые лошади лежали, подняв в воздух растопыренные, закаменевшие от двадцатиградусного мороза ноги, наполовину занесенные снегом. В нежилых домах не было ни оконных рам, ни дверей, ни паркетов – все было сорвано на топку. Петроград в снегу, сугробах и вьюгах, черных ночах был неузнаваем. Люди сначала бежали из него, куда могли, потом бежать стало некуда, с трех сторон был фронт гражданской войны. Не было ни хлеба, ни сала, ни мыла, ни бумаги. От лопнувших труб в коридорах и кухнях квартир бывал каток – до начала апреля месяца. В мае тихо и спокойно, как на лесной поляне, начала расти трава на улицах – там, где мостовые были мощены булыжником, а дыры от выломанных торцов на Невском засыпали щебнем те, кто питался по пятой категории, т. е. не имели постоянной работы. Их гнали на очистку улиц и починку мостовых, они едва стояли на ногах и не всегда могли поднять лопату. По площади Зимнего дворца, в Эрмитаж и из Эрмитажа, ходил Александр Николаевич Бенуа, закутанный в бабий платок, а профессор Шилейко стучал деревянными подошвами, подвязанными тряпками к опухшим ногам в дырявых носках. И в квартире Горького, на Кронверкском проспекте, где в ту зиму жили не менее семи-восьми человек (не считая гостей и случайно заночевавших приезжих), весь день толпились ученые, писатели, актеры, художники и даже цирковые клоуны с просьбами подписать бумажку на выдачу калош, аспирина, билета в Москву, очков и свидетельства о благонадежности.
Зоологический сад был рядом. Львы и тигры давно умерли от голода, верблюдов и оленей съели, и там теперь было пусто. Только И. П. Павлову, открывшему недавно собачий рефлекс, удавалось кормить своих собак (по особому распоряжению Ленина), да доктору Воронову – обезьян, пока он наконец не уехал в Швейцарию. И тогда обезьяны сдохли в два дня. Бумажки Горьким подписывались, но ходу обычно не имели, так как наверху, в Петроградском Совете, сидел наместник Северной области, имевший неограниченную власть над Северной Россией, Григорий Евсеевич Зиновьев, председатель Северных Коммун, председатель Совета комиссаров Северной области, председатель Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов, правая рука Ленина в бывшей столице после переезда правительства в Москву. По его настоянию Ленин отдал в июле 1918 года приказ о закрытии газеты Горького, и 16-го числа «Новая жизнь» прекратила свое существование.
Это было тяжелым ударом для Горького. Не будет преувеличением сказать, что он лет пять не мог оправиться от него. Незадолго до того, как газета была закрыта, весной 1918 года, ему в печати был задан вопрос: откуда он получил деньги для этого издания? Газета была начата им еще до Октябрьской революции, 1 мая 1917 года. Видимо, у Зиновьева, приехавшего вместе с Лениным из Швейцарии в апреле, были подозрения, не получил ли Горький субсидию из-за границы от человека, помогшего самому Зиновьеву, Ленину и другим большевикам приехать в Россию. Горький воспринял этот вопрос как пощечину и ответил, что деньги ему дал банкир Э. К. Груббе, уехавший за границу, давний его знакомый и либерал (Груббе был одним из двух владельцев банкирской конторы «Груббе и Небо», вывеска их все еще висела на Невском). После Февральской революции по его инициативе было создано «Свободное общество для развития и распространения точных наук». Горький писал, что Груббе дал ему 270 тысяч рублей на газету и он сам, Горький, добавил к ним свои личные деньги – гонорар, полученный им от издателя А. Ф. Маркса, который, как приложение к своему журналу «Нива», издал его полное собрание сочинений.
На самом деле все это было несколько иначе, и версия Горького не совпадает с версией одного из его кредиторов. Э. К. Груббе был не один: дело началось в феврале 1916 года, когда Горький решил начать издавать либерально-радикальную газету. Денег у него было недостаточно. Он искал их и нашел: известный издатель И. Д. Сытин, Б. А. Гордон, редактор-издатель «Приазовского края», ежедневной газеты в Ростове-на-Дону, и Груббе тогда же дали ему по 150 тысяч рублей. Но из газеты ничего не вышло, и Горький, сохранив эти деньги, в апреле следующего года начал издание «Новой жизни». Когда Гордон познакомился с первыми номерами газеты Горького (в мае 1917 года), он счел ее слишком «коммунистической» и потребовал свои деньги обратно. Третейский суд, призванный решить это дело, присудил Горькому отдать деньги Гордону. Ни Сытин, ни Груббе своих денег обратно не требовали. 8 августа 1917 года Горький послал Гордону записку, в которой благодарит его за 150 тысяч рублей, полученных в свое время на газету, и возвращает их сполна. Вот ее текст:
Однако Гордон, получив записку, никаких денег в конверте не нашел. 8 мая 1949 года, по просьбе М. А. Алданова и Б. И. Николаевского, будучи в эмиграции, Гордон передал им вместе с запиской Горького также написанное им, Гордоном, от руки подробное объяснение того, что произошло. Трудно предположить, чтобы Горький написал свою благодарственную записку, не приложив к ней денег, присужденных Гордону судом. Возможно, что тот, кому было поручено передать конверт, вынул из него деньги, возможно, что Горький забыл их в конверт вложить. Но Гордон настаивал на том, что он никогда не получал от Горького ему принадлежавших денег и что в конверте их не было.
Советская печать, однако, продолжала резко упрекать Горького, что он продался банкирам, на что он возражал, что Ленин в свое время брал у Саввы Морозова деньги на «Искру», но это Горькому не помогло. Он сам и его ближайшие сотрудники по «Новой жизни», Тихонов, Десницкий и Суханов, социал-демократ интернационалист и историк русской революции, до последнего дня не могли поверить, что газете грозят репрессии.
«Новая жизнь» была против выступления большевиков 25 октября (7 ноября), считая, что для этого еще не наступил момент. Когда произошла Октябрьская революция, Горький начал не без страха и возмущения смотреть на то, что делалось кругом. 23 ноября он писал: «Слепые фанатики и бесчестные авантюристы, заговорщики и анархисты типа Нечаева вершат делами страны». Советская печать в долгу не оставалась, и Горького уже в декабре называли «хныкающим обывателем». Брань не прекращалась. Закрытие других газет и начало «красного террора» вызвали в Горьком ярость. Он писал:
В эти дни безумия, ужаса, победы глупости и вульгарности…[27]27
Это относилось, разумеется, не только к властям, но и к народу: еще в 1913 г. у Горького иногда вырывались такие признания, как, например, в письме к А. Н. Тихонову: «Изготовлением ежовых рукавиц в России занимаются не только Кассо [тогдашний министр народного просвещения] и Щегловитов [министр юстиции, спровоцировавший дело Бейлиса, и председатель Государственного совета], но почти все население страны» [9 июня 1913 г.].
[Закрыть]
Зиновьев в эти месяцы состоял в редакционной коллегии «Петроградской правды» и фактически был ее полновластным хозяином. С московской «Правдой» у него был самый тесный контакт, и нападки на «Новую жизнь» были явно координированы. «Правда» писала, что газета Горького «продалась империалистам, фабрикантам, помещикам, банкирам» и редакторы ее «были на содержании» у этих банкиров. Статья эта была напечатана на первой странице газеты анонимно, можно предположить, что Зиновьев написал ее сам или она была им заказана.
Уехать на лоно природы и отдохнуть, как ему советовали его высокопоставленные друзья, Горький и не мог, и не хотел. Искать дела не надо было, оно подвернулось само. Он был охвачен ужасом перед наступающей зимой (1918–1919), ежедневными смертями и немыслимыми лишениями, которых они были следствием и которые грозили смести с лица русской земли не только мировых ученых среднего и старшего возраста, членов академического мира Петербурга, но просто всех вообще интеллигентов, кто не принадлежал классу потомственных пролетариев или чудом не закрепился на советской службе конторщиком или кладовщиком.
У Горького еще с молодости была одна идея, которая родилась в начале века и позже, в последние годы его жизни, приняла маниакальную силу. Эта идея – популяризация культуры, энциклопедического издания достижений всех времен и народов во всех областях науки и искусства, не энциклопедии типа старого русского словаря Брокгауза, или Британики, или большого Ларусса, но энциклопедического объема издания серии книг, которая стала бы обязательным чтением (а не только справочником) для масс. В этот план должны были войти в алфавитном порядке великие произведения прошлого (и, может быть, настоящего), которые «помогли бы мировому пролетариату освободиться от цепей мирового капитализма, а интеллигенции правильно понять всю мировую культуру» от Гомера до наших дней. Если в оригиналах они были написаны сложно и мало понятно для рабочего читателя, их следовало упростить и переписать опытным переводчикам или специально подготовленным для этого кадрам редакторов. Сам Горький еще в феврале-марте 1908 года собирался переписать заново «Фауста» Гёте, о чем Мария Федоровна Андреева, в то время его жена, писала их другу Н. Е. Буренину, что «это будет нечто изумительное».
Переводы, разъяснения к ним или переделка классического произведения и целевая направленность такого издания могли бы облегчить приход мировой революции, по мнению Горького, только бы было все вредное отметено раз и навсегда, и не только оно, но и все ненужное, которое больше не будет переиздаваться и постепенно принуждено будет сгнить в подвалах библиотек и частных книгохранилищах. В миллионных тиражах, распространяя великое, зовущее в бой, поднимающее дух, разрушающее религиозные суеверия и всякую мрачную декадентщину, эта гигантская серия книг на всех языках мира должна будет воспитать юношество, открыть глаза рабочим и крестьянам на величие таких имен, как Ньютон и Павлов, Гиппократ и Яблочков, Шекспир и Салтыков-Щедрин, Сеченов и Джек Лондон, и тысячи других. Напоминая об этих гениях прошлого, необходимо заставить других великих гениев настоящего писать популярные биографии и популярные, понятные каждому, комментарии к новым, свежим и прекрасным переводам. Будет отстранено все бесполезное и оставлено только прогрессивное, оптимистическое и всем понятное. Но пока этого сделать нельзя (Горький, как мы увидим, через четырнадцать лет пришел к заключению, что время для осуществления его мирового плана настало), пока этот мировой план не готов (в него должны будут включиться минимум 10 тысяч идеальных переводчиков), можно было бы начать с более скромного проекта: во-первых, издания переводов литературы Запада и Востока в их прогрессивных образцах и, во-вторых, популярные научные издания о достижениях величайших умов человечества. Еще в 1909 году он писал своему другу и издателю И. П. Ладыжникову (близкому человеку, посвященному во все тайны личных и денежных дел Горького) в письме с Капри, советуя Ладыжникову переговорить с известным дирижером С. Кусевицким, только что женившимся на богатой москвичке, о возможном денежном участии его в замышляемом издании «энциклопедии» – так называл Горький серию научно-популярных книг, проектируемых в эти годы: «Ставьте ему на вид, что наша Энциклопедия будет иметь характер строго научный и широко демократический».
На основании идеи, созревавшей в его уме более пятнадцати лет, Горький решил в сентябре 1918 года организовать издательство «Всемирная литература», подчиненное Наркомпросу, которое ставило бы себе целью осуществить первую часть его старого проекта: массовое издание новых переводов (и частичное переиздание старых) произведений Европы и Америки, главным образом XIX века. Наряду с целью образовать необразованного читателя была и другая цель, которая казалась Горькому столь же важной, если не важнее: дать ученым и писателям, включившимся в его проект, возможность получить продовольственные карточки высших категорий и не умереть с голоду. По плану Горького им должны были выдавать за их труды не только селедку и муку, но и калоши.
В конце 1918 года издательство «Всемирная литература» открылось. Договорное письмо об организации издательства было подписано между Горьким, А. Н. Тихоновым, З. И. Гржебиным и И. П. Ладыжниковым. Все трое были его ближайшие друзья: Тихонов был издателем его журнала «Летопись» (1915–1917), Гржебин был в 1905 году редактором-издателем (и иллюстратором) революционно-сатирических журналов, издателем литературного альманаха «Шиповник» и владельцем «Издательства З. И. Гржебина», издававшего главным образом сочинения Горького; позже в Берлине Горький стал крестным отцом его сына (Алексея Зиновьевича). Иван Павлович Ладыжников был техническим редактором и организатором издательства и сборников «Знание», «Летописи» и издательства «Парус» (1917).
В начале 1919 года выпущен был первый каталог «Всемирной литературы». Заведующим издательством стал А. Н. Тихонов, позже оставивший воспоминания о Горьком. План художественных переводов сейчас же раздвоился: одна часть изданий оказалась «основной», другая – «народной». В основной план были включены не только переводы восточных литератур, но и переводы литературы Средних веков. Много было роздано и подписано контрактов и, благодаря энергии Горького, выдано пайков. Он хотел стать «директором культуры» и стал им, и к зиме сотрудникам были выданы даже дрова.
Три первых тома вышли в июле 1919 года, но уже в феврале Горький начал жаловаться, что издательство «запаздывает», потому что нет ни бумаги, ни типографской краски, ни подходящей типографии, а в июне он грозил все бросить, несмотря на то что «все наличные литературные силы [т. е. переводчики] были привлечены, и несколько сот книг находилось в работе». Это было первым моментом его, еще неопределенного, решения уехать на время за границу. Как раз в это время Ленин начал уверять его, что ему надо «подлечиться и проехаться в Европу». Дела «Всемирной литературы», однако, к 1920 году начали медленно поправляться. Всего за три года с лишним существования ее вышло около двухсот названий. Если принять во внимание трудность в добывании бумаги, чернил, клея и ниток для брошюровки, то эта цифра не должна казаться ничтожной.
Как Мура прожила несколько холодных и голодных месяцев начала 1919 года в квартире Мосолова, никогда не было ею рассказано. В этот год на юге России умерла ее мать. Сестры тоже были на юге, а возможно, что уже и во Франции: семья Кочубей жила позже в эмиграции, в Париже, как и Алла Мулэн, которая в начале 1920-х годов разошлась со своим мужем французом, а через несколько лет покончила с собой. О Мосолове Мура однажды сказала, что он был и красив, и умен, и имел «золотое сердце». Его воспоминания были позже изданы в Риге, а в 1935 году – переведены на английский язык и вышли в Лондоне под редакцией старого русского журналиста А. Пиленко. По этим воспоминаниям бывшего чиновника министерства Двора, где министром был, как известно, несменяемый престарелый член Государственного совета, впавший в детство еще в 1914 году, граф В. Д. Фредерикс, видно, как Мосолов преклонялся перед «благородством и добротой, кротостью и прозорливостью» последнего царя и как обожал всю его семью. Нетрудно представить по ним самого автора, которому в 1919 году было шестьдесят пять лет. Во всяком случае, он не побоялся взять Муру к себе в дом, впрочем, вероятно, и не подозревая о ее московском прошлом. Однажды (это случилось как-то вдруг) Мура отправилась во «Всемирную литературу», потому что кто-то ей сказал о К. И. Чуковском. Корней Иванович, работавший как вол, но тем не менее голодавший в эти годы в Петрограде, с женой Марьей Борисовной и тремя детьми, из которых старшему, Николаю, было четырнадцать лет, а второй, Лиде, одиннадцать, был известен Муре не столько как переводчик с английского, сколько как один из устроителей вечеров в Англо-русском обществе, процветавшем во время войны. Когда Мура и муж ее приехали из Берлина в столицу, она часто бывала там и на вечерах встречалась с ним. Что именно он переводил, она не знала; о том, что он был критик, что у него были книги, она тоже не слыхала. Но она помнила его хорошо, его огромную неуклюжую фигуру, руки до колен, черные космы волос, падавшие на лицо, и огромный сиранообразный нос. Ей кто-то сказал, что он ищет переводчиков с английского на русский, для нового издательства, организованного Горьким, для переводов романов Голсуорси и сказок Уайльда. Она решила пойти к нему и попросить работы.
Она никогда не переводила на русский язык, она позже переводила на английский (с русского и французского), но русский язык ее был недостаточен: она не только не знала его идиоматически, но она как будто бы даже щеголяла этим своим незнанием (и чуть манерным произношением некоторых русских слов, так впоследствии поразившим Ольгу Ивинскую: когда Мура в 1960 году приехала в Переделкино, Ивинская приняла ее за иностранку). «Я называю лопату – лопатой, – говорила Мура. – Эта интересная фильма [когда-то и фильм, и макет были женского рода, позже Академия наук произвела над ними операцию перемены пола] – эта фильма бежит уже третий месяц в этом театре». И все кругом смеялись и говорили, что жизнь подражает литературе и Мура – Бетси Тверской.
Чуковский обошелся с Мурой ласково. Он не дал ей переводов, но дал кое-какую конторскую работу. В это время она была очень худа, глаза ее увеличились, скулы обтянулись, зубы она не лечила: не было денег, нечем было их чистить, и не было зубных врачей, потому что не было ни инструментов, ни лекарств. Она проработала у Чуковского несколько недель, он достал ей продовольственную карточку третьей категории, и она прописалась под своей девичьей фамилией, получив личное удостоверение, заменявшее в эти годы паспорт. Настало лето, и Чуковский повел ее к Горькому.
Они пришли вечером, к чаю. На столе стоял самовар. Чай был жидкий, но не морковный, настоящий. Комната была – с буфетом и обеденным столом – большая столовая. В остальных комнатах – в каждой – кто-нибудь жил. Этих комнат было много, и людей было много, особенно потому, что неизвестно было – кто живет здесь постоянно, а кто только временно, кто только ночует, а кто сидит целый день не сходя с места, а ночью исчезает. И кто вот-вот уедет в Москву, и кто только сегодня утром оттуда вернулся.
Квартира на Кронверкском проспекте (теперь – проспект Горького) в доме 23 находилась сначала, когда ее сняла М. Ф. Андреева, на пятом этаже (№ 10), но позже она стала мала, и все семейство переехало ниже, в квартиру 5. Это были, в сущности, две квартиры, теперь слитые в одну.
В разное время различные женщины садились в доме Горького к обеденному столу на хозяйское место. С Марией Федоровной разрыв начался еще в 1912 году, но не сразу, и они продолжали не только видеться, но и жить под одной крышей. Теперь Андреева жила на Кронверкском в большой гостиной, но часто на время уезжала, и тогда в доме появлялась Варвара Васильевна Тихонова, по первому мужу Шайкевич, вторым браком за уже упомянутым А. Н. Тихоновым. От Шайкевича у Варвары Васильевны был сын, Андрюша, лет пятнадцати, который жил тут же, от Тихонова – дочь Ниночка, позже во Франции известная балерина, ученица О. О. Преображенской, одного выпуска с Тумановой, Бароновой и Рябушинской. Разительное сходство Ниночки с Горьким ставило в тупик тех, которые не знали о близости Варвары Васильевны к Горькому – если были такие. Нина родилась около 1914 года, и то, что в лице Горького было грубовато и простонародно, то в ней, благодаря удивительному изяществу и прелести ее матери, преобразилось в миловидность вздернутого носика, светлых кос и тоненького, гибкого тела. Не могу сказать, жил ли сам Тихонов в квартире на Кронверкском в это время, думаю, что нет. Там в 1919–1921 годах жила молодая девушка, Маруся Гейнце, по прозвищу Молекула, дочь нижегородского приятеля Горького, аптекаря Гейнце, убитого в 1905 году черной сотней, и теперь удочеренная Горьким, который любил усыновлять сирот. Он усыновил в свое время, как известно, брата Я. М. Свердлова, Зиновия, который даже носил его фамилию (Пешков), и если бы не его первая жена, Екатерина Павловна Пешкова, и не Мария Федоровна Андреева, то, вероятно, усыновил бы и многих других.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?