Текст книги "Лермонтов. Тоска небывалой весны"
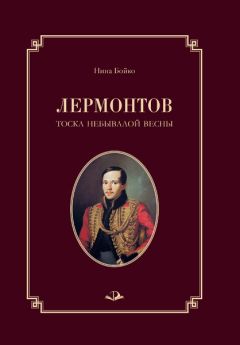
Автор книги: Нина Бойко
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
«Лермонтов любил посещать каждый вторник тогдашнее великолепное Московское Благородное собрание, блестящие балы которого были очаровательны. Он всегда был изысканно одет, а при встрече с нами делал вид, будто нас не замечает. Не похоже было, что мы с ним были в одном университете, на одном факультете и на одном и том же курсе. Он постоянно окружен был хорошенькими молодыми дамами высшего общества и довольно фамильярно разговаривал и прохаживался по залам с почтенными и влиятельными лицами. Танцующим мы его никогда не видали» (П. Ф. Висшенгодё).
Почтенные и влиятельные лица были близкими родственниками Лермонтова, которых он навещал вместе с бабушкой, как и они навещали Арсеньеву. Хорошенькие дамы – тоже родня и подруги родни. Остальных дам он не интересовал ни своей внешностью, ни возрастом. А в Павле Вистенгофе и его друзьях Миша не видел ничего для себя интересного, хотя ошибался: Павел Федорович Вистенгоф стал серьезным писателем с широким интеллектуальным кругозором; именно ему Лермонтов обязан яркими университетскими воспоминаниями о нем.
«Администрация тогдашнего университета имела некоторую свою особенность, – писал Вистенгоф, – Попечитель округа, действительный тайный советник князь Сергей Михайлович Голицын, богач, аристократ в полном смысле слова, был человек высокообразованный, гуманный, доброго сердца, характера мягкого. По высокому своему положению и громадным материальным средствам он имел возможность делать много добра как для всего ученого персонала вообще, так и для студентов, казеннокоштных в особенности. Имя его всеми студентами произносилось с благоговением и каким-то особенным, исключительным уважением. Занимая и другие важные должности в государстве, он не знал, как бы это следовало, да и не имел времени усвоить себе своей прямой обязанности, как попечителя округа, в отношении всего того, что происходило в ученой иерархии; поэтому он почти всецело передал власть свою двум помощникам – графу Панину и Голохвастову.
Эти люди были совершенно противоположных князю качеств. Как один, так и другой, необузданные деспоты, видели в каждом студенте как бы своего личного врага, считая нас всех опасною толпою как для них самих, так и для целого общества. Они всё добивались что-то сломить, искоренить, дать всем внушительную острастку. Голохвастов был язвительного, надменного характера. Он злорадствовал всякому случайному, незначительному студенческому промаху и, раздув его до максимума, находил для себя особого рода наслаждение наложить на него свою кару. Граф Панин никогда не говорил со студентами, как с людьми более или менее образованными, что-нибудь понимающими. Он смотрел на них, как на каких-то мальчишек, которых надобно держать непременно в ежовых рукавицах, повелительно кричал густым басом, командовал, грозил, стращал. И обеим этим личностям была дана полная власть над университетом. Затем следовали: инспектора, субинспектора и целый легион университетских солдат и сторожей в синих сюртуках казенного сукна с малиновыми воротниками (университетская полиция).
Городская полиция над студентами не имела власти. Провинившийся студент отсылался полицией к инспектору или в университетское правление. Смотря по роду его проступка, он судился или инспектором, или правлением университета. Студенческий карцер заменял тогда нынешнюю полицейскую кутузку, и эта кара для студентов была гораздо целесообразнее и достойнее.
Как-то однажды нам дали знать, что граф Панин неистовствует в правлении университета. Из любопытства мы бросились туда. Даже Лермонтов молча потянулся за нами. Мы застали следующую сцену: два казеннокоштные студента сидят один против Другого на табуретках и два университетских солдата совершают над ними обряд бритья и стрижки. Граф, атлетического роста, приняв повелительную позу, грозно кричал:
– Вот так! Стриги еще короче! Под гребешок! Слышишь! А ты! – обращался он к другому. – Чище брей! Не жалей мыла, мыль его хорошенько!
Потом, обратившись к сидящим жертвам, гневно сказал:
– Если вы у меня в другой раз осмелитесь только подумать отпускать себе бороды, усы и длинные волосы, то я вас прикажу стричь и брить на барабане, в карцер сажать и затем в солдаты отдавать! Вы ведь не дьячки! Передайте это там всем. Ну! Ступайте теперь!
Увидав в эту минуту нашу толпу, он закричал:
– Вам что тут нужно? Вам тут нечего торчать! Зачем вы пожаловали сюда? Идите на свое место!
Мы опрометью, толкая друг друга, выбежали из правления, проклиная Панина.
Иногда эти ненавистные нам личности, Панин и Голохвастов, являлись в аудиторию для осмотра: все ли в порядке? Об этом давалось знать всегда заранее. Тогда начиналась беготня по коридорам: субинспектора, университетские солдаты суетились, а в аудиториях водворялась тишина».
Кроме этих, бесивших студентов лиц, бесил их профессор Малов, читавший историю римского законодательства. 16 марта они подняли бунт против него, и Лермонтов в бунте участвовал. Начальство замяло дело, иначе бы многих отдали в солдаты.
«Профессор Малов был олицетворенная глупость и ничтожество; но как он был всегда деликатен с нами даже до унижения, то мы терпеливо переносили его глупость. В это время он из экстраординарных профессоров был сделан ординарным; Малов возгордился новым своим званием, и из кроткого и деликатного вдруг сделался строгим и грубым. В случае шума на его лекциях, он не только уже не просил нас униженно, как прежде, перестать шуметь, но стал грозить нам и требовать повелительно от нас тишины. Сначала это нас сильно озадачило: мы не могли понять причины такой перемены, но не обращали на его важничанье никакого внимания и нисколько не боялись его угроз. Но однажды, когда мы начали шуметь, он вышел из терпения и забылся до того, что обругал нас мальчишками и ушел с лекции. Негодование студентов за такое оскорбление было страшное. Такая брань от кого бы то ни было показалась бы нам очень обидною, тем боле от такого осла, которого мы только и терпели за его снисходительность. Все студенты ходили взволнованные по аудитории, кричали, как смел такой дурак, как Малов, так оскорблять студентов, и ругали его всячески. Решились прогнать его из аудитории. Сговорившись, студенты прислали в наше физико-математическое отделение двух парламентеров, приглашая прийти с вспомогательным войском.
Когда мы пришли в политическую аудиторию, Малов был налицо и видел нас. У всех студентов на лицах был написан страх: ну, как он в этот день не сделает никакого грубого замечания? Страх этот скоро прошел. Через край полная аудитория была непокойна и издавала глухой сдавленный гул. Малов сделал какое-то замечание, началось шарканье.
– Вы выражаете ваши мысли, как лошади, ногами, – заметил Малов, воображавший, вероятно, что лошади думают галопом и рысью, и буря поднялась – свист, шиканье, крик: «Вон его, вон!»
Малов, видимо, струсил. Сначала он грозил нам, а то вдруг смирился и начал петь перед нами Лазаря: «Ну что я вам, милостивые государи, сделал? – говорил он. – За что вы на меня сердитесь? Извините меня, если я вас чем оскорбил: оставьте все это!»
Что мы не имели никакого другого намерения как только пошуметь и этим заставить Малова перед нами смириться и извиниться, это доказывается тем, что мягкие его слова и извиняющаяся, униженная его физиономия сильно на нас подействовали, и мы мгновенно перестали шуметь. Если бы Малов после этого ушел с лекции, то без сомнения и конец был бы нашей демонстрации. Но его, как говорится, лукавый попутал. Видя нашу покорность, он возгордился своей над нами победой и вдруг, как какой черт подучил его, он, обращаясь к нам, с насмешкой, сказал: «Ну что ж вы, милостивые государи, перестали? Что же вы не продолжаете? Продолжайте!..»
Эти слова его были искрой в порох. Едва он выговорил их, как все студенты вскочили с мест, начали ногами уже не шаркать, а колотить о передние доски скамеек, закричали на него: вон, вон!.. И пустили уже в него кто шапкой, а кто книжкой. Малов, бледный, как полотно, сделал отчаянное усилие овладеть шумом и не мог; студенты вскочили на лавки. Малов тихо сошел с кафедры и, съежившись, стал пробираться к дверям. Аудитория – за ним, его проводили по университетскому двору на улицу и бросили вслед за ним его калоши.
Последнее обстоятельство было важно: на улице дело получило совсем иной характер. Но будто есть на свете молодые люди 17–18 лет, которые думают об этом. Университетское начальство, разумеется, прежде всего обратилось к самому Малову, чтобы он назвал виновников сделанной ему обиды, и тут-то этот глупец еще раз проявил свою мудрость. Не заметивши лично никого из шумевших студентов, он в своей глупой башке сделал такой вывод: весь этот беспорядок сделали ленивцы, а такими он считал тех, которые редко ходили на его лекции. Ежедневно призывали для допроса по нескольку студентов и совершенно невинных. Тогда на самообвинение вызвались четыре студента, люди богатые, с знатной родней и связями, которые поэтому были твердо уверены, что с ними ничего особенного не сделают и много, много, если их посадят в карцер. И на этом мы порешили. Не помню уже, каким образом они объявили о себе начальству, но кончилось все это тем, что этих четырех студентов велено было посадить на три или четыре дня в карцер. Легко может быть, что в противном случае государь прислал бы флигель-адъютанта, который для получения креста сделал бы из этого дела заговор, восстание, бунт и предложил бы всех отправить на каторжную работу, а государь помиловал бы в солдаты» (А. И. Герцем).
Во время допросов Лермонтов был уверен, что понесет наказание; написал в альбом своего друга Поливанова:
Послушай! вспомни обо мне,
Когда, законом осужденный
В чужой я буду стороне…
Сбоку стихотворения была приписка Николая Поливанова: «Москва. Михайла Юрьевич Лермантов написал эти строки в моей комнате во флигеле нашего дома на Молчановке, ночью; когда, вследствие какой-то университетской шалости он ожидал строгого наказания».
За стенами университета развивалась серьезная умственная жизнь. «Нам дают широкое образование, нам прививают желания, стремления, страдания современного мира, а потом кричат: “Оставайтесь рабами, немыми и пассивными, иначе вы погибли”, – горько сетовал Герцен. – В возмещение за нами сохраняют право драть шкуру с крестьянина и проматывать за зеленым сукном или в кабаке ту подать крови и слез, которую мы с него взимаем».
Такая же горечь слышна в строках Лермонтова:
К чему глубокие познанья, жажда славы,
Талант и пылкая любовь свободы,
Когда мы их употребить не можем.
Он начал третий вариант поэмы «Демон», которая, в конце концов, займет всю его жизнь. Талант его зрел быстро, духовный мир определялся резко. В своем творчестве он все больше становился самостоятельным, находя такие образы и сюжеты для своих стихотворений и поэм, которые до него никто не осмеливался использовать. При этом в силу молодости продолжал посещать московские салоны и балы.
Заметно было в нем, что с ранних дней
В кругу хорошем, то есть в модном свете,
Он обжился, что часть своих ночей
Он убивал бесплодно на паркете
И что другую тратил не умней…
В апреле в Москву приехал Юрий Петрович – перезаложить Кропотово на новых условиях, по которым ежегодные взносы снижались на 400 рублей. Очевидно, по первой закладной взносы стали непосильны. Имение было перезаложено на 37 лет. Он выглядел плохо. Чувствуя близкую смерть, написал в январе завещание, с которым теперь ознакомил сына: «…долгом почитаю объяснить тебе мою волю, а именно: сельцо Любашевка (Кропотово тож) составляет всё наше недвижимое имение, в коем считается по 7-й ревизии 159 мужск. пола душ: из числа сих душ по 4 мужск. пола дворовых людей отделены еще покойной матерью моей каждой сестре и числятся за ними по ревизии, следовательно, остается 147 душ. Сие число должно быть разделено пополам между тобою, любезнейший сын мой, и тремя сестрами моими: Александрою, Натальею и Еленою, которые между собой разделят по равной части. Движимость, находящаяся в доме, должна быть отдана трем упомянутым сестрам.
Имение сие заложено в опекунском совете, и потому долг ляжет на число доставшихся каждому душ. Кроме сего, еще имеется на мне партикулярного (частного. – Н. Б) долга три тысячи пятьсот рублей, которые и прошу заплатить из имеющихся двенадцати тысяч рублей в долгах по заемным письмам. (Ему кто-то был должен 12 тысяч. – Н. Б.) Из остальных же, за уплатою моего долга, восьми тысяч пятисот рублей, определяю четырем сестрам моим, полагая в том числе и замужнюю Авдотью Петровну Пожогину-Острашкевичеву, каждой по две тысячи рублей ассигнациями, а остальные пятьсот рублей отпущенному на волю сестрою моею по крестном отце Петрову».
Миша узнал до конца историю распри отца и бабушки: Юрий Петрович ничего не скрыл. Сердце его разрывалось: не понимал, почему бабушка не дала отцу денег на достойное воспитание сына? Что ею руководило? Почему не щадила ребенка, отнимая его у отца? И приходил к заключению, что в бабушке тесно сплетались любовь к нему, Мише, и непонятная жажда мести его отцу.
В Москве Юрий Петрович пробыл около трех недель: хлопоты в опекунском совете, и с сыном хотелось побыть – не виделись больше года. В драме Лермонтова «Люди и страсти» читаем:
Дарья. Кажется, сударыня, он у своего батюшки.
Марфа Ивановна. Все там сидит. Сюда не заглянет. Экой какой он сделался – бывало прежде ко мне он был очень привязан, не отходил от меня, пока мал был…
Марфа Ивановна (отцу Юрия). М, батюшка – мне что-то не спалось – я все думала об моем Юрьюшке… вот вы, отцы, не так беспокоитесь об детях!..
Николай Михалыч. Неужели вы думаете, что мне легче. Вы ошибаетесь, позвольте мне сказать. Я сына моего не меньше вас люблю; и этому доказательство то, что я его уступил вам, лишился удовольствия быть с моим сыном, ибо я знал, что не имею довольно состояния, чтоб воспитать его так, как вы могли.
Еще до отъезда Юрия Петровича московские газеты оповестили о начавшейся холере в Петербурге. А так как это совпало с восстанием в Польше, то по Петербургу разошлись слухи, что поляки ходят ночами по огородам и посыпают овощи ядом; что незаметно проходят в ворота домов, насыпают яд в стоящие во дворах бочки с водой; что зафрахтованные мятежниками корабли привозят грузы мышьяка и высыпают его в Неву.
Петербургские газеты рекомендовали жителям иметь при себе раствор хлорной извести или крепкого уксуса, которыми следует протирать руки и участки лица, но каждого, кто использовал эти средства, ждала расправа: темный народ видел в них отравителей. На таких нападали, и, в лучшем случае, заставляли употребить хлорку и уксус вовнутрь. Простолюдины стали избивать врачей, подозревая в них содействие полякам, разбивать холерные кареты, громить больницы.
В июне случился холерный бунт: больница на Сенной площади была разорена, трое медиков и столько же полицейских убиты. Дело дошло до того, что в течение нескольких суток полиция и доктора прятались от рассвирепевшей толпы. Император велел выстроить на Сенной площади вооруженные войска, и лишь это подействовало на ошалевший народ.
Постепенно холера стала ослабевать, перекинувшись в Финляндию и на западные границы России. 27 июня в Витебске скончался от эпидемии великий князь Константин Павлович, которого декабристы надеялись видеть царем.
X
18 мая Лермонтов подал прошение в университет: разрешить ему отпуск на 28 дней. Попросили о том же двое его друзей. Прошение было удовлетворено. «Означенных студентов, уволив в отпуск, предоставить г-ну ректору снабдить их надлежащими для проезда билетами (разрешениями. – Н. Б.) в Московский уезд».
Отъезд был связан с событием частной жизни Николая Поливанова. Каким образом из его деревни Лермонтов оказался потом в Москве, а затем в усадьбе Ивановых на берегу Клязьмы, неясно, но он прогостил там несколько дней. Старшую дочь Ивановых, Наташу, Лермонтов знал по московским балам, где поначалу чувствовал антипатию к ней. Если Варенька Лопухина была, как пушкинская Татьяна, «без взора наглого для всех, без притязаний на успех», то Иванова являла собой обратное.
Но постепенно меж нею и Мишей сложились приятельские отношения и, как казалось Лермонтову, Наташа влияла на него благотворно. Теперь, в имении Ивановых, когда после долгой унылой зимы жизнь распахнулась во всю свою ширь, Миша с Наташей влюбились друг в друга. Ей было 17, ему 16 лет.
В своих любовных чувствах Лермонтов оставался неисправимым идеалистом. Он воспылал к Наташе романтической страстью, придумав ее для себя, как придумал в минувшем году Сушкову. Он наделял Наташу такими душевными качествами, которых в ней не было, и быть не могло (стоит взглянуть на ее портрет, где ей лет шестнадцать: лицо как у озлобленного хорька).
Наташа ему отвечала взаимностью, и можно представить, какие слова находили они друг для друга, прячась в аллеях; как много юного чувства было в обоих!
Однако Наташа опомнилась: ей надо замуж; пойдут разговоры, сплетни… Она объявила, что любит другого.
Вернувшись в Москву, Миша примчался к Владимиру Шеншину, который, уже заскучав без него, писал Поливанову: «Мне здесь душно, и только один Лермонтов, с которым я уже пять дней не видался (он был в вашем соседстве у Ивановых), меня утешает своею беседою». Николай Поливанов приглашал его с Мишей на свадьбу кузины, и к письму Шеншина Лермонтов сделал беглую приписку: «Любезный друг, здравствуй! Протяни руку и думай, что она встречает мою; я теперь сумасшедший совсем. Нас судьба разносит в разные стороны, как ветер листы осени. – Завтра свадьба твоей кузины Лужиной, на которой меня не будет (??); впрочем, мне теперь не до подробностей. – Черт возьми все свадебные пиры. – Нет, друг мой! мы с тобой не для света созданы; – я не могу тебе много писать: болен, расстроен, глаза каждую минуту мокры. Много со мной было; прощай, напиши что-нибудь веселее. Что ты делаешь? – Прощай, друг мой».
Миша схватился за драму «Странный человек», выплескивая в ней то, что произошло между ним и Наташей, не изменив даже имени-отчества героини, оставив ее Наташей, Натальей Федоровной.
В конце июня Елизавета Алексеевна собралась в Середниково, где она проводила уже третье лето, и Миша был счастлив: «Поеду… Увижу Наташу, этого ангела!.. Может быть, она меня любит; ее глаза, румянец, слова… Какой я ребенок! – все это мне так памятно, так дорого, как будто одними ее взорами и словами я живу на свете».
Имение Ивановых было недалеко от Середникова, и Миша спешил повидаться с Наташей. Седлал коня и мчался в ее усадьбу, переплывая Клязьму. Стоило ему оказаться у ее дома, как он переставал замечать все вокруг. Глаза его были прикованы к окнам, где мелькала любимая, и по воспоминаниям одной из кузин Наташи, если бы в этот момент мимо дома проехал сам император, Лермонтов не обратил бы на него никакого внимания.
Миша не верил, что человек, нежно шептавший любовные признания, может резко перемениться. Он находил десятки причин, оправдывавших Наташу. Окончив «Странного человека» подарил ей аккуратно переписанный экземпляр, в котором Наташа тотчас вымарала свое имя. Однако не выкинула, как не выкидывала и подаренные Лермонтовым стихи.
В Середникове в то лето гостей было мало, Миша много писал, много читал, тренировал мышцы, развлекался с Аркашей Столыпиным, делая из картона себе и ему рыцарские доспехи, сражаясь в саду. Изредка приезжала Саша Верещагина, и Лермонтов отводил душу, поверяя ей свои чувства к Ивановой. Девушка скучно кивала. Она не могла и подумать, что эта любовь затянется на год, и только потом Лермонтов сможет порвать с Наташей.
Не знав коварную измену,
Тебе я душу отдавал;
Такой души ты знала ль цену?
Ты знала – я тебя не знал!
…Через два года Наташа благополучно выйдет замуж за Николая Обрескова, который был старше ее на одиннадцать лет. Сын сенатора, владелец 750 крепостных душ мужского пола. Ее не смутило позорное прошлое Николая: за кражу драгоценностей у своей тетки он лишен был дворянского звания и ровно семь лет тянул солдатскую лямку. В 1833 году император помиловал Николая, возвратив ему титул и состояние, и в том же году Обресков женился, уехав с Наташей в Курск. Супруги обзавелись детьми, подолгу живали за границей, Наталья Федоровна пополнела, и на портрете тех лет выглядит любезной дамой. Вряд ли она понимала, что яркий след, который оставила в душе Лермонтова, вызвал к жизни шедевры мировой любовной лирики.
XI
1 октября 1831 года умер Юрий Петрович, двух дней не дожив до семнадцатилетия сына. Было ему 44 года. О плохом состоянии отца Мишу известила Авдотья Петровна. Вместе поехали в Кропотово. И вот – дом, где Лермонтов жил полузатворником. Гнусные сплетни о том, что продал сына за 25 тысяч рублей своей теще, что бил молодую жену, гулял и картежничал, согнули его, довели до чахотки. Довершило болезнь хроническое безденежье.
Но как жили его крестьяне! Каждая семья держала от двух до шести лошадей, выполняя на них сельскохозяйственные работы на своей и господской земле и, кроме того, занимаясь извозом. Было много овец: с молодняком от семи до сорока голов на каждый крестьянский двор. Полученной шерсти и шкур хватало на полушубки, кафтаны, шали и прочее. Уровень жизни крестьян был выше, чем у Арсеньевой, оттого крепостные и говорили о Юрии Петровиче: «Добрый, даже очень добрый барин».
Всего в Кропотове было 1150 десятин земли, из них пашенной 822. Остальная земля находилась под селением, огородами, гуменником, лесами и лугами. Юрий Петрович не жал из крестьян соки, чтобы оставить сыну хотя бы сто тысяч рублей, но первый заметил его дарование и правильно оценил.
Священник Никита Соболев исповедал и соборовал Юрия Петровича, который в метрической книге был записан Евтихием (церковное имя Юрия). Хоронили его в селе Шипово, где была церковь, в приходе которой значилось Кропотово. В телегу впрягли, как положено, двух лошадей, застелили ковром и поставили гроб. Сопровождали траурную процессию священник Никита Соболев, дьякон Дмитрий Неаронов, дьячок Егор Савельев и пономарь Егор Троицкий.
Ужасная судьба отца и сына
Жить розно и в разлуке умереть,
И жребий чуждого изгнанника иметь
На родине с названьем гражданина!
Но ты свершил свой подвиг, мой отец,
Постигнут ты желанною кончиной;
Дай бог, чтобы, как твой, спокоен был конец
Того, кто был всех мук твоих причиной!
Но ты простишь мне! Я ль виновен в том,
Что люди угасить в душе моей хотели
Огонь божественный, от самой колыбели
Горевший в ней, оправданный Творцом?
Однако ж тщетны были их желанья:
Мы не нашли вражды один в другом,
Хоть оба стали жертвою страданья!
Навеки запомнилась сыну эта дорога! «…Гроб, поставленный на телеге, качался при каждом толчке; он с образом шел впереди… дьячок и священник сзади; они пели дрожащим голосом… и прохожие снимали шляпы… вот стали опускать в могилу, канат заскрипел…» – напишет он через два года в романе «Вадим». До Шипова было четыре версты, шли поначалу пешком, потом уже сели в повозки. Отпевание в церкви длилось недолго. Могила готова была в церковной ограде – близко к церковной стене. Михаил стоял у свеженасыпанного холмика, убитый горем.
Прости! У видимся ль мы снова?
И смерть захочет ли свести
Две жертвы жребия земного,
Как знать! Итак прости, прости!..
Ты дал мне жизнь, но счастья не дал;
Ты сам на свете был гоним,
Ты в людях только зло изведал…
Но понимаем был одним.
И тот один, когда, рыдая,
Толпа склонялась над тобой,
Стоял, очей не обтирая,
Недвижный, хладный и немой.
Дома Лермонтов встал у портрета отца, тетки неслышно ходили мимо. Надо было знакомить их с завещанием – последняя воля Юрия Петровича.
XII
Нравственно-политический факультет перестал удовлетворять Лермонтова. Он перешел на словесный. Но уже не было в живых Мерзлякова, а другие профессора читали лекции так, что «выносить студенту с них было нечего». На лекциях Победоносцева студенты развлекались, кто как умел. Константин Аксаков вспоминал, что один из студентов принес воробья, выпустил его, а остальные, «искренне негодуя» и громко крича, ловили несчастную птицу. В другой раз, во время вечерней лекции, они перед приходом Победоносцева закутались в шинели, забились по углам слабо освещенной аудитории, и, как только профессор вошел, затянули как в церкви: «Се жених грядет во полунощи…»
«Каченовский читал соединенную историю и статистику Российского государства, и на его лекциях порой вся аудитория в сто человек поднимала шум по самому пустяковому поводу. Странное дело, – говорил Аксаков, – профессора преподавали плохо, студенты не учились, мало почерпали из университетских лекций, но души их, не подавленные форменностью, были раскрыты, и все-таки много вынесли они из университета».
Иван Гончаров, став студентом чуть позже, вспоминал: «Мы, юноши, смотрели на университет как на святилище и вступали в его стены со страхом и трепетом. Образование, вынесенное из университета, ценилось выше всякого другого. Москва гордилась своим университетом, любила студентов, как будущих самых полезных, может быть, громких, блестящих деятелей общества».
Гордилась Москва еще тем, что университет восстанавливали всей Россией; восстанавливали архив, библиотеку, лаборатории после варварского сожжения этого храма науки Наполеоном. Научные институты, ученые, частные лица передавали университету деньги, книги, старинные документы, приборы и естественнонаучные коллекции.
Святое место! помню я, как сон,
Твои кафедры, залы, коридоры,
Твоих сынов заносчивые споры
О боге, о вселенной и о том,
Как пить: ром с чаем или голый ром.
В то время полный университетский курс был трехлетний. Первый курс считался приготовительным и был отделен от двух последних. Университет разделялся на четыре факультета: врачебный, нравственно-политический, физико-математический, словесный.
«Однообразно тянулась жизнь наша в стенах университета. К девяти часам утра мы собирались в нашу аудиторию слушать монотонные, бессодержательные лекции бесцветных профессоров наших: Победоносцева, Гастева, Оболенского, Геринга, Кубарева, Василевского, протоиерея Терновского. В два часа пополудни расходились по домам. Перед рождественскими праздниками профессора делали репетиции, то есть проверяли знания своих слушателей за пройденное полугодие и, согласно ответам, ставили баллы, которые брались в соображение потом на публичном экзамене. Профессор Победоносцев, читавший изящную словесность, задал Лермонтову какой-то вопрос, Лермонтов начал бойко и с уверенностью отвечать, профессор сначала слушал его, потом остановил замечанием:
– Я вам этого не читал. Откуда могли вы почерпнуть эти знания?
– Это правда, господин профессор, того, что я сейчас говорил, вы нам не читали. Я пользуюсь собственной библиотекой, снабженной всем современным.
Мы все переглянулись.
Подобный ответ дан был и адъюнкт-профессору Гастеву, читавшему геральдику и нумизматику» (17. Ф. Висшенгодё).
Надо сказать, что и Белинский не признавал лекций Победоносцева, и однажды профессор не выдержал:
– Что ты сидишь, как на шиле, ничего не слушаешь?… Повтори мне последние слова, на чем я остановился?»
– Вы остановились на словах, что я сижу на шиле, – ответил Белинский.
И все-таки студенты были признательны Петру Васильевичу Победоносцеву: из лекции в лекцию он вдалбливал им, что нельзя вносить в русские тексты иностранные слова. Это был глубоко русский человек, хотел, чтобы молодые люди знали не только современные требования литературы, но и те, какими они были при ее начале, при Ломоносове. У него было 11 детей, младший сын через несколько лет будет воспитателем цесаревича Александра – в будущем императора Александра III. Вместе с Федором Михайловичем Достоевским он попытается разъяснить цесаревичу, что «русские, стыдясь перед Европой своей якобы отсталости, нахватываются чужого, и забывают о своих способностях, которые могут принести новый свет миру, как это было со всеми великими нациями, которые неуклонно оставались самостоятельными, и только тем пригодились миру, внеся в него, каждая, по своему лучу света». Цесаревич Александр не забывал этого наставления.
«Россия – для русских и по-русски», – объявил он, придя во власть.
Следствием проверки знаний студентов первого курса, стало то, что весь курс был оставлен на второй год: сказались пропущенные «холерные месяцы», слабая посещаемость профессоров и студентов при затухании эпидемии, а также учеба многих студентов спустя рукава. По признанию Павла Вистенгофа, «процветали всевозможные удовольствия: балы, собранья, маскарады, театры, цирки, званые обеды и радушный прием во всякое время в каждом доме. Многие из нас усердно посещали все эти одуряющие собрания и различные кружки общества, забывая и лекции, и премудрых профессоров наших».
Рождественские каникулы были посвящены развлечениям, и Лермонтов готовился к новогоднему маскараду в Благородном собрании. Придумал явиться астрологом с «книгой судеб» под мышкой. Вместе с Акимом мастерски сделали книгу, Аким срисовал с чайного ящика иероглифы, из черной бумаги вырезал их и вклеил в листы – что представляло собой «кабалистику». Под каждым иероглифом Лермонтов поместил шуточный мадригал.
На маскараде, «астролог» в высоком колпаке, усеянном звездами, в длинной хламиде, под хохот друзей важно читал свои предсказания. Потом, как и все, «натирал подошвами паркет» и вернулся домой поздно ночью. Уснуть еще долго не мог: перебирал впечатлительной памятью встречи. Хоть и под масками, но узнал Наташу Иванову и Евдокию Сушкову – двоюродную сестру Кати Сушковой, начинающую поэтессу. А Вареньки Лопухиной на маскараде не было…
В последнее время он часто думал о ней. Взрослым умом стал понимать, что «гордая красота», «грудь волною», прельщавшие его в юных девушках, это всего лишь рисовка, стремление нравиться, иметь толпу вздыхателей и, наконец, выйти замуж. В Вареньке даже помину этого не было, она и прическу носила естественную: без накладных буклей над ушами. Но не была бесхарактерной. На своих именинах в начале декабря, Варенька с упоением танцевала с кавалерами, увивавшимися за ней, и «не замечала» Мишу.
Он начал испытывать ревность… Стал чаще бывать у Лопухиных, подружился с Марией Александровной, чтобы знать от нее побольше о Вареньке, однако она не спешила с ним откровенничать. А на него то и дело сыпались слухи об увлечениях Вари, и даже, что Варя выходит замуж. Последнее привело его к сильной депрессии. Потом оказалось, что Варенька вовсе не думала выходить замуж, и не думает ни о ком, кроме него… А через несколько дней он видел ее, окруженной мужским вниманием. Он и представить не мог, что Варенька станет причиной его страданий, он привык к ее тихой и светлой душе, не замечая ее, как не замечают воздух.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?
![Книга Александр I, Мария Павловна, Елизавета Алексеевна: Переписка из трех углов (1804–1826). Дневник [Марии Павловны] 1805–1808 годов автора Екатерина Дмитриева](/books_files/covers/thumbs_100/aleksandr-i-mariya-pavlovna-elizaveta-alekseevna-perepiska-iz-treh-uglov-18041826-dnevnik-marii-pavlovny-18051808-godov-134584.jpg)







































