Текст книги "Содом тех лет"
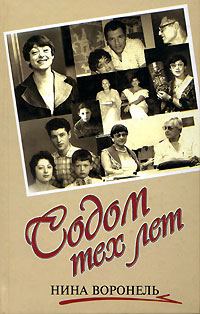
Автор книги: Нина Воронель
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 42 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
«Вот тут написано: Кнопкин Василий, место номер шесть, – пронзительным тенором прочел он. – Можете прочитать. Зачем я буду уходить со своего законного места?»
«Это очень важный иностранец, – пролепетала одна из стюардесс. – Его нужно посадить впереди».
«А я – советский гражданин Василий Кнопкин. Чем этот иностранец важней меня? – поинтересовался Вася. – Я тоже хочу сидеть впереди, тем более в билете написано «место номер шесть». А ваш иностранец, если хочет, может сесть рядом со мной, я не заразный».
После этого заявления Вася начал демонстративно пристегиваться. К этому моменту церемония за окном завершилась, и группа людей, включающая знатных иностранцев, двинулась к трапу, прощально помахивая остающимся. Тогда, не теряя времени на лишние разговоры, два дюжих мужика в летной форме быстро скрутили Васю, так и не дав ему пристегнуться, и пронесли по проходу к одному из свободных мест в хвосте самолета. Вася попробовал было брыкаться, но его крепко прижали и принудительно пристегнули – как раз к моменту появления в салоне двух иноземных фигур в цветастых шортах и в сандалиях на босу ногу.
Стюардессы бросились рассаживать дорогих гостей, но тут снова произошла запинка. Старик с жабьим лицом шепнул что-то на ухо стоявшей с ним рядом миловидной брюнетке, и она вежливо обратилась к стюардессам:
«Господин Гарриман не любит сидеть в передней части самолета. Нельзя ли предоставить ему место в хвостовой?»
Стюардессы захлопотали, проворно пересаживая пассажиров на их прежние места. Все шло гладко, пока не подошла очередь Васи Кнопкина.
«С какой стати я буду бегать взад-вперед? – возмущенно завопил он, не поднимаясь с кресла. – Я вас не просил сажать меня сюда! Вы меня впихнули сюда насильно, и я добровольно отсюда не уйду!»
На этот раз никто не стал тратить время на выяснение отношений с Васей – его опять привычно скрутили и перенесли на руках на его законное место номер шесть, где его опять крепко прижали и пристегнули. После чего остальные быстро расселись, и самолет, наконец, взлетел. Все были рады завершить поскорей этот чрезмерно затянувшийся полет.
Мы летели вдоль какого-то необычайно живописного ущелья – ведь это происходило до эры реактивных самолетов, стремительно мчащихся сквозь пространство на большой высоте. Так что наш воздушный извозчик не слишком быстро скользил в узком извилистом коридоре, образованном отвесными стенами ущелья, временами почти касаясь этих стен гораздо ниже их зубчатых снежных вершин. Все пассажиры, как знатные, так и незнатные, прильнули к иллюминаторам, следя за открывающейся их взорам захватывающей картиной, на которой были ясно видны все фазы смены пейзажа, происходящие при переходе от одной высоты к другой.
И тут прямо над головой господина Гарримана возник Вася Кнопкин. Чуть покачиваясь в такт неровному скольжению самолета над воздушными ямами, он, не говоря ни слова, протянул руку и начал шарить по креслу за спиной американца. Все пассажиры, как по команде, оторвались от зрелища за окном и, парализованные удивлением, уставились на Васю, не понимая, чего он хочет. Через секунду, вырвавшись из оцепенения, на него пружинисто налетела стюардесса:
«В чем дело? Чего вы там шарите, Кнопкин?»
Волновалась она напрасно: похоже, Вася Кнопкин уже потерял весь свой боевой запал. Смущенно улыбаясь, он пробормотал:
«Я фуражечку свою ищу. Она, наверно, между кресел провалилась».
И с торжеством вытащил из-за спины Гарримана слегка помятую кепку, которая и впрямь застряла между кресел.
Еще через час наш самолет, чистый, как слеза ребенка, приземлился в Сталинабаде. У трапа была воздвигнута переносная трибуна, на которой с цветами в руках возносилось к небу все правительство Таджикской Советской Социалистической Республики. Когда мы начали спускаться по трапу, грянула громкая музыка – это выстроившийся рядом с трибуной духовой оркестр вносил свою лепту в торжественную встречу.
Назавтра в местных газетах появилось сообщение, что в Таджикистан с дружеским визитом прибыл бывший посол США в СССР Авэрел Гарриман.
О нас с Васей Кнопкиным ни в одной газете не было ни слова.
Но это не отменило факта нашего прибытия в Таджикистан, во всяком случае, моего. Я, к сожалению, не знаю, что случилось с Васей после всех его выходок в самолете, доставившем правительству Таджикской ССР господина Гарримана в цветастых шортах и в пионерской панамке. Но я знаю, что случилось со мной.
Я стала очарованной пленницей ослепительно белого Сталинабада, ныне переименованного в Душанбе, затопленного прозрачным воздухом, который врывался из многочисленных ущелий сомкнувшегося высоко над городом горного кольца. Однако, побродив недельку по его тенистым, журчащим арыками улицам, я почувствовала, что с языковой практикой дело обстоит плохо. По сути, по-таджикски мне разговаривать было не с кем, так как круг моих новых знакомых свелся к нескольким русским интеллигентам, зачастую еврейского происхождения, которые денно и нощно крутили бюрократические колесики республики, разгоняя таким образом ее склонную к восточному застою кровь. Я начала подумывать о бегстве куда-нибудь подальше, где никто не говорит по-русски.
Многочисленные русскоязычные советчики с удовольствием помогли мне выбрать маршрут – по их словам, стоило съездить в районный центр Гиссар, где еще сохранилась древняя персидско-таджикская традиция, и в экзотические джунгли вокруг Тигровой Балки. Тигровая Балка находилась на самом юге Таджикистана, – там, где Пяндж, сливаясь с Вахшем, образует Аму-Дарью. От одного звучания этих слов у меня начиналось романтическое головокружение, и хотелось немедленно тронуться в путь.
Единственным препятствием были деньги, вернее, полное их отсутствие. На свои скромные «командировочные» я едва-едва могла прожить впроголодь, в основном, ходя по вечерам в гости, где меня кормили ужином. В гости я ходила, а не ездила, как бы далеко это ни было, потому что не разрешала себе потратиться на автобусный билет. Выходило, что заманчивые поездки по таджикской глубинке были мне не по карману.
Сперва я попыталась что-нибудь заработать, написав несколько статеек в местную газету. Но из этого ничего не вышло – надо мной поиздевались и ничего не заплатили. Я до сих пор уверена, что меня намеренно проучили, чтобы я не зазнавалась, – дескать, пускай эта столичная штучка не воображает, будто она с ходу способна вскочить в то кресло, к которому мы столько лет ползли, сбивая в кровь коленки.
И тут мои мудрые русско-еврейские советчики придумали остроумный ход конем: а почему бы мне, как будущему переводчику, не попросить денег у местного Союза писателей на благородное дело освоения таджикского языка? Я быстро написала нужное заявление, и мне устроили встречу с самим председателем Союза, легендарным Мирзо Турсун-Заде. Чем он, собственно, был легендарен, я толком так и не узнала, – разве что той ходящей по литсалонам легендой, будто все его поэмы при полном отсутствии оригиналов сочинил мой уважаемый мэтр, Семен Израилевич Липкин, не получивший потом ни гроша из присужденной за эти поэмы Государственной премии?
Мне повезло: легендарный ли, или мифический, Мирзо Турсун-Заде согласился меня принять – не без протекции, конечно, – и меня с трепетом ввели в его сильно затененный шторами кабинет. В правом дальнем углу кабинета стоял роскошный письменный стол полированного дерева, над которым едва-едва возвышался низкорослый, зато очень объемистый, всемогущий председатель. Про него без преувеличения можно было сказать, что он поперек себя шире: щеки у него по ширине были вровень с плечами, плечи вровень со столом, все остальное было скрыто от посторонних глаз мощными тумбами стола.
Великий человек молча выслушал мой сбивчивый лепет на его родном языке – я заранее заготовила свою речь, с помощью словаря разукрасив ее идиоматическими восторгами по поводу таджикского языка и таджикской поэзии. Он по-прежнему продолжал молчать, когда я произнесла последнее слово своей речи и застыла, с трудом переводя дыхание. Сердце мое учащенно билось – почему он молчит? Может, он не понял, чего я от него хочу? А хотела я тридцать рублей на дорожные расходы – для меня это была большая сумма, так как моя ежемесячная стипендия не доходила и до двадцати пяти.
Я краем глаза зыркнула на сопровождавшего меня доброжелателя, специалиста по капризам великого человека – может быть, надо чего-нибудь еще добавить? Но он, не дрогнув ни одним мускулом в ответ на мой умоляющий взгляд, тоже молчал, чуть склонив голову. Время текло мучительно медленно. Наконец через бесконечно долгий час – или это целый день прошел в молчании? – председатель, не шевельнув губами, произнес:
«Ман все равно».
После чего мой сопровождающий цепко ухватил меня за локоть и ловко вытолкнул из председательского кабинета, а потом, предостерегающе приложив палец к губам, так же молча поволок меня по коридору прочь от немедленно закрывшейся за нами двери. Когда мы вышли из зашторенного Союза писателей на залитую солнцем улицу, он, наконец, произнес первые слова:
«Поздравляю, он дал вам деньги».
«Откуда вы знаете? – не поверила я. – Что он сказал? На каком языке?»
«На таджикском. Так по-таджикски говорят, если не возражают».
Это было выше моего понимания, но деньги я получила, – целых тридцать рублей! – и даже довольно быстро, без лишней бюрократической волокиты. Первым делом я помчалась в Курган-Тюбе, откуда шел прямой, как мне по наивности казалось, путь в Тигровую Балку. Географически путь, быть может, был и прямой, но бюрократически он оказался непроходимым. Как выяснилось на месте, Тигровая Балка была на самой границе с Афганистаном, и туда не впускали без специального пропуска.
За пропуском мне пришлось отправиться в пограничную милицию, которая приютилась в какой-то отдаленной улочке. Пока я ее нашла, я чуть не потеряла сознание от жары – ходить по выжженным солнцем улицам Курган-Тюбе было вовсе не так приятно, как по продутым сквозняками улицам Сталинабада. Но главная обида состояла в том, что муки мои были напрасны – пропуска в Тигровую Балку мне не дали. Крепкоскулый начальник отдела пропусков внимательно выслушал меня и еще более внимательно осмотрел.
«С кем поедешь? – спросил он. – Попутчики есть?»
Я замялась, так как никаких попутчиков у меня не было: «Одна поеду».
«Одна поедешь, да? В Тигровую Балку? Интересно получается. Хорошая молодая девушка одна поедет в Тигровую Балку – но назад не вернется».
«Почему не вернется?» – не поняла я.
«Потому что, когда хорошая молодая девушка одна едет в Тигровую Балку, она никогда назад не возвращается. Пропуска не дам», – отрубил начальник и указал рукой на дверь, давая понять, что разговор окончен.
Я начала лепетать что-то по-таджикски, объясняя, как мне важна языковая практика, но он уже отключился от меня и стал кричать что-то в телефонную трубку. Я повернулась и пошла прочь, глотая по дороге слезы разочарования. Делать в знойном Курган-Тюбе мне было нечего. Я с трудом доплелась до автобусной станции и купила билет в Гиссар.
Зато поездка в Гиссар полностью скомпенсировала мою курган-тюбинскую неудачу. Не говоря уже о самом городке, который оказался именно таким, какие мы изучали на лекциях по этнографии Таджикистана, я попала там прямо в яблочко – на следующий день после моего приезда начинался мусульманский праздник Курбан. О том, что Курбан начнется именно завтра, рассказала мне местная учительница, Джамиля, у которой я, загодя заручившись рекомендательным письмом от одной сталинабадской поэтессы, остановилась на ночлег.
Это письмо обеспечило мне не только гостеприимный приют, но также послужило пропуском в настоящий таджикский деревенский дом, – иначе мне вовек бы его не увидеть! Проходя от автобуса по извилистым, окаймленным арыками улочкам Гиссара, я тщетно пыталась себе представить, как выглядит таинственная, полностью огражденная от внешнего мира жизнь внутри этих глухих стен. Каждая улица выглядела, как глубокое ущелье, с двух сторон стиснутое слепыми глинобитными стенами, – ни в одном из ее домов не было выходящих на улицу окон. Что они там делали, в этих домах? Никто никогда не выглядывал оттуда наружу, никто не смел заглянуть внутрь.
Я постучалась в ворота, мне открыла сама Джамиля. Я протянула ей письмо, она мельком глянула на подпись и, улыбнувшись, отступила от порога, давая мне дорогу. Я вошла и обомлела – после пыльного ада раскаленной послеполуденным солнцем улицы я оказалась в раю. По стенам вились виноградные лозы, образуя в углах тенистые беседки, вдоль струящегося поперек двора большого арыка пестрели узорчатые ковры цветов. Из одной беседки сквозь кружево виноградных листьев на меня с любопытством уставились три юные гурии в возрасте от семи до двенадцати лет – дочери Джамили.
Я вынула из сумки привезенную еще из Москвы коробку конфет и приступила к долгожданной языковой практике. Девочки больше стеснялись, чем говорили, зато Джамиля, усадив меня на коврик в тени большого дерева, поставила на низенький столик две пиалы и чайник, и мы окунулись в увлекательную беседу обо всем на свете. Из всех обсужденных нами в тот вечер тем в моей памяти остались две. Одна – о том, чем целые дни занимаются таджикские женщины в тенистой полутьме своих наглухо закупоренных домов. Оказывается, завершив свои домашние хозяйственные дела, они собираются небольшими группками в доме одной из них и, попивая душистый чай из пиал, вышивают халаты и тюбетейки своих мужей, а то и на продажу. И при этом сосредоточенно разговаривают. Спрашивается, о чем? А о том самом – старшие подробно делятся с младшими разными хитрыми способами, какими можно ублажить мужчину в постели. А младшие внимают и заучивают детали. Им и книг по эротическому воспитанию не надо.
Другая тема – о завтрашнем празднике, на который в Гиссар съезжаются верующие мусульмане со всей Гиссарской долины, потому что раньше здесь практически была столица. От столицы остались развалины древней крепости и огромная базарная площадь, куда когда-то свозили товары из всей восточной Бухары, – так назывались земли, завоеванные у восточных соседей штыками русской армии.
Назавтра я встала с утра пораньше и отправилась на базарную площадь. Шум стоял невообразимый, потому что народу, действительно, съехалось видимо-невидимо – на автобусах, на машинах, на телегах, на ослах и на верблюдах. Не говоря уже о тех, что пришли пешком. Все мужчины были одеты в некое подобие униформы – в густо-синие чапаны, слегка напоминающие старо-русские кафтаны. На головах у всех были вышитые тюбетейки. Сначала они челночно сновали по площади или стояли мелкими группами непрерывно сменяющегося состава, а я наблюдала за ними, затаившись у входа в старинное медрессе.
Потом раздался какой-то музыкальный звук, и неорганизованное броуновское движение сразу обрело форму – синие чапаны начали сноровисто выстраиваться в ровные шеренги, каждая длиной в пару сотен голов в тюбетейках. А, может, и больше, – сосчитать их было непросто, но ряды их уходили так далеко, что отдаленные головы казались меньше размером, чем ближние. Они быстро выстроились и затихли. Над огромной площадью повисла почти бездыханная тишина, только журчала вода в арыках, да где-то в отдалении пронзительно взревывали ишаки. Молчание прервала почти столь же пронзительная мелодекламация муллы, временами переходящая в полупение.
Многотысячные синие ряды стояли недвижно, словно вытесанные из камня. И вдруг голос муллы взлетел еще выше, напоминая всхлип музыкальной пилы, – и толпа на одном дыхании ахнула «Алла!» И тут же одним слаженным движением сотни рядов в тюбетейках упали на колени и, высоко задрав задницы в синем, ударились головами о хорошо утоптанную землю базарной площади. И застыли.
Я тоже застыла. Далеко-далеко уходили направо и налево одинаковые коленопреклоненные ряды воинов ислама, высоко над площадью поднимался острый запах их сильно разогретых на беспощадном среднеазиатском солнце тел, упакованных в плотные чапаны.
Такого зрелища я не видела больше никогда, хоть уже тридцать лет живу в Израиле, где арабы регулярно справляют и Курбан, и Рамадан. Наверное, у нас это выглядит не менее впечатляюще, но меня никто не пустит на это поглядеть.
И потому праздник Курбан, подсмотренный мною из-за полуприкрытой двери медрессе, остался в моей памяти воплощением сокрушительной силы ислама, не знающей ни сомнений, ни индивидуалистических метаний. Один короткий вскрик «Алла!» – и тысячи воинов ислама грохаются лбами о затоптанную многими поколениями землю, высоко вздымая к небу обтянутые синими чапанами зады.
Раздел второй. Процесс
Версия фактическая
Я спрашиваю себя – зачем я это пишу?
Андрея уже нет в живых. И Юлика тоже.
Они все дальше удаляются от нас, и человеческие их черты стираются, затуманиваются, бледнеют, превращаясь в некое обобщенное псевдогероическое лицо. Тем более что круг тех, кто их помнит, с каждым годом становится все уже. И скоро исчезнет вместе с памятью о них.
Нужно ли сохранять истинную правду о тех, кого уже нет с нами, – не о мифических фигурах, а о живых людях со всеми их достоинствами и пороками?
Не знаю.
Но какая-то сила заставляет меня ворошить прошлое, выкапывая оттуда несущественные мелочи, осколки событий, обрывки разговоров.
Сложить цельное полотно из этих мозаичных осколков оказалось довольно сложно. Ведь моя дружба с Даниэлями и Синявскими – не просто с Юликом и Андреем, но и с их женами, Ларкой и Майкой, как мы их привыкли называть в молодости, – охватывает несколько десятилетий. Наши отношения за эти годы прошли множество стадий – от равнодушия к дружбе, от дружбы к вражде и обратно, – так что и мое видение событий попутно менялось.
Поворачивая то так, то этак многогранную картину своих запутанных переживаний, я обнаружила, что она не плоская, а объемная и не поддается прмитивно-линейному изложению. Поэтому я построила это изложение так объемно, как это возможно на бумаге. Будь это в интернете, я бы скомпоновала из этой картины нечто вроде «сада разбегающихся тропок», но здесь мне пришлось ограничиться разбивкой своего рассказа на четыре различные версии, иногда дополняющие одна другую, а иногда одна другую исключающие:
1. ВЕРСИЯ фАКТИЧЕСКАЯ.
2. ВЕРСИЯ МИСТИЧЕСКАЯ.
3. ВЕРСИЯ СЕНТИМЕНТАЛЬНАЯ.
4. ВЕРСИЯ ЖЕНСКАЯ.
Всю ночь я летела из Нью-Йорка в Париж. Погода была штормовая, и самолет без передышки швыряло из одной воздушной ямы в другую. В какой-то макабрический момент, когда стюардесса не удержалась на ногах и покатилась по проходу между кресел, мой сосед, совсем юный, спросил – почему-то шепотом: «Как вы думаете, мы сейчас разобьемся?»
Но мы не разбились и к утру благополучно приземлились в аэропорту Орли. Было это в те почти неправдоподобные времена, когда мы, приезжая в Париж, останавливались только у Синявских. Поначалу мы пытались было селиться в недорогих отелях, но Марья, которая к тому времени уже перессорилась со всем русским Парижем, быстро это своеволие пресекла, потому что не могла контролировать, с кем мы общаемся, когда ее нет рядом.
Через час после прилета я уже звонила у ворот дома в Фонтанэ-о-Роз. К моему изумлению, отворить мне вышел Андрей, которому обычно подобные операции никогда не доверяли. Он нетвердым шагом спустился с крыльца и направился от дома к калитке, странно покачиваясь, словно его сдувало с дорожки сильным ветром.
«Марья улетела на три дня в Лондон, – сказал он, отпирая калитку, – и велела мне тебя впустить».
Хоть Марья велела меня впустить, войти он мне не давал, так как застрял в приоткрытой калитке, явно затрудняясь в выборе дороги обратно в дом. Поскольку у меня в голове тоже все качалось и плыло после бессонной ночи в борющемся со стихиями самолете, я со своим увесистым чемоданом никак не могла протиснуться в узкую щель между Андреем и калиткой. Мы покачались вместе несколько мгновений, а потом он, ухватившись рукой за столбик забора, умудрился круто развернуться и отступить в сад, открывая дорогу мне и моему чемодану.
Я покатила чемодан к дому, спотыкаясь о неровные булыжники дорожки, а Андрей поплелся за мной, приговаривая с каким-то отчаянным самобичевательным восторгом:
«Марья уехала, и я пью! Когда Марья здесь, она мне пить не дает, – вот я и пью, когда ее нет!»
Тут мы подошли к крыльцу, и я стала тащить чемодан по ступенькам вверх. Это было непросто, тем более что Андрей, думая, что он мне помогает, навалился на чемодан всей своей тяжестью. Раскачиваясь на моей руке, он выкрикивал жалобно: «Что же мне делать? Что делать? Ведь она взбесится, когда узнает, что я тут без нее пил».
Наконец, мы ввалились в прихожую. Избавившись от чемодана, я переключила свое внимание на Андрея – я представила себе Марью в гневе, и мне стало его жалко.
«А откуда она узнает? – утешила я его. – Я ей не расскажу, и ты не рассказывай».
«Ничего не поможет, она все равно узнает, – безнадежно махнул рукой Андрей. – Она ведь страницы считает, сколько я написал, пока ее нет. А я нисколько не написал, потому что когда ее нет, я пью. Она ведь, когда здесь, пить не дает, вот я и пью, когда ее нет!»
Возразить на это было трудно, да и голова у меня раскалывалась с такой силой, что мне было не до возражений. Я чуть откачнула Андрея в сторону и прошла на кухню – там царил издавна знакомый мне беспорядок. В раковине громоздилась гора грязной посуды, стол был заставлен не поместившимися в раковине чашками с засохшими чайными мешочками. Я направилась к газовой плите, намереваясь поставить чайник, но Андрей перегородил мне дорогу: «Так ты не возражаешь, что я пью?»
Я пожала плечами – как я могла возражать против того, что он делал в собственном доме? – и протянула руку к чайнику:
«Делай что хочешь, а я попью чайку и лягу спать. У меня от этого перелета голова кружится».
Но он перехватил мою руку на полпути: «Может, ты боишься, что я буду к тебе приставать?»
У меня и мысли такой не было, – он выглядел в этот миг старым взъерошенным гномиком, о каком приставании могла идти речь? Но я не хотела его обидеть и потому, разыгрывая повышенный интерес к зажиганию газовой конфорки, сказала осторожно: «Но ты же не будешь, правда?»
В ответ на что он ударился в воспоминания о какой-то поросшей мхом забвения истории пятнадцатилетней давности, когда он и впрямь ко мне очень активно приставал на глазах моего мужа и своей жены. Как ни странно, историю эту, несмотря на давность, он воспроизвел весьма реалистично, и все это для того, чтобы выяснить, не обиделась ли я на него тогда. Потому что, если обиделась, то должна его немедленно простить и поверить, что сейчас он такого безобразия не повторит. Для вящей убедительности он доверительно поведал мне, что он давно уже импотент, так что бояться мне нечего.
Однако, когда, выпив чаю, – то есть я пила чай, а Андрей прямо из бутылки какую-то жидкость цвета чая, но точно не чай, – мы отправились наверх искать для меня подходящую постель, он по-дружески посоветовал мне устроиться в Марьиной спальне: «Понимаешь, там единственная дверь с замком. Марья теперь на ночь от меня запирается, говорит, что я похабник».
Мы вошли в Марьины покои на втором этаже – там царил тот же образцовый беспорядок, но дверь и вправду запиралась. Я попыталась выпроводить Андрея на лестницу: «Ты иди вниз и пей, а я помоюсь, переоденусь и пару часов посплю».
Он с легкостью согласился и повел меня в ванную, напомнив мне на прощанье, чтобы я не забыла запереться. Я наскоро помылась, набросила халат и вернулась в Марьину спальню, старательно закрывши замок на два поворота. Но лечь в кровать мне не удалось – там уже, сладко похрапывая, спал хозяин дома.
Я на секунду опешила, но будить его не стала, а отперла дверь и отправилась на поиски другой подходящей постели. Для начала я поднялась на третий этаж в кабинет Андрея и не поверила своим глазам. Кабинет, как видно, только что отремонтировали, и там было безукоризненно чисто, стены были оклеены новыми обоями, диван не продавлен, нигде ни пыли, ни разрозненного бумажного мусора. В центре блестящего полированного поля письменного стола одиноко белела стопка бумаги – верхний лист был наполовину исписан размашистым крупным почерком. Не в силах преодолеть любопытство я, зная, что нехорошо читать чужие бумаги, все-таки прочла:
«Подумать только – голос такой чистый, речи такие возвышенные, такие культурные, а у самой – пизда!» (Цитирую по памяти, но главное охальное слово привожу точно, ибо до того, кажется, знала его только на слух.)
Опасаясь что-нибудь нарушить, я не решилась улечься спать в таком угнетающе аккуратном помещении и спустилась по лестнице в комнатку попроще, без дорогих обоев и полированного стола, но тоже чисто убранную. Она находилась в точности под кабинетом Андрея и представляла собой упрощенную его копию – на том же месте окно, диван, книжные полки, только все более скромное. В центре письменного стола вместо стопки писчей бумаги лежала открытая разлинованная тетрадь, исписанная аккуратным мелким почерком. Я наклонилась к ней и прочла:
«Она говорит так умно и понимает то же, что и я. Как странно думать, что она – женщина!» (Опять цитирую по памяти, не дословно.)
«Во дает Синявский! – восхитилась я. – Я всегда знала, что он человек с двойным дном, но могла ли я представить себе, как он, перевоплощаясь, бегает вниз и вверх по лестнице, чтобы разным почерком и разными словами писать хоть не то же самое, но похожее?»
В этом кабинете поскромней я и легла спать. И только к вечеру, проснувшись, обнаружила, что это детская двенадцатилетнего сына Синявских, Егора.
И что тетрадь тоже его.
И что Андрей пишет новую книгу, роман-исповедь «Спокойной ночи», пишет трудно, без радости. Но только когда книга эта вышла из печати, я поняла, почему Марье приходилось считать страницы – может, если бы она их не считала, он бы никогда ее и не дописал, так натужно и не по-синявски напряженно тянется текст и цепляются друг за дружку главы, задавая порой неразрешимую загадку – зачем они тут?
Зато потом, на кухне, пока я мыла чашки, Андрей увлеченно расписывал мне проект другой своей книги, за которую он возьмется, как только покончит с этой, будь она проклята! Та, другая, предполагалась быть о зловредном мальчишке, погубившем поочередно всех членов своей семьи, и имя ей было уже придумано – «Крошка Цорес». Образ крошки Цореса был Андрею душевно дорог и распалял в нем целую гамму чувств – с бутылкой в руке он метался из угла в угол, увлеченно выуживая из памяти зловещие детали гибели высоких и статных старших братьев маленького судьбоносного уродца. И мне было ясно, что я присутствую на редкостном спектакле – передо мною выступал истинный Андрей Синявский – Абрам Терц двойным дном наружу!
А вот другое воспоминание – намного позже, на целую жизнь: через несколько лет после нашего отъезда.
Мы сидим с Андреем и Марьей в очередном хлебосольном иерусалимском доме вокруг стола, уставленного всякой аппетитной снедью в честь заезжих знаменитостей. Они как раз завершили работу над первым номером журнала «Синтаксис», и речь за столом идет исключительно о журнальном деле. Правда, и хозяева, и остальные гости к этому делу никакого отношения не имеют, но все вникают в речи парижских гостей с глубоким почтением. Марья, гордясь собой и желая подчеркнуть свое превосходство, критикует нас с Сашей за неправильную позицию, политику, выбор авторов и все остальное журнала «22», а Андрей пытается ее урезонить: «Ну, что ты стараешься, Марья? Они же нам не компаньоны, а конкуренты».
«А это мы сейчас выясним, – восклицает Марья с очевидным подвохом. – Вот пусть скажут, зачем они журнал издают!»
И обращается ко мне – глаза ее искрятся разоблачительным восторгом. Я не сразу нахожусь, что ответить. Мы к тому времени только-только успели выпустить три номера журнала «22» и еще не доросли в этой деятельности до экзистенциальных вопросов типа «зачем» и «почему».
«Чтобы печатать те произведения, которые никто другой не напечатает», – наконец говорю я нетвердым голосом, как школьница, сдающая трудный экзамен и не уверенная в правильности ответа:
«Вот и дураки! – радостно объявляет Марья. – А я издаю журнал для того, чтобы меня боялись!»
И обводит присутствующих победительным взглядом.
А нам, лопухам, даже в голову не приходило, что кто-то должен нас бояться!
И ведь ни ей, ни нам не дано было предвидеть, что именно в нашем журнале, в номере 48, через много лет появятся разоблачающие Андрея показания С. Хмельницкого под титлом «Из чрева китова», которые никто кроме нас не решился бы тогда опубликовать. Показания эти, как и их предыстория, заслуживают, возможно, отдельной книги – романа-триллера, не меньше, – а пока я попытаюсь рассказать о них в нескольких абзацах. Тем более, что 48 номер журнала «22» стал библиографической редкостью и даже в нашем архиве остался один-единственный, рассыпающийся на отдельные листочки, экземпляр.
Вот его зачин:
«Последнюю часть своего выдающегося произведения «Спокойной ночи» Андрей Синявский почти всю – больше ста страниц – посвятил мне… Я мог бы сознаться, что нахожу эту книгу плохой – безвкусной, вычурной, претенциозной… Но Бог с ней, с книгой. Поговорим о моем портрете, нарисованном в ней. Этот портрет ужасен. Я представлен… «скорлупой», из которой вырезана душа. Все гнусное, что может сказать человек о другом человеке, тем более – о долголетнем друге и соучастнике, сказал Андрей обо мне. Сказал, справедливо полагая, что в контраст с моей черной личностью его собственная безупречная личность чудесно высветится. Кроме того, тут веет и совсем высокими материями: философский дуализм, извечная борьба тьмы со светом. Потому что если я есть воплощенное зло, то сам Андрей получается воплощенным добром… Я защищаю себя еще и потому, что, публично очернив мою скромную личность, Андрей нарушил неписанный закон, соблюдавшийся нами долгие годы – закон молчания о вещах, которые нас обоих совсем не красили.
…Андрей хорошо описал появление в его, а потом и в моей жизни Элен Пельтье Замойской. Она была…символом иного, нам недоступного существования… А потом меня пригласили в особую комнату и я стал секретным сотрудником, «сексотом» или, если хотите, стукачом. С подпиской о неразглашении… И тут меня осенило. А. Д. встречался с Элен куда чаще меня. Не могли они обойти его своим вниманием. И задумал я узнать у друга правду. И гуляя с ним по Гоголевскому бульвару, сказал ему: «Слушай-ка, ты часто докладываешь о своих встречах с Элен?» И друг честно ответил: «Обычно раз в неделю». Потом дико взглянул на меня и спросил: «Откуда знаешь?» Так мы вступили в неположенный, по правилам Органов, контакт. Было установлено, что «курирует» нас один и тот же деятель и… мы договорились о координации наших докладов».
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































