Текст книги "Содом тех лет"
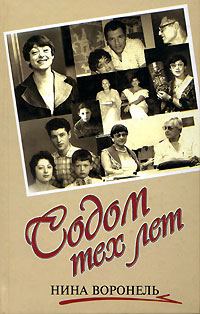
Автор книги: Нина Воронель
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 42 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
2. БЫТОВАЯ – и потому весьма вероятная.
Никто никого не искал, а если и искал, то неумело. Но Юлик, брошенный Ларкой, с горя отчаянно загулял, чтобы доказать самому себе, что есть еще порох в пороховницах. О том, как Юлика бросила Ларка, я еще расскажу в обещанной истории про вторую кошку, а о том, что вытворял сам Юлик, могу рассказать уже сейчас. Одному из наших общих друзей, неплохому харьковскому поэту К., вздумалось зачем-то – я надеюсь, не по заданию, а по собственной инициативе, – стать эротической тенью Юлика, то есть заводить романы со всеми его женщинами, которым не было числа.
К чести этих бессчетных дам выяснилось, что не только Юлику, но и харьковскому поэту К. удавалось соблазнить их без особого труда. И все они, как одна, нежась в постели с любознательным К., признавались, что неверный, но обожаемый Даниэль каждой из них – каждой, без исключения! – читал свои опубликованные «за бугром» повести. Нетрудно предположить, что кто-то из участников этого спектакля, – возможно, даже не один или не одна, – сообщали обо всем куда надо, а дальше все уже было проще простого: в квартирах всех подозреваемых поставили подслушивающие устройства, ниточка потянулась к Андрею, и двери тюрьмы захлопнулись с громким лязгом.
3. ДРАМАТИЧЕСКАЯ – вполне вероятная.
Ни для кого из современников процесса не секрет, что первая волна пошла по московским салонам после того, как где-то в конце 1963 года Сергей Хмельницкий потерял власть над собой за чайным столом Елены Михайловны Закс. Саша Воронель так хорошо описал этот небольшой эксцесс в 48 номере журнала «22», предваряя напечатанную там исповедь С. Х. «В чреве китовом», что мне не остается ничего другого, как его процитировать:
«Гости съезжались на дачу. Поздоровавшись с Еленой Михайловной и скинув шубы, проходили к столу, где янтарного цвета чай, заваренный в лучшей манере, разлитый в тонкие стаканы с подстаканниками, напоминал о старинном московском гостеприимстве, дореволюционной интеллигентности и сегодняшнем неустройстве. Впрочем, к чаю были коржики, скромные, но изысканные.
Гость, ворвавшийся позже других, с мороза раскрасневшись, не мог сдержать возбуждения. Торопливо выкрикнув: «Что я сейчас слышал! Что слышал…» – и обеспечив себе таким образом всеобщее внимание, он жадно уткнулся в горячий чай. Переведя дыхание, сообщил: «Только что… По автомобильному приемнику… Радио «Свобода»… Потрясающая повесть… «День открытых убийств»… Какой-то Николай Аржак… Невероятно… Невообразимо талантливо… Вся наша жизнь…»
Увлечены были все. Но с одним гостем определенно творилось что-то неладное. Сергей Хмельницкий краснел, бледнел, задыхался и, наконец, вскочил и заорал: «Да это ведь Юлька! Я – я сам – подарил ему этот сюжет. Больше никто не знал. Больше никто и не мог. Конечно, это Юлька…»
Я не знаю, …сколько стукачей присутствовало среди гостей, спустя сколько времени они доложили об этом случае и как подробно…»
Было много пересудов насчет мотивов Сережиного эмоционального взрыва. Находились и такие, которые утверждали, что он закричал нарочно, чтобы, когда Юлика посадят, отвести подозрение в доносе от себя и распределить его между всеми присутствующими. Сам же Сережа, даже спустя много лет, настаивает на том, что закричал просто сдуру, потрясенный услышанным, – ведь он и вправду подарил Юлику этот сюжет. Хорошо зная его несдержанную манеру, мы склонны в это верить, особенно потому, что потрясен он был не случайно – ведь он абсолютно ничего не знал о кознях своих закадычных друзей.
Как бы то ни было – один ли из гостей Елены Михайловны сообщил кому надо имя предполагаемого автора крамольной повести или сам Сережа, испуганный происшедшим, поспешил об этом сообщить, неважно. Важно, сообщил ли кто-нибудь? В случае положительного ответа все уже было просто. В квартирах всех подозреваемых поставили подслушивающие устройства, ниточка потянулась к Андрею, и двери тюрьмы захлопнулись с громким лязгом.
4. ОФИЦИАЛЬНАЯ (опубликованная через много лет в «Литературке») – и потому совершенно неправдоподобная.
Е. Евтушенко поведал миру, как один американский писатель, будучи у него в гостях, украдкой вывел его в ванную комнату, открыл краны на полную мощность, – чтобы перехитрить встроенные в стены микрофоны, – и поделился с ним добытыми откуда-то сведениями о том, что ЦРУ раскрыло КГБ настоящие имена Абрама Терца и Николая Аржака. Дальше все уже было проще простого, и даже подслушивающих устройств не потребовалось, чтобы двери тюрьмы захлопнулись с громким лязгом.
Но хоть сама Марья Синявская, по утверждению «Литературки», с готовностью подтвердила рассказ Евтушенко (а может быть, именно поэтому), версия эта слишком пестрит несовместимостями, чтобы можно было в нее поверить. Зачем, к примеру, было запираться в ванной комнате, чтобы рассказать историю, известную и ЦРУ, и КГБ, да еще немедленно после рассказа опубликованную в советской газете? А если ЦРУ и впрямь зачем-то выдало КГБ провинившихся писателей, как об этом стало известно таинственному гостю Евтушенко? Они что, сами ему об этом сообщили? И откуда Марья узнала, что все случилось именно по вине ЦРУ, – неужто они перед нею покаялись? И вообще…
5. ПОЧТИ НЕПРАВДОПОДОБНАЯ – и потому соблазнительная.
А что, если на миг предположить, будто весь этот непостижимо громогласный судебный процесс был задуман и затеян советскими властями специально для того, чтобы помочь Андрею стать в будущем крупномасштабным агентом влияния? Не простым скромным журналистом, в нужную минуту попискивающим из угловой колонки своей либеральной лондонской или парижской газеты в пользу тех или иных действий Советской власти, а настоящей международно-признанной фигурой, к мнению которой прислушивается даже американский президент? Потому что именно такой фигурой Андрей Синявский стал после процесса 1966 года.
Естественно, что такие идеи приходят не в каждую голову, а именно в мою – сюжетослагающую, но материала для их подкормки можно набрать больше, чем достаточно. Материал этот я кропотливо собирала по крохам в течение двадцати лет жизни за пределами России и просуммировала его, руководствуясь пушкинским «Кто жил и мыслил, тот не может в душе не презирать людей». И хочу на этих страницах подвести черту.
Начнем с самой идеи агента влияния. Разговоры о том, что такие агенты существуют, всегда бродили по интеллигентским салонам, особенно по зарубежным, но мне пришлось вживе встретиться и даже подружиться с сыном одного из них, архитектором Осей Чураковым. Само это знакомство началось при сомнительных обстоятельствах, в период отчуждения, когда после подачи заявления на выезд Саша затеял одновременно самиздатский журнал и неофициальный научный семинар, в результате чего мы оказались в неком специфическом вакууме. Кажущуюся цельность этого вакуума то и дело нарушали разные непредвиденные, жаждущие общения нонконформисты, среди которых непросто было отделить зерна от плевел, то есть понять, кто из них рвется к нам по заданию, а кто по собственной инициативе.
Проникнув к нам летом 1973 года при помощи одной весьма подозрительной богемной дамы неопределенной профессии, которая тут же исчезла с горизонта, Ося Чураков продержался в нашем кругу несколько месяцев, чтобы в один январский день 74-го покинуть нас внезапно и навсегда. Можно было подумать, что его «бросили» на новый объект, заменив кем– то другим. В Зазеркалье он еще пару раз «выходил на нас», словно призрак из прошлого, но об этих встречах я расскажу потом.
В любом случае, чтобы, раз к нам ворвавшись, надолго при нас задержаться, необходимо было вызвать у нас интерес к продолжению знакомства. Нужно признать, что Ося Чураков справился с этой задачей блестяще. Он заинтриговал нас не только своим живым умом и богатой эрудицией, но и подробностями своей биографии. Выявив перед нами свое совершенное знание английского языка, он, не скрываясь, признался, что получил образование в частной школе в Кройдоне, поскольку его папа много лет подвизался в Англии в должности политического комментатора одной из ведущих английских газет. Ося даже называл папино английское имя, что-то вроде Эрнста Генри, но не в точности, – которое папа после выхода на пенсию и поспешного отъезда в Советский Союз гордо сменил на вполне заурядное имя генерала-лейтенанта КГБ Чуракова. Осино отчество и соответственно папино подлинное – а впрочем, кто его знает? – имя, к сожалению, испарилось из моей перегруженной памяти.
Но идея агента влияния застряла там прочно, помогая мне время от времени находить ответы на затруднительные вопросы, которые ставила передо мной жизнь. Например – зачем Советским властям понадобилось поднимать такой шум вокруг, вообще-то говоря, незначительных прегрешений Аржака и Терца? Кому было выгодно привлечь к ним внимание всей мировой общественности? Кто бы заметил крохотные лодчонки их произведений, вышедших в необъятное море западной культурной жизни, переполненное литературными крейсерами и линкорами, не будь они взметены на гребень волны своим непропорционально шумным судебным процессом?
Можно, конечно, объяснить случившееся поразительной неуклюжестью и некомпетентностью советской системы. Но, насмотревшись за эти годы на действия других систем, я стала все больше и больше сомневаться в некомпетентности бывшей нашей. Я убедилась, что в некоторых областях международной жизни, особенно в пропагандистской войне, Советские власти проявили себя очень ловкими манипуляторами. Хитро используя иллюзию единства интересов мирового пролетариата, а позже лозунги антифашистского движения, они сумели создать многочисленные «боевые отряды» либеральной интеллигенции, которая не без их помощи прибрала к рукам многие контрольные вершины западного культурного мира.
Эти отряды, укомплектованные немногочисленной группой козлов-провокаторов и широкой массой не склонных к раздумьям идеалистов из студентов, профессоров и художников свободных профессий, хорошо сохранились и до наших дней. Они оказались на редкость жизнеспособными благодаря простой и мудрой системе недопущения инакомыслящих к контролируемому козлами-провокаторами интеллектуальному пирогу.
Хоть козлы-провокаторы обычно хорошо знают, с какой стороны хлеб намазан маслом, основная масса обычных членов их групп простодушно доверяет их умелой демагогии, много лет назад сформулированной в отделах дезинформации КГБ. Так, например, в начале восьмидесятых охарактеризовал покинутую нами «великую твердыню равенства и братства» один израильский актер, недовольный предложенной ему ролью диссидента в моем фильме: «Я не хочу разоблачать страну, где каждый гражданин может лечить зубы бесплатно». Играть роль диссидента он, правда, в конце концов, согласился – соблазн оказался выше убеждений.
Агенты влияния, несомненно, играли, а, возможно, и сейчас продолжают играть немалую роль в сохранении стройности боевых когорт прекраснодушных либералов. Я не знаю, кто их финансирует сегодня, но кто-то финансирует – тот, кому надо. Задача агентов – разрешать сомнения наивных и разоблачать «происки клеветников», а для этого им необходимы авторитет и доверие окружающих. Неправда ли недурно было придумано – создать грандиозную героическую фигуру преследуемого властями писателя, а потом выслать его на Запад для вящей убедительности того, что он скажет и напишет?
Внимательно вчитываясь в труды писателя А. Синявского, я невольно задалась вопросом: насколько его литературное наследие соответствует тому культовому образу, в который его превратил процесс Синявского-Даниэля?
И начала опрашивать встречных интеллигентов, как русскоязычных, так и западных, – читали ли они Синявского? Ответ я получила довольно однозначный: практически никто не читал, но все относились с почтением, – не как к личности, а как к мифу. Миф был создан умело и непререкаемо, культовая фигура была изваяна рукой скульптора-профессионала.
Мне могут возразить: не слишком ли высокая цена – целый судебный процесс ради такой малости? Но хороший агент влияния вовсе не малость, а крупная удача. Особенно если учесть, что к середине шестидесятых годов советским властям стало все трудней и трудней удерживать при себе капризных западных либералов. Так что имело смысл потратиться на судебный процесс. Как сказал по другому поводу Давид Самойлов после чудовищного землетрясения в Ашхабаде:
Господь, поскольку было надо,
не пожалел и Ашхабада.
А тут даже не Ашхабад – а всего лишь один зал суда, оплаченный из государственного кармана по безналичному расчету, и полтора десятка газетных статей, оплаченных тем же способом. При том нельзя отмахнуться от того факта, что это был первый политический процесс, о котором писали в советских газетах – зачем ИМ это понадобилось? И как получилось, что фотография наших друзей на скамье подсудимых, сделанная якобы исподтишка во время процесса и появившаяся сразу во многих западных газетах, оказалась по недосмотру фотографа снятой не из зала, а со стороны судебных заседателей? Неужели ее сделал сам судья? Или, может, даже прокурор?
А если да – то зачем?
Конечно, остаются еще вопросы, на которые нелегко ответить. Самый трудный из них – а как же Юлик? Его-то за что?
Ни при какой погоде не мог он быть посвящен в такой план и ни при какой погоде не согласился бы в нем участвовать. Он не стал бы ничьим агентом, хоть сидел тяжело, в Европу на льготных условиях не уехал и на обед к президенту США приглашения не получал. Однако мировую известность за компанию с Андреем все же приобрел. Согласился ли бы он за мировую известность на пять лет отправиться в лагерь тяжелого режима? Похоже, согласился бы – уж я-то знаю, как он радовался каждой новой вышедшей книге: мы по этому поводу всякий раз устраивали небольшой выпивон в узком кругу. Тем более, что он, как и любой нормальный человек, бессознательно надеялся на удачу – авось, его псевдонимное авторство сойдет ему с рук? Но что бы он сказал, если бы знал наверняка, что пять лет ему обеспечены?
А сам Андрей? Уж он-то, если поверить этой соблазнительной версии, не сомневался, что его ждут тюрьма и лагерь. Неужели его тщеславие было так велико, что он готов был смириться со всеми лишениями лишения свободы?
Во-первых, зная своих собратьев по перу, я склонна и на этот вопрос ответить положительно. Но писательское тщеславие – всего лишь верхушка айсберга. Там, в глубине, скрытые мощной толщей воды, хранятся более сложные тайны. Вряд ли нам когда-нибудь удастся узнать, что могло бы заставить Андрея принять предложение властей стать агентом влияния такой дорогой ценой, разве что Марья выдаст под занавес какой-нибудь свой вариант.
Остаются только догадки. Зачем, ради какой непонятной миссии возили Синявского в 1952 году в Вену на свидание с Эллен Замойской, как он сам туманно описывает в автобиографическом романе «Спокойной ночи»? Ведь он этого не объясняет и даже завесу тайны не приподнимает ни на миллиметр. Почему бы не предположить, что миссия состояла именно в соглашении о том, каким образом задуманная Андреем крамольная повесть «Суд идет» по написании будет передана Замойской и издана ею во Франции ко всеобщему удовлетворению? Причем вовсе не обязательно, что Замойскую посвятили во все тонкости хитроумного плана вездесущих органов, ей, небось, предложили какое-нибудь не слишком правдоподобное объяснение, которое она вынуждена была принять. Или притвориться, что принимает. Тем более что скорей всего ни у нее, ни у Андрея не было большого выбора – я ясно представляю себе, как во время этих переговоров они печально склоняют друг к другу головы, зажатые большими ржавыми тисками, чтобы не вздумали своевольничать. Они и не вздумали, а то бы им век свободы не видать! Как Раулю Валленбергу, например, который наверняка не понял, с кем он имеет дело.
А кто из нас бросит камень в того, кто в подобных обстоятельствах сдался бы на милость всесильного? Уж во всяком случае, не я – откуда я знаю, как бы повела себя в подобном случае я сама? Вряд ли бы стала своевольничать, но мне просто повезло, и никто мне голову ржавыми тисками не зажимал.
А что до лагерных мук, то надо еще выяснить, как велики были муки Андрея в лагере. Если верить слухам, Андрей свои шесть лет сидел на весьма сносных условиях, и на работу его гоняли не слишком усердно. Во всяком случае, не на такую тяжелую, как беднягу-Юлика, который шил варежки, до умопомрачения выполняя норму, так что у него обострился оставшийся от фронтового ранения остеомиелит, и кость предплечья начала расслаиваться, вонзаясь в мясо сгнившими осколками.
Впрочем, можно ли верить слухам? Злопыхателей и завистников на свете много, так что лучше всего полагаться на собственные наблюдения. Основываясь на собственных наблюдениях, я могу сказать наверняка – Андрею в лагере никто не мешал и не запрещал писать. Я своими глазами прочла великое множество законно присланных им Марье из лагеря писем – это были готовые главы из «Прогулок с Пушкиным» и из «Голоса из хора». Это означает, что у него была бумага и ручка, было время и силы писать, и возможность отправлять написанное по почте.
И невольно хочется сравнить все эти блага с судьбой другой книги, написанной в тех же мордовских лагерях, – с «Мордовским марафоном» главного героя «Самолетного процесса», Эдуарда Кузнецова, в расшифровке и издании которой мне пришлось принимать непосредственное участие.
Когда уже в Израиле нам предложили заняться тайно переправленной из СССР рукописью этой книги, мы открыли коричневый бумажный пакет, вытряхнули его содержимое на стол и обомлели – на столе высилась небольшая кучка крошечных (2,5 см на 4 см максимум) листочков какой-то странной, тонкой, как кисея, особенной бумаги. Каждый листочек был густо исписан с двух сторон мельчайшим бисерным почерком, так что невооруженным глазом невозможно было прочесть ни слова.
Что можно было с этим сделать? Мы нашли единственный выход – сфотографировать каждый листочек с большим увеличением. Эта работа оказалась очень дорогой, своих денег у нашего скромного культурного фонда на нее не было, и, я помню, мы долго торговались с заинтересованной в рукописи Кузнецова конторой о том, какую часть они оплатят. Полученный после проявления и увеличения результат требовал огромной работы по расшифровке, потому что каждый отпечаток был покрыт плохо проступившими слипшимися строчками. Расшифровкой рукописи занялась Наталья Рубинштейн, бывшая специалистка по расшифровке рукописей из ленинградского музея Пушкина, которая воистину героически довела ее до читабельного вида.
Но не в расшифровке листочков Кузнецова состояла главная трудность создания книги «Мордовский марафон». Главную трудность должен был до того преодолеть сам автор, чтобы ее написать и переправить из лагеря на волю. Э. Кузнецову было запрещено не только писать, но даже просто иметь ручку и бумагу, причем за каждое мельчайшее нарушение запрета его сажали в карцер. И все же книга была написана, переправлена в Израиль и издана нашим фондом «Москва-Иерусалим».
Как же Кузнецов сумел это сделать? Проще всего обстояло дело с ручкой. Ее в виде шарикового стержня умудрялась передать ему при свидании тогдашняя его жена Сильва Залмансон, а он этот стержень – благо, маленький, – прятал на день в каком-то тайнике. Ночью, когда сотоварищи по бараку – и друзья, и стукачи, – засыпали, Эдуард, отвоевавший себе место на верхних нарах, пристраивался у слепого окошка и писал свой роман мельчайшим почерком при свете мигающего неподалеку сторожевого фонаря.
На чем же он его писал? Откуда брал эти крохотные листочки? Это были обрывки промасленных бумажных прокладок для конденсаторов, которые он тайком уносил из своего рабочего цеха. Их нужно было долго варить в кипятке, чтобы превратить в писчую бумагу. Поскольку передавать тайком такие листочки было очень трудно, Кузнецов писал на них самым убористым почерком, на какой был способен, выгадывая каждый квадратный миллиметр. После чего нужно было хорошенько спрятать исписанный листочек, чтобы его, не дай Бог, не нашли при шмоне. А главное – нужно было потом тщательно упаковать пачечку исписанных листочков в расчете на долгое хранение для последующей транспортировки на волю.
На упаковку шла верхняя оболочка разрешенной в лагере стограммовой пачки чая, сделанная из тонкой свинцовой фольги. Кузнецов сворачивал пачку листков рукописи в тугой свиток, заворачивал его в фольгу и обжигал полученный цилиндрик на горящей спичке, чтобы он запаялся. Когда наступало время трехдневного свидания с Сильвой, он перед уходом на свидание проглатывал цилиндрик вместе с большой дозой слабительного. В комнате для свиданий супруги Кузнецовы дожидались благополучного выхода цилиндрика из кишечника Эдуарда, после чего его тщательно мыли, и теперь уже Сильва проглатывала его перед уходом. Не знаю точно, сколько таких сдвоенных «заглатываний» понадобилось на передачу всей рукописи «Мордовского марафона», но я была среди первых, кто видел эти листки своими глазами. Они нисколько не напоминали красивые, белые, свободно заполненные крупным почерком Андрея листы рукописи «Прогулок с Пушкиным».
Кроме несоответствия ситуации с пересылкой текстов из лагеря я могла бы назвать еще несколько смущающих мою душу историй. Ну, как объяснить письмо-донос в ЦРУ на парижскую эмигрантскую газету «Русская мысль», не теряя при этом благорасположения к его авторам? Письмо, обстоятельное, на многих страницах, было написано где-то в начале 80-х. Оно обвиняло газету в самых чудовищных грехах:
1. В недостаточном знании и понимании поэтики А. С. Пушкина.
2. В недостаточном понимании событий, происходящих в СССР, в особенности в диссидентском движении.
3. В излишнем потакательстве православной церкви, тогда как интеллигенция СССР в массе своей состоит из атеистов.
За эти грехи предлагалось «Русскую мысль» поскорей закрыть, а положенное ей скромное финансирование передать авторам письма, гораздо глубже понимающим Пушкина, дабы они смогли издавать другую, лишенную указанных недостатков газету. Письмо подписали три богатыря: А. Синявский, Член Баварской академии искусств, Е. Эткинд, профессор-литературовед, специалист по современной французской литературе, и К. Любарский, главный редактор журнала «Страна и мир».
Не в силах противостоять богатырскому натиску именитых авторов письма, ЦРУ поступило тем проверенным гнусным образом, к какому склонны многие бюрократические образования, – оно переслало письмо в «Русскую мысль», предлагая, чтобы они сами разобрались с доносчиками. «Русская мысль» прореагировала стремительно – она немедленно опубликовала письмо-донос на своей первой полосе.
То-то шуму было! Ведь авторы письма все это время продолжали изображать из себя лучших друзей редакторов самой старой и престижной газеты российского эмигрантского сообщества. Они дружили как с Ириной Иловайской-Альберти, так и с Ариной Гинзбург, регулярно перезванивались и ходили друг к другу в гости, обмениваясь при встрече нежными поцелуями.
Я понимаю, что главная вина падает на коварное ЦРУ – ну зачем им понадобилось пересылать письмо в «Русскую мысль»? Только, чтобы посеять рознь и недоверие в эмигрантской среде. А не то, там бы и по сей день царили взаимная любовь и благолепие, которые Ф. Достоевский когда-то очень верно охарактеризовал словами – «стакан, полный мухоедства».
И все же, понимая пагубную роль адресата письма, хочется заглянуть и в личные дела его авторов. Трудно представить себе, что Андрей стремился издавать газету – он ведь терпеть не мог ни многолюдья, ни спешки, ни житейской суеты. Конечно, захватить в свои руки газету могла возжаждать Марья, обнаружившая, что издание «Синтаксиса» не приводит к так точно сформулированному ею желанному результату – «чтобы ее боялись». Газета этой цели, несомненно, могла бы служить лучше. Но стал ли бы Андрей пачкать руки доносом ради пустого Марьиного каприза?
А что насчет следующего «подписанта» – профессора Ефима Эткинда? Я не могу о нем написать ничего, – ни хорошего, ни плохого, – поскольку видела его всего один раз в жизни. Но не могу не пересказать любопытную историю, рассказанную лично нам с Сашей бывшим атташе французского посольства в СССР, Степаном Татищевым.
Началась она еще в те незапамятные времена, когда чтение и хранение произведений А. Солженицына каралось в Стране Советов тюремным заключением. Среди моих друзей есть, по крайней мере, трое, получивших изрядные сроки за чтение «Доктора Живаго» и «Архипелага ГУЛАГ».
Опасаясь за сохранность своих рукописей, А. Солженицын отозвался на серию дружеских писем одной из своих почитательниц, жены Эткинда – Кати, и тайно передал ей эти рукописи в Ленинград на хранение.
Когда над головой А. Солженицына собрались грозовые тучи и его арестовали, Эткинд с женой, естественно, испугались – ну кто бросил бы в них за это камень? И решили от рукописей избавиться. Но как люди интеллигентные, они не хотели уничтожать такую ценность и выбрали другой путь. Эткинд лично упаковал рукописи в большую хозяйственную сумку и повез их в Москву. Там он положил их в локер при камере хранения и запер ящик секретным кодом. Потом подошел к ближайшему телефону-автомату и набрал номер культурного атташе французского посольства, с которым до того имел дела как специалист по современной французской литературе.
Забыв почему-то, что все посольские телефоны прослушиваются, он четко продиктовал С. Татищеву номер локера и секретный код. Естественно, что когда Татищев приехал на Ленинградский вокзал, открыл локер и вынул оттуда сумку с крамольными рукописями, на плечо ему легла тяжелая рука майора Пронина, и он обнаружил, что окружен группой людей в штатском. В результате рукописи Солженицына были конфискованы, а Татищев и Эткинд почти одновременно отбыли во Францию – Эткинд, снабженный разрешением на постоянное жительство за границей, а Татищев, лишенный дипломатической неприкосновенности за попытку переправить за рубеж литературу, подрывающую существующий строй.
На чей-то вопрос, почему он вызвал Татищева по посольскому телефону без всяких предосторожностей, Эткинд ответил, что мысль о подслушивающих устройствах ему даже в голову не пришла. В этой точке своего рассказа Татищев, рожденный в аристократической семье в Париже, вдруг позабыл весь свой аристократизм и перешел на обыкновенный русский мат, выученный им за годы его дипломатического пребывания в Москве.
«Ему, трам-та-ра-рам, эта мысль в голову не пришла! – завопил он, трясясь от бешенства. – Хотел бы я увидеть, трам-та-ра-рам, такого советского интеллигента, у которого эта мысль хотя бы на миг в его трам-та-ра-рамной башке перестала гвоздить!» Надеюсь, никому не нужно объяснять, на что этот аристократ намекал.
Ничего не скажешь, в хорошем обществе оказался Андрей со своим письмом, предлагающем закрыть старейшую газету российской эмиграции! Правда, о покойном Крониде Любарском я ничего компрометирующего сказать не могу, – и потому думаю, что его взяли в компанию именно, как ничем себя не запятнавшего, – для камуфляжа.
Я понимаю, что все приведенные мной соображения – всего лишь косвенные свидетельства в пользу версии об агенте влияния, и вполне могут оказаться случайным набором разрозненных фактов. Но если в этой версии есть хоть доля правды, мне немного жаль Андрея-авантюриста. Ведь, садясь в тюрьму, – пусть хорошую, пусть милосердную, но все же тюрьму, – он вырвался из рядов и стал первым писателем земли Русской. Это немало, за это можно и пострадать! Но когда он вышел, он обнаружил, что место первого писателя земли Русской занято другим – за эти годы высоко взошла звезда Александра Солженицына.
И Андрею пришлось признать первенство Солженицына. Он, конечно, сделал это по-своему, по-Синявски, двулико и лукаво. Он сказал нам:
«Солженицын – писатель большой, он может позволить себе писать плохо. А я – писатель маленький, я должен писать только хорошо!»
Похвалил он Солженицына или обругал? Понимай, как знаешь.
Вариантов у меня получилось слишком много, и каждый грешит несовершенством. И поэтому ни один не может конкурировать с цельным образом кошки Мурки, изрыгающей проклятия в наглухо закрытой машине. Я не говорю о Юлике и Андрее – у них были свои дела и свои отношения с властями, я всего лишь настаиваю, что для нас все началось с кошки.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































