Текст книги "Содом тех лет"
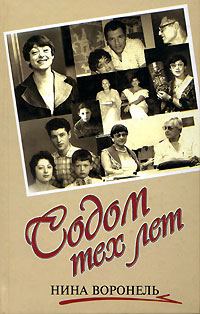
Автор книги: Нина Воронель
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 42 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
Но таланты Сюзен вряд ли грели душу бедной отвергнутой Франсис. Уже по дороге из аэропорта она попыталась посвятить меня в свою трагедию, – вероятно, в надежде на помощь и утешение, – но я, утомленная многочасовым перелетом, так и не смогла врубиться в душераздирающие переживания неразделенной лесбийской любви. Я и без того с трудом врастала в свой собственный новый образ преуспевшего драматурга – для начала, меня потрясла снятая для меня театром квартира в самом сердце артистической жизни, в Гринвич Вилледж, на Четвертой улице, совсем рядом с Вашингтон Сквер.
Во-первых, мое вселение в настоящую нью-йоркскую квартиру, снятую лично для меня настоящим нью-йоркским театром, полностью опровергало мрачные пророчества моих литературных собратьев. Во-вторых, это была и впрямь настоящая нью-йоркская квартира из тех, в каких живут настоящие нью-йоркские деятели искусств. Впоследствии мне пришлось повидать другие, куда более экзотические жилища художественной интеллигенции – от самых что ни на есть богемистых до отвратительно самодовольно-буржуазных. Но эта квартира была первой, и, в каком-то смысле, символической, и поэтому мне хочется изобразить ее во всей красе.
Размещалась она под самой крышей, так что в случае пожара из нее следовало удирать по крутой железной лестнице-стремянке, черным скелетом торчащей за окном. Состояла она из одной просторной комнаты невероятного роста, украшенной огромным стеклянным люком в потолке и хлипкими деревянными антресолями под потолком.
Лифта в доме не было, и мы с Франсис с трудом втащили наверх мой довольно увесистый чемодан. С грохотом уронив его в центре комнаты, Франсис пожелала мне хорошо выспаться и, всхлипывая, собралась было удалиться. Однако уже на выходе она вспомнила, что ей следует обучить меня пользоваться пятью вделанными в дверь запирающими устройствами различной сложности, одно из которых по прозвищу «полицейский штырь», действительно, представляло собой длинный стальной штырь, диагонально вылезавший из пола и упиравшийся в дыру, просверленную в стальном дверном полотне. Убедившись в моей способности всеми этими сложными агрегатами с грехом пополам оперировать, Франсис настойчиво велела мне запереться на все пять и никому ни за что не открывать.
Я пожала плечами – кто в этом городе мог бы потребовать, чтобы я ему открыла? Ах, как я была неправа!
Я так устала после долгого ночного полета, что решила, не распаковываясь и не принимая душ, кувыркнуться в чьей-то заботливой рукой постланную на антресолях постель и немедленно уснуть. Однако не успела я закрыть глаза, как в пол начали стучать чем-то металлическим, причем стук сопровождался пронзительными женскими воплями. Спать мне хотелось так сильно, что я преодолела шумовые эффекты и начала погружаться в блаженное небытие, чуть-чуть приправленное грохотом и визгом. Но очень скоро в этот сомнительный покой ворвались настойчивые телефонные звонки.
Чертыхаясь, я скатилась с антресолей по узенькой лесенке и, сонно побродив по комнате, отыскала в углу громко верещавший телефон. Я сняла трубку, и на меня выплеснулась невразумительная надсадная брань – похоже, соседка снизу проклинала меня за то, что я, принимая душ, затопила ее квартиру. Я, насколько могла доступно, попыталась внушить ей, что никаких луж я не налила, поскольку душа не принимала, и попросила ее успокоиться и дать мне спать. На что соседка взъярилась еще сильней, и действие стало развиваться в точности по басне Крылова про волка и ягненка – чем разумней были мои кроткие доводы, тем ожесточенней она требовала, чтобы я ее впустила с целью убедиться в правдивости моих утверждений.
С этим требованием она вскоре возникла под дверью и стала орать так громко, что я решила сдаться, только бы она замолчала. Я начала с грохотом отпирать замки, и соседка смолкла, очевидно предвкушая предстоящую ей рукопашную атаку. Но тут, где-то на третьем замке, который никак не поддавался, я вдруг вспомнила наставления Франсис, и струсила – черт ее знает, зачем эта баба ко мне рвется? Я послала ее куда надо и объявила, что не открою. Тогда она побежала к себе, и через полминуты заверещал телефон. Он продолжал верещать, пока после недолгого единоборства я не сообразила, что могу попросту выдернуть шнур из розетки. Осознав мой маневр, соседка еще минут десять с криками колотила в потолок, но, потом, по-видимому, отчаялась, и на какое-то время все стихло.
Я в полусне вскарабкалась на антресоли и с головой укрылась одеялом, но уснуть мне не удалось. Снова раздался громкий стук в дверь, и мужской голос потребовал открыть немедленно. «По крайней мере, не соседка», – промелькнуло у меня в голове, пока я, уже не спеша, спускалась вниз. Не подходя к двери, я довольно неприветливо спросила, кто там. «Суперинтендант» – ответил голос. Я напрягла все свои литературно-исторические познания, пытаясь вспомнить, что это за птица такая – суперинтендант, но на ум приходил только суперинтендант Фуше, глава тайной полиции Франции до, после и во время Наполеона.
Вскорости мои русские друзья просветили меня, что в Америке суперинтендант – всего-навсего дворник, но в то утро мысль о зловещей фигуре Фуше, двойника Берии и Ежова вместе взятых, вновь остановила мою руку, направленную на разгадку устройства не поддавшегося в прошлый раз замка. На мой вопрос, чего ему надо, таинственный суперинтендант сообщил, будто он явился по долгу службы навести порядок по требованию соседки снизу, так что я обязана его впустить.
Я к тому времени уже изрядно озверела и прорычала сквозь дверь, что я иностранка и никому в этой стране ничем не обязана. После чего взобралась на свои антресоли и рухнула в постель, стараясь не вслушиваться в стуки, шорох и призывные крики настырного суперинтенданта. Однако совсем отключиться от него тоже не получалось, и даже, когда он в конце концов убрался прочь, сон с меня как рукой сняло.
И слава Богу, так как заснуть бы мне все равно не удалось. Не успели заглохнуть на лестнице удаляющиеся шаги суперинтенданта, как многострадальная дверь моя подверглась новому испытанию – кто-то негромко, но настойчиво стал сперва в нее скрестись, а потом деликатно стучать по косяку костяшками пальцев, умоляя отворить ему безотлагательно, причем исключительно для моей собственной пользы.
Смирившись с тем, что поспать все равно не дадут, я на нетвердых ногах сползла с антресолей для выяснения личности новоявленного благодетеля, который во что бы то ни стало хотел войти в мою квартиру, чтобы без помех изложить свои соображения, бескорыстно касающиеся моей безопасности. Благодетель, по профессии, как выяснилось из его речи, свободный художник, а по этажу сосед, застенчиво признался, что наблюдал сквозь приоткрытую дверь, как я въезжала в квартиру со своим чемоданом. Он хорошо меня рассмотрел, и потому все утро с нарастающей тревогой следил за попыткой этих ужасных людей ко мне ворваться. Оба они наркоманы, работают в стачке и, верно оценив мою очевидную неопытность, решили поскорее ограбить меня, а то и надругаться. Так что я правильно поступила, не отворив им дверь, но ему я должна довериться, чтобы он с глазу на глаз мог познакомить меня с тайнами и пороками нью-йоркской жизни.
Несмотря на кроткие и рассудительные речи художника-благодетеля, я, не дослушав, бросилась к телефону, включила его в розетку и позвонила Марго. Марго долго не отвечала, но я продолжала набирать ее номер с упорством отчаяния, пока не услыхала, наконец, из трубки знакомый баритон, спросонья переходящий в бас. Услыхав о моих приключениях, она страшно взволновалась и велела мне, получше забаррикадировавшись, ждать ее прихода.
Справедливо предположив, что негодяй-суперинтендант может отключить мой интерком, она наказала мне затаиться у окна и нажать на кнопку парадной двери только тогда, когда она крикнет мне с улицы. Ворвавшись в подъезд, она появилась в моей квартире не сразу – она долго металась по лестнице вверх и вниз, грохотала чем-то железным и трубно пререкалась с жалким хором испуганно блеющих голосов. Ввалившись ко мне, она, раскаленная докрасна, плюхнулась в кресло и объявила, что больше никто меня не тронет.
И вправду, никто из моих назойливых соседей ко мне больше не обращался ни с дружбой, ни с угрозами, только суперинтендант, при ближайшем рассмотрении оказавшийся круглолицым молодым увальнем в усах, встречая меня на лестнице, подобострастно кивал с таким усердием, что я всерьез пугалась, как бы у него не отвалилась голова. Впрочем, встреч этих было немного, так как на следующий день я, отоспавшись, отправилась в театр и почти безвыходно провела там два месяца.
Здание театра ни одной архитектурной чертой не наводило на мысль о Мельпомене. Там не было не только греческого портика с колоннадой, там не было даже вешалки, с которой, как известно, положено начинаться театру. Неприветливая Пятьдесят Вторая Восточная улица выходила этим обшарпанным десятиэтажным зданием на Двенадцатую авеню, последнюю перед набережной Гудзона.
Место, по нью-йоркским стандартам, не из лучших: по вечерам улицы здесь пустеют рано, а в немногих жилых домах обитают в основном пуэрториканцы, о чем свидетельствуют задублированные по-испански объявления на парадной двери, запрещающие жильцам обогреваться газом. Большая часть окружающих домов, тоже угрюмых и потрепанных, мало подходит для жилья, в нижних их этажах чаще всего расположены гаражи или магазины по продаже подержанных машин; что происходит в верхних – ума не приложу.
Однако в неприглядном подъезде этого неприглядного дома, не украшенном ни вывеской, ни афишей, располагается даже не один театр, а два: «Интерарт-театр», приютивший меня с моими пьесами, и «Театр-студия ансамбль». Оба они довольно популярны в театральном мире Нью-Йорка. А театральный мир Нью-Йорка и есть театральная Америка, ибо никакого другого театра в стране практически нет. Есть, правда, Арена Стейдж в Вашингтоне – этакая попытка столичного репертуарного театра, единственного в своем роде, – да горстка провинциальных странствующих трупп, недалеко ушедших от любительских, но все остальное – это Нью-Йорк, Нью-Йорк и только Нью-Йорк.
Мой театр, хоть неказистый снаружи, полностью покорил и поглотил меня – на всех его четырех этажах, скрытых от постороннего глаза за угрюмым фасадом, текла, да и сейчас течет, настоящая жизнь – только уже без меня. Каждый этаж представляет собой огромную площадь, в начале дней своих пустынную и невидную, как наша планета сразу после ее создания Творцом. Но кропотливые пальчики подручных Марго давно превратили главную часть этой площади в большой зрительный зал с примыкающим к нему элегантным фойе, в дни спектаклей отведенным под художественные выставки.
Остальное немерянное пространство превратилось в полезные, хорошо обустроенные подсобные помещения. В хозяйстве Марго есть все, что требуется театру – административный отдел, видеолаборатория, отлично оборудованная костюмерная и декоративный цех.
К моему приезду в Нью-Йорк труппы обеих пьес были уже укомплектованы – претенденток на женские роли в «Матушке-барыне» было так много, что период «кастинга», то есть подбора актеров на соответствующие роли, занял больше месяца. С семью стариками в «Первом апреля» дело обстояло совершенно иначе – хитрая Марго пригласила для участия в спектакле самых отборных актеров, в прошлом знаменитых, но из-за возраста почти невостребованных. Ей даже удалось было заполучить на главную роль Катрин Хепберн, но в последний момент этот амбициозный проект, к нашему великому огорчению, сорвался – Генри Фонда пригласил ее в свой фильм «Золотой пруд», за который оба они получили Оскара. Что ж, как это ни обидно, Катрин Хепберн сделала правильный выбор – даже за самую что ни на есть замечательно исполненную роль в моей пьесе она бы Оскара не получила!
Марго, конечно, немедленно нашла другую актрису для главной роли в «Первом апреля» и приступила к репетициям. Репетиционный период продолжался месяц – каждый день в первой половине дня репетировали «Первое апреля», во второй после короткого перерыва на обед – «Матушку-барыню». Иногда я приводила на репетиции каких-нибудь русскоязычных приятелей, приземлившихся к тому времени в театральной столице мира.
В самых несбыточных мечтах о моих будущих успехах в новой жизни мне виделась порой восхитительная своей абсолютной нереальностью сцена. Я сижу за столиком элегантного парижского – или лондонского, или нью-йоркского – кафе в обществе пары блестящих молодых сценаристов – или драматургов, или режиссеров, – в нашей бывшей московской табели о рангах не признававших меня равной и смотревших на меня свысока. Я подношу к губам чашечку кофе и, изящно откинувшись на спинку стула, говорю с небрежной скромностью:
«Я и сама удивляюсь, почему этот парижский – или лондонский, или нью-йоркский – театр именно мою пьесу принял к постановке».
Но в глубине души, конечно, нисколько не удивляюсь – ведь я-то своим пьесам цену знаю! А оба молодых сценариста – или драматурга, или режиссера, – в прошлом не признававшие меня равной, опять не признают меня равной: они смотрят на меня снизу вверх и жадно ловят каждое мое слово, будто я Дельфийский оракул.
Главной особенностью этой идиллической сцены была абсолютная невозможность ее претворения в реальность. Но реальность оказалась изобретательней – капризно нарушив собственные правила, она усадила меня за столик вовсе не условного, а подлинного нью-йоркского кафе с двумя некогда блестящими, а теперь изрядно поникшими и уже не такими молодыми московскими львами, которые жадно ловили каждое мое слово, будто я Дельфийский оракул.
И не удивительно, ведь мы только что вышли с репетиции моих пьес, и у них уже не было сомнения, что почти два десятка американских актеров при участии дюжины американских работников сцены дружно разыгрывают написанные мною диалоги на настоящем американском – не путать с английским! – языке. Оба они уже немного потерлись в приемных театральных и кинозаведений Нового Света и с прискорбием обнаружили, что никто их там не ждет.
Один из них был совсем недавно взлетевший в московское театральное небо сценограф Игорь Димент, чуть ли не вчера оформлявший спектакли Ефремова во МХАТе. Не знаю, какие силы заставили его прервать столь завидно начатую карьеру, но в Нью-Йорк он прибыл, нисколько не сомневаясь, что любой Бродвейский театр выхватит его прямо из аэропорта. Он даже слайды со своими декорациями не потрудился привезти из Москвы, так он был уверен в своей известности и неотразимости.
«А они, невежды, оказывается, о моих спектаклях даже не слышали», – повторял он растерянно. Ему трудно было примириться с этим фактом, столь же ужасным, сколь непреложным: ведь в Москве «каждый», кто был кем-то, о нем знал! А кто не знал, того и упоминать не стоило!
Зато в Америке его никто не знал и знать не хотел. Ее культурный мир оказался полностью самодостаточным – в его театральном небе сияли другие светила, их вполне и даже с избытком хватало для удовлетворения местной потребности в духовной пище.
Под давлением жестокой реальности мои растерянные земляки, еще вчера полные уверенности в себе, постепенно оставляли заботу о несовершенстве мирового устройства, и начинали лихорадочно заниматься собственным устройством, что зачастую оказывалось задачей столь же невыполнимой.
Как-то ко мне на репетицию пришел известный в московском киномире режиссер Гена Габай. Он сел в кресло рядом со мной в последнем ряду и все три репетиционных часа, не произнеся ни слова, просидел, неотрывно глядя на сцену единственным глазом – второй был скрыт за черным наглазником, совсем как у Моше Даяна. По окончании сценического действа он некоторое время продолжал молча сидеть, пока я с трепетом ожидала его суждения, – я тогда еще верила в справедливые оценки своих российских коллег.
«Да, – произнес, наконец, Габай, поднимаясь с кресла. – Вот оно что…»
Тут он замолк, а я, волнуясь, продолжала ожидать, что он скажет. И он сказал:
«Так они, значит, пьесы берут! А я-то, дурак, чем занимаюсь!»
И, даже не попрощавшись, ушел, обдумывая, какие он мог бы написать пьесы и какие бы тогда открылись перед ним новые перспективы. Не знаю, написал ли он в Нью-Йорке пьесы, знаю только, что поставить ему не удалось ничего – «они» ведь и пьес не брали! То что «они» взяли мои пьесы было просто чудом. Напоминанием, что моя, хоть и маленькая, но неукротимая власть над миром, оказалась дееспособной и на новом континенте!
Раздел первый. В зеркале
Корней Чуковский и Лиля Брик
Хождение по театральным мукам не было началом моего литературного пути. Началом было мое знакомство с Корнеем Ивановичем Чуковским, к которому я попала чудом. Моя школьная подруга Лина работала в каком-то химико-технологическом институте вместе с его внучкой Люшей, и та по ее просьбе устроила мне визит к своему всемогущему деду. Когда по прошествии полувека я попыталась напомнить об этом Люше, она была крайне удивлена, – она знала, что К. И. высоко ценил мой перевод из Уайльда, но понятия не имела о той роли, какую она, Люша, сыграла в моей жизни. То, что произошло со мной после моего первого драматического визита в переделкинский дом К. И. было прижизненной реализацией сказки о Золушке, только я тогда этого совершенно не понимала. Я была еще очень молодая и, закусив удила, мчалась по стремительно стелющимся мне под ноги тропинкам своей судьбы, не слишком раздумывая о том, куда эти тропинки ведут. Все было так ослепительно весело и ярко, люди и события так круто завихрялись вокруг, что некогда было вдумываться в смысл разворачивающегося вокруг действа.
Чудеса начались с того момента, когда нам с Воронелем удалось прорваться в Москву. Весь предыдущий год, сразу по окончании университета, мы прожили в забытом Богом городишке Саранске, столице мордовской автономной республики. В Саранск нам посчастливилось пристроиться после недолгих, но изматывающих душу игр с Министерством просвещения, пытавшегося загнать Сашу учителем физики в памирский аул, в который от последней остановки автобуса нужно было добираться 120 км верхом на осле. Нельзя сказать, что голодный центр Мордовии, средоточия политических лагерей строгого режима, выглядел райским местом. Впрочем, о лагерях мы тогда понятия не имели, но всей кожей чувствовали гнетущую атмосферу тоски и отчаяния, до крыш заполняющую невзрачные улочки нашего временного прибежища.
Как потом оказалось, именно в это время, именно в этом, с позволения сказать, городе томился в ссылке знаменитый культуролог Михаил Бахтин. Но никто из нашего окружения о нем и слыхом не слыхал, да и имени его тогда никто не знал, так что мы даже не заподозрили, что где-то совсем рядом, в непроглядной стуже убогого саранского существования теплится огонек истинной творческой мысли.
Условия для творческой мысли были хуже некуда. Год шел 1955-й, друг детей товарищ Сталин умер совсем недавно, и еще очень немногие успели это осознать, тем более, что жизнь в стране продолжала катиться по рельсам, проложенным покойником хорошо и надежно. На полках магазинов столичного города Саранска не было никаких продуктов, и каждое утро, задолго до рассвета, у дверей булочных собирались огромные очереди, дожидающиеся открытия, чтобы с боем рвать друг у друга буханки кислого черного хлеба, самой съедобной составляющей которого были непропеченные комья холодной скользкой картошки. Лица у людей были изможденные и озлобленные, глаза без блеска, кожа без румянца.
Только через много лет я догадалась, что не только перманентная голодная диета, но и эманация десятков тысяч душ, замордованных где-то по соседству, накладывала печать смерти на лица жителей Саранска. Но тогда мне было не до мистики – мне самой необходимо было выжить, выжить чисто физически, то есть не умереть с голоду. И для этой цели я, не найдя никакой другой работы, подрядилась по путевке обкома партии читать в деревенских клубах лекцию на тему «Использование атомной энергии в мирных целях».
При перепечатке полуграмотная обкомовская машинистка превратила ее в лекцию об «Использовании атомного оружия в мирных целях», и с этой парадоксальной рукописью, утвержденной отделом пропаганды мордовского обкома, я поехала по городам и весям в надежде получить какие-то жалкие гроши за свои выступления. Состояние публики, насильно сгоняемой на мои лекции, с удивительной точностью соответствовало состоянию наземных путей, по которым меня на эти лекции доставляли. Лесные дороги, ведущие в районные центры и в большие деревни, осчастливленные наличием средних школ, были изрыты ямами и колдобинами, в которые запросто мог провалиться любой нормальный грузовик. Что он обычно и делал, подвергая себя и меня опасности утонуть, если в яме скапливалось достаточное количество воды.
Каких только чудес не насмотрелась я в своих путешествиях по мордовской земле! Однажды мой очередной попутный шофер резко затормозил при виде суетливой толпы, дружно ныряющей в довольно полноводную речку. На веселое народное купанье это было явно не похоже – дело было ранней весной, снег только-только стаял, и вода в речке была ледяная.
– Чего у вас там? – крикнул шофер, но ему никто не ответил. Мы пригляделись – мрачные мужики в ватниках и сапогах, матерясь и отплевываясь, тащили из воды на берег какие-то громоздкие, поблескивающие на солнце хвостатые рулоны. «Эх, мать-перемать! – догадался шофер. – Да это ж, никак, лошади!» И помчался вниз, к речке. Я побежала за ним и с содроганием увидела у себя под ногами трупы шести лошадей с неправдоподобно вздутыми животами. Утром их выпустили из стойла в поле – в первый раз после холодной зимовки – и они рванули к речке, чтобы напиться. А, напившись, так отяжелели, что не в силах были выбраться обратно на берег по причине чудовищного голодного истощения.
– Так и утонули, бедолаги! – философски констатировал шофер, пускаясь в дальнейший путь. Мы переправились через речку по хлипкому мостику и въехали на вершину невысокого холма. Небо было нежно-голубое. Едва начавшая пробиваться первая травка отливала изумрудной зеленью, и по этой благодати сомнамбулически бродили странные, лиловато-розовые существа, кое-где испещренные грязно-белыми и темно-серыми пятнами.
– Кто такие? – изумилась я, не в силах охватить происходящее своим наивным разумом балованного городского ребенка.
– Коровы это! Не видишь, что ли? – сердито рявкнул мне в ответ шофер.
– А почему розовые? Порода, что ли, такая? – не унималась я. Шофер в сердцах щедро сплюнул за окно:
– Какая на хрен порода? Шерсть у них с голодухи повылезала. Голые они, вот и розовые!
В районной школе, в которую он меня привез, я должна была читать лекцию местным учителям, и, чтобы не ударить в грязь лицом, я старалась представить им материал как можно научней. В их деревне не было ни одной уборной, – нужду справляли прямо на огородах. Но я этого не знала и потому не могла понять, почему, слушая мой рассказ о хитром устройстве ядерного котла, учителя смотрели на меня такими странно пустыми, мертвыми глазами. Я только чувствовала парализующую неловкость от их напряженного молчания, и мысль моя металась в ужасе: а вдруг то, что я им рассказываю, выдает мою неопытность и неосведомленность? Мне и в голову не приходило, что они просто не понимали ни слова, потому что в борьбе за жизнь давно забыли и физику, и химию, и всякую прочую гуммиарабику.
Наконец, мне удалось вырваться из этого кошмара и пуститься в обратный путь, в свой милый, издалека казавшийся даже уютным, Саранск – ведь в моей квартире была хоть немного дымящая, но все же обогревающая угольная печка и уборная со сливом! Однако счастье мое было неполным – попутной машины найти не удалось, и меня отправили на железнодорожную станцию в легкой однолошадной телеге, возвышающейся на крупных деревянных колесах без рессор. Ехать было недалеко, километров десять, но, как говорят в Одессе, если вы не ездили по проселочной дороге на телеге без рессор, так лучше и не пробуйте.
К концу путешествия меня так растрясло, что я почти ползком добралась до вагона, нечеловеческим усилием преодолевая страшную боль, раздирающую мои внутренности. По приезде выяснилось, что у меня открылась язва желудка – то ли от саранского хлеба, то ли от охватившей мою душу депрессии, то ли и от того, и от другого. Ведь тогда казалось, что мы обречены навек оставаться в Саранске, где для меня не было другой работы, кроме чтения этих дурацких лекций. И убежать откуда было просто опасно – министерство, правая рука которого не знала, что делает левая, все еще продолжало разыскивать Сашу.
Чтобы не умереть от тоски, я отправилась в библиотеку пединститута, не подозревая, что именно там поджидает меня Судьба «с большой буквы». Роясь среди пыльных книг, я наткнулась на тоненький томик в затрепанном бумажном переплете, озаглавленный «Антология англо-американской поэзии», – видимо, в сознании составителя такой кентавр существовал. Почти каждому представленному в этой антологии англо-американскому стихотворению был предпослан советско-русский комментарий вроде такого: «Здесь представлена картина, типичная для капиталистического общества: по трупу умершей от голода молодой матери ползает осиротевший младенец в поисках ласки и тепла».
Перелистывая этот шедевр социалистического реализма, я обнаружила где-то в конце его странную поэму, написанную очень длинными строками, полными внутренних рифм, и не снабженную никаким комментарием. Поэма принадлежала Эдгару Аллану По и называлась «Ворон». Я не заметила, как пролетело время. Мучительно продираясь сквозь свое сомнительное знание английского языка, я все глубже и глубже погружалась в мистический мир дрожащих теней, шелестящих крыльев и беспредельного отчаяния, многократно скрепленного вечной печатью слова «Никогда!» Я очнулась только тогда, когда библиотекарша раздраженно повторила – наверно, уже не в первый раз: «Граждане, сдавайте книги, библиотека закрывается».
Домой я летела, как на крыльях, на тех самых, шелестящих. шуршащих, трепетных крыльях «Ворона». Депрессию мою как рукой сняло, я точно знала, что мне надо делать: прийти в библиотеку завтра утром, переписать поэму Эдгара По и перевести ее на русский язык. Я не задавала себе вопроса, умею ли я переводить и не перевел ли уже поэму кто-нибудь другой – это было несущественно: Я ДОЛЖНА БЫЛА ЕЕ ПЕРЕВЕСТИ. Иначе не стоило жить!
И я ее перевела! На это ушло каких-то полгода жизни, но это была настоящая жизнь! Есть строки, которыми я горжусь и по сей день, почти через полвека:
Окна сумраком повиты… Я, усталый и разбитый,
Размышлял над позабытой мудростью старинных книг.
Вдруг раздался слабый шорох, тени дрогнули на шторах,
И на призрачных узорах заметался светлый блик,
Будто кто-то очень робко постучался в этот миг,
Постучался и затих.
Ах, я помню очень ясно: плыл в дожде декабрь ненастный.
И пытался я напрасно задержать мгновений бег.
Я со страхом ждал рассвета – в мудрых книгах нет ответа,
Нет спасенья, нет забвенья, беззащитен человек,
Нет мне счастья без Леноры, словно сотканной из света
И потерянной навек.
Темных штор невнятный ропот, шелестящий смутный шепот,
Шепот, ропот торопливый дрожью комкал мыслей нить,
И стараясь успокоить сердце, сжатое тоскою,
Говорил я сам с собою: «Кто же это может быть?
Это просто гость нежданный просит двери отворить.
Кто еще там может быть?»
Никогда не улетит он, все сидит он, все сидит он,
Словно сумраком повитый, там, где дремлет темнота.
Только бледный свет струится, тень тревожно шевелится,
Дремлет птица, свет струится, как прозрачная вода,
И душе моей измятой, брошенной на половицы,
Не подняться, не подняться,
Не подняться никогда!
И вот с этим переведенным мною «Вороном» я отправилась по Люшиной рекомендации к великому мэтру перевода Корнею Ивановичу Чуковскому. К тому времени мы уже перебрались в Москву – рассказ о том, как нам это удалось и как нам там жилось, занял бы много страниц, и я его опущу.
Оказавшись в Москве, я занялась розысками и обнаружила другие переводы «Ворона», сделанные известными поэтами – Бальмонтом, Брюсовым, Зенкевичем…
И, к моему ужасу, эти переводы мне не понравились – ни один! Я сравнивала их с оригиналом и не находила в них ни его завораживающего ритма, ни его волшебной музыки, ни его трепета. И потому я решилась показать свое детище самому почитаемому мною ценителю.
С самого начала мое путешествие в дачный писательский поселок Переделкино развивалось по законам мелодрамы дурного вкуса. Мне было назначено явиться в пять часов вечера. Когда я села в вагон пригородной электрички, отправлявшейся с Киевского вокзала, за окном угасали мирные декабрьские сумерки. Однако, когда через полчаса я вышла из вагона на Переделкинской платформе, там бушевала редкая для московских широт снежная буря. Не знаю, оказался ли там эпицентр урагана или это были козни потусторонних сил, но воистину мело «по всей земле, во все пределы» – хочется сказать «Переделы».
С трудом продираясь сквозь сокрушительные порывы совершенно полярного ветра, я побрела по колено в снегу без дороги неведомо куда, ослепленная и оглушенная яростью сорвавшейся с цепи природы. Как я потом узнала, путь от станции Переделкино до писательского поселка можно пройти за двадцать минут, но у меня ушло часа полтора, чтобы добраться до дачи Чуковского, – пурга погасила все уличные фонари и спросить дорогу было не у кого: улицы словно вымерли.
Когда я, промокшая и продрогшая, отыскала, наконец, нужный дом, было уже не пять, а шесть часов, но я все же осмелилась позвонить – не поворачивать же было обратно? К тому времени над притихшим поселком уже воцарился тот особый, почти безмятежный покой, какой бывает после бури. На мой звонок открыл сам Корней Иванович и воскликнул с лукавой усмешкой: «Явилась все-таки? Ну, героиня!» Можно было подумать, что он нарочно организовал эту пургу, чтобы проверить меня на прочность.
Однако прочность моя уже подходила к концу, – меня била дрожь, и голова кружилась от холода, голода и напряжения. Окинув меня проницательным взглядом, К. И. крикнул в глубь дома:
– Маша, принесите какие-нибудь сапоги, а то с нее уже лужа натекла!
Пришла домоправительница Маша, ворча, забрала мои мокрые одежки и выдала мне взамен сухие сапоги, толстые шерстяные носки и просторный тулуп. После чего К. И. объявил: «А теперь мы пойдем в Дом творчества, у меня там свидание. Раз уж вы опоздали, слушать ваш перевод я буду потом, когда вернемся».
И повел меня по слабо расчищенным дорожкам в святая святых литературной жизни. Кто знает, может, если бы не пурга, вовек бы мне туда не попасть!
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































