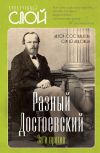Текст книги "Достоевские дни"

Автор книги: Оганес Мартиросян
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
9
Вечером смотрел «Несколько дней из жизни Обломова», будто биографию Москвы, к которой приехал Питер, забрал у неё всё, и жену, и имение, но потом всё поменялось: Москва вернула своё. Грыз сухарики, но они быстро ему надоели. Просто ушли в ничто, равное солнцу, земле и луне. Долго не мог уснуть, но задремал, погрузился сознанием в колодец, хотя должен был подниматься на Тайбэй. Встал в шесть утра, поработал, написал в романе своём: «Кино – это скальп, снятый с действительности, потому что идёт война; скальп продают, получают хорошие деньги, гуляют и снимают девок, ведут их в ресторан и в кино, где с экрана Мастроянни говорит: страница книги есть скальп Иисуса Христа». Он перекусил, съел бутерброд и двинулся на тренировку. Бегали по кругу, делали кувырки, разминали шеи, руки и ноги, разделились на пары, боролись, роняли друг друга, укладывали на лопатки, удерживали, снова бегали, потом качали части борцовских тел, готовились к соревнованиям, местным и областным.
«Друга долго не было дома, он был на работе, Найдёныш быстро в этот день продал товары, замёрз, не пошёл в магазин, на кухне нашёл две сосиски, сварил их, заварил чай, сел обедать, а тут пришёл друг, Найдёныш встретил его, помог раздеться, расспросил о работе, провёл на кухню и вдруг понял, что сосиски последние. Он застыл, понял, что друг хочет есть, усадил его за стол, подвинул ему свои сосиски, но друг отказался – понял: это сосиски Найдёныша. Не стал есть, но тот показал ему, что он сыт и ничего не хочет уже. Друг заупрямился, Найдёныш начал божиться, объяснять, что сосиски ему не нужны, что он сейчас выпьет чай и станет вязать или спать. Друг съел сосиску, Расторопша обрадовалась, будто насытилась, заварила чай другу и себе, сделала два бутерброда с сыром, съела один, второй поставила к чашке друга и ушла в комнату, чтобы не мешать».
Вернулся домой, прилёг и уснул, как Дудаев бросил вызов Москве.
Вечером с Надеждой поехал на мероприятие, на «СИБУР АРЕНУ», на битву Кавказа с Россией, на ринге, в клетке, как угодно, где угодно, хоть везде, хоть сейчас. Вышел рэпер Тринити и читал под бешеную музыку свой текст, встречая Вараздата Гамбаряна, зверя, выходца с гор, и так напряжение возросло, потому что любая арена – бомба, брошенная в город. Появлялись хачи и русаки, проходили в ноги, бились в стойке, летели хай-кики и лоу-кики, Георгий Ломидзе даже сломал руку о голову быка, но продолжил бой, возвёл Армению, Грузию и Чечню над собой, не обрушив вниз, удержав. Зал кипел и ревел, махал флагами, снимал на телефоны, орал свою жизнь, здоровье и суть. «Раньше власть репрессировала писателя, теперь на её месте – народ». На улице они погрузились в дао, окунулись в него, пропустили советскую делегацию философов из провинции 1937 года, умершую уже, но живую, идущую, декламируя тексты Платона, беседуя его диалогами и распивая тархун при этом, заглатывая его, оглядываясь, целуясь глазами с Санкт-Петербургом, идущим в кино, но не существующим в реальности или как раз имеющим место в нем быть. К Фёдору и Наде вскоре подошёл Трифонов, представился дискретностью, без которой были бы невозможны его работы, назвал их философскими, а самого себя – философией, дискурсом и мышлением, сказал, что мышление зависит от мышц в голове, зовущих человека в тренажёрные залы – библиотеки и книжные магазины, закурил, выдохнул «Время и место», «Дом на набережной» и «Долгое прощание», выпил пива из горла и повёл новых знакомых в музей Достоевского. Там их встретил когнитивный диссонанс писателя, мучавший его в последние годы и вышедший из него, из его сознания в виде книги «Братья Карамазовы», самой болезни, без которой писатель был невозможен, попросту не был, потому и скончался, разложился на буквы, ушедшие в землю, чтобы представить её как текст, чёрный, потому что – черновик, скомканный в шар и брошенный в урну, где все ныне живут. Трифонов повёл друзей уверенно в комнату, дальнюю, тёмную, откуда веяло всеми психиатрическими больницами мира, в ней был большой вакуумный стеклянный шар, в котором клубилось, дымилось, вещало, писало, показывало и говорило нечто.
– Это душа Достоевского, – сказал Трифонов и сфотографировал её.
– Я так и поняла, – прошептала Надежда.
– Отсюда черпают вдохновение все писатели мира, даже если они в Австралии или США, – произнёс Юрий.
В шаре душа принимала разные формы, пока не застыла в виде огромной книги с надписью «ДФМ». «Это он сам, книга его жизни, написанная им, где он пишет о своей жизни и смерти, со стороны, извне, живёт свою биографию, рождение, учёбу, петрашевцев, приговор, письмо, женитьбы, успех, признание, деньги и смерть – как запятую, поставленную им самим». Душа-книга произнесла губами – переплётом с сотнями языков – страниц:
– Странно жалеть слепого или глухого, так как мы имеем дело с огромным глазом или гигантским ухом вместо человека.
Трифонов отвечал:
– Буквы в книге или вывеске – глаза, смотрящие на нас. Они видят, они всё понимают, потому что мозг человека – миллиарды ушей, языков или глаз.
Надя сказала:
– Достоевский – психбольница и тюрьма, Толстой – город, в котором они.
– Достоевского – двое? – удивился Юрий.
– Он и его двойник, умирающий и рождающийся в мире, обычный человек или художник, композитор, поэт.
ФМ согласился с Надей, пошёл дальше с компанией, дошёл до рукописей ФМ, показал Юре то, что они шевелятся, ворочаются во сне. «Книга – явь, рукопись – сновидение, Сон смешного человека, вообще человека, который без руки или ноги – бог». Юрий сказал:
– Строки – рельсы, по которым бегут глаза – колёса поезда, читают, но иногда убивают, разрезают животное или человека.
Выбрались на улицу, пропустили мимо себя женщину, одетую в музыку и кино, и бога, шагающего нараспев, смеясь и хохоча над собой и людьми, он играл на гармонике и широко открывал рот без пары зубов, вытягивал Христа, сжимал его, расправлял, разжигал, растворял и разбрасывал ради всходов, чтобы народились миллионы Иисусов и произнесли:
– Голова ребёнка – смартфон, мужчины или женщины – компьютер или телевизор, исторгающие каналы, блюющие ими, дающие их.
Бог исчез за поворотом, откуда донёсся визг колёс и стартовала машина, «Бугатти» красного цвета от граната и от арбуза, улетев в далеко. Фёдор и Надя пошли на трамвай, Юрий зашагал влево от них, раскурив сигарету Ницше, исчез. А в транспорте он и она взялись за руки и встали на задней площадке, образующей лоб, но сзади. Стали его мышлением, не кичась этим, не торгуя Землёй. «Руки несут в себе прапамять передних ног лошади, верблюда, льва и его, охотящегося на них». Вышли на безымянной остановке, пошли по улицам, наполненным содержанием фильма «Однажды в Америке», будто стали евреями сто лет назад, встретили очередь у казённого здания, спросили, за чем стоят.
– Записываемся добровольцами в люди, – отвечал старик, – хотим быть людьми.
Надя на то улыбнулась, разулась и повела босой Фёдора за собой. Так они дошли до себя, пьющих пиво на лавке, миновали их и двинулись дальше – до Шелера, Ницше, Гегеля. Внутрь построений их, данных умами в прозе, разрезанным, чтобы каждый сумел войти. «Курить – впускать в себя свёрнутый египетский папирус, чтобы расшифровать древние письмена». За ними послышались топот и крики, их звали, на них орали. Они оглянулись и увидели десятки себя, бегущих с палками и цепями на них.
– Бежим? – спросила Надежда.
– Лучше застыть.
Они встали и пропустили мимо себя, помноженных вдвое и втрое, рассмеялись и зашагали за ними.
«Найдёныш играл с хомячком, перекладывал его из ладони в ладонь и тихонько урчал, хомячку, судя по всему, это надоело, и он укусил Найдёныша. Тот вскрикнул от боли и побежал к другу, на кухню, показывая раненый палец. Тот встревожился, обнял Найдёныша, обработал йодом ранение и забинтовал палец Найдёнышу. Успокоил его. Посадил на кушетку и напоил чаем через десять минут. Сел вблизи Расторопши и отвлёк её от боли рассказами и шутками из жизни и книг».
Купили две банки «Колы», выпили, наступили на них, закрепили на ногах и загремели. Как привет из девяностых, акушерами которых работали братья Квантришвили, вытаскивая по году из чрева России, раздвинувшей ноги и рожающей их.
«Утром друг объяснил Найдёнышу, что пора идти в церковь. Тот встревожился и обрадовался, надел чёрные чулки, чёрное платье, платок и встал у дверей. Друг тоже собрался, взял за руку Расторопшу и повёл за собой. У дверей храма они встали, друг перекрестился трижды и поклонился. Найдёныш повторил за ним. Внутри они купили свечки и зажгли их. Расторопша немного поторопилась и уронила свечки других. Испугалась. Стала исправлять промашку и погасила все свечи. Свою уронила вниз. Друг заметил это. Он отвёл Найдёныша к иконе Георгия Победоносца, велел молиться ему. Сам пошёл и зажёг поочередно потухшие свечи. Снова перекрестился и увёл Расторопшу. На улице купил ей мороженое, сделал с ней пару кругов вокруг дома и завёл её внутрь».
Расстались у памятника богу в форме того, чему нет описания, Фёдор пошёл к себе, Надежда уехала на такси, рычащем, как пёс, увидевший сучку – женскую модель машины, желая совокупиться с ней.
«Найдёныш в свободное время начал сочинять, писал сказки о лисичке, зайчике, кролике. Радовался самому факту заполнения бумаги своим почерком. Скрывал созданное от друга, чтобы потом сделать сюрприз. А когда сборник был готов, он сходил в издательство и отпечатал двадцать пять экземпляров. Часть разослал в издательства, остальное принёс домой. Надписал один экземпляр и подарил его другу. Тот опешил слегка, прочёл дарственную надпись и поцеловал Расторопшу в лоб. Та издала звук и пошла варить борщ».
Шагал по улицам, вдыхал ароматы булочных и пивных, наслаждался летом в разрезе, в который засунули дольку лимона и ветку жасмина, не курил, так как не хотел слишком большого кайфа, одиноко шествовал, улыбался девушкам сердцем, отрезал от него куски – бутоны роз – и дарил их красоткам, выпил минеральной воды из автомата и поднял десять рублей на орле, на счастье себе и всем. «Философия – мать всех наук, а Всевышний – отец, раз вначале было слово – чёрные буквы – из Африки, потому сходится всё: жизнь зародилась в ней, но зубы – это буквы, а у африканцев они белее белого: африканцы – электронные книги с чёрным фоном и белыми буквами: они не отсталыми были, а превзошедшими своё время, роботами, устройствами, и их обращали в рабство, запирали, как психов сейчас, так как причина одна». Зашёл домой, включил свет, разулся, искупался, помыл полы, кинул одежду в стирку и написал:
«Скоро пришёл ответ от крупного издательства, книгу Найдёныша одобрили, прислали договор, требующий подписания. Найдёныш радостно заурчал, сделал подпись, отправил бумаги, через несколько дней получил гонорар, сходил в магазин, купил шампанское, торт, курицу, шоколадные конфеты, колбасу, картошку, сардельки, большую сдобную булку и много чего ещё, загрузил всё в тележку, вышел, переложил всё в пакеты, не смог их поднять, задумался, но друга не стал беспокоить, тем более тот был на работе, вызвал такси „Алёша“, попросил водителя помочь, приехал домой, расплатился уже внутри квартиры, надел передник и приступил к готовке».
ФМ включил телевизор и стал смотреть «Обитель проклятых», чувствуя, что этот фильм о нём и о тех, кто ещё не родился, в какой-то момент начал видеть себя на экране, переключил на «Телепорт» и стал вникать в это кино, почему-то решил, что зрачки – два входа в одну нору – мозг, а всё, что человек видит, – это суслик или хомяк, порождающий потомство в каждой голове, сознании и уме. И эти детёныши вырастают, покидают жилище и живут отдельно от родителей, порождая себе подобных во вселенных – полях.
«Друг вернулся с работы и ахнул, стол ломился от яств, горели свечи, был приглушённый свет от них и от ламп, свет не проникал из окон, так как его держали занавески, Найдёныш скромно стоял у дверей и держал в руке ложку. Он обнял друга, помог раздеться, принёс воды, умыл его, показал договор и застыл. Друг не поверил глазам, увидев сумму и тираж, пришёл в себя, поцеловал Расторопшу, обнял её и повёл к столу. Открыл шампанское, напугав Расторопшу, налил ей и себе в стакан, успокоил её. А вечером, после торжеств, он сидел и читал на кухне, когда Расторопша пришла к нему. Он поднял глаза: она внимательно смотрела на него. Он не понял, тогда Расторопша наклонилась и сказала на ухо. Он удивился, после чего объяснил ей раздутость её живота продуктами питания и выпивкой. А того, что подумала она, не могло быть, потому что того между ними ещё не было. Расторопша с грустью ушла, друг продолжил читать».
Уснул в среду, проснулся во вторник и в четверг, долго лежал, соображал, возвращался, пил метафизическое вино, пожёвывал сигарету, найденную у подушки. Отходил от сна, в котором он был Гоголем и его били десятки Достоевских. Тяжело, в общем, было. Будто силы уходили от него, словно он умирал, отдавал.
«В выходной день Найдёныш поехал по делам, долго отсутствовал, а когда вечером вернулся, то замер: на столе стояли цветы и возвышался торт. Он не помнил о своём дне рождения, а друг знал, хранил в памяти его. Найдёныш издал звук, пошёл мыться, искупался и вернулся в чистой одежде. Встал у стола, ожидая того, что скажет или сделает друг. Тот зажёг свечи. Ровно тридцать семь штук. Найдёныш дунул и их погасил, свёл к нулю свой возраст, захлопал в ладоши, но перестал, поймав строгий взгляд друга. Тот нарезал торт, достал вино, разлил его, сказал тост в честь Найдёныша, даже обнял его, и они выпили и начали есть, радуясь миру, людям, себе».
Собрался с силами, встал, выпил воды, побрился, пошёл в магазин, распечатал рассказ, поехал в журнал «Петербург», постоял у входа, так как редакция ещё не открылась, дождался приёма посетителей, поздоровался, отдал рукопись, взял телефон, обещал позвонить через неделю, ушёл, как Чоран встретил на улице Сартра, поехал домой в картине «Крик», которая была в виде маршрутного такси «Мерседес».
«Найдёныш напился вина, всё понял, встал, чуть не упал и на нетвёрдых ножках побежал в свою комнату. Друг пошёл вслед за ним. Там всё и случилось. Долго лежали вдвоём. Расторопша боялась, что после этого друг прогонит её, потеряв интерес. Но тот держал её за руку и беседовал с ней. Не курил и не спал. Расторопша дышала и шмыгала носом: приходила в себя».
Сошёл и стал Гаршиным, покончил с собой, собрал толпу, поехал в морг на скорой, где провели вскрытие его тела при помощи его души, дождался похорон, погружения в землю, в ней и в гробу он стал собой, вернулся в себя, силой мысли приподнял крышку гроба, откопал себя, пошёл в ресторан и заказал макароны из червей, съевших Гаршина.
Дневник писателя – поэзия,
Доставленная в город на Неве
Из Мьянмы, Гоа, Индонезии,
Живущая в ладонях – в голове,
Где каждая есть полушарие
С пятью конечностями разных чувств,
Пришедших из заката Дария
В рассветы Македонского и буйств,
В плакаты позже Маяковского,
Который своей жизнью повторил
Судьбу всего живого, плотского,
Чтоб плотник вдвое выше был стропил,
И были мёртвые повешены,
И пенис был ключом замков – вагин,
О, Достоевский – это женщина
Как сумма всех детей её – мужчин.
10
После макарон выпил бутылку коньяка, выдавил себе в рот дольку лимона, положил, даже уронил голову на руки, закрыл глаза, окунулся во мрак, но через пару минут вскочил на стул и начал выбрасывать слова:
– Да, возраст как отнятие сил, слабость по утрам, самоуничтожение, отдача полностью себя творчеству, себе – ничего, искусству – всё, но сдаваться годам – самое последнее дело, можно уступить деревни, города, но только для того, чтобы пружина сжалась, ударила в ответ через время, нанесла поражение врагу; силы надо копить, но иногда их больше оттого, что ты их отдаёшь, не надо бояться, нужно идти вперёд, ломать, крушить, жечь врага рода человеческого, который зачастую – он сам, но молчать больше нельзя, потому что задача писателя – вести всех вперёд, хотят они того или нет, иначе – старение, болезни, смерть и распад.
Он взобрался на стол и продолжил:
– Поражение – смерть, не поспоришь, пусть так, ты исчез, ты растворился, рассеялся, но это смешно – вспомните евреев или армян, они есть, они будут, а именно смерть с ними приключилась, но они восстали и собрались, стали сильней, не исчезли, так и отдельный человек, умер, но соберётся, вернётся, будет в точности собой или лучше, сожмёт себя в кулак и создаст фильм, книгу, самолёт или храм, потому что такова природа отныне, она уступает, бросая все силы в бой, и потому становится ясно, что Земля – голова мёртвой обезьяны, которая становится вершиной живого человека, ищущей и находящей космос, тело и смысл, и в силу этого я хочу сказать: никогда не сдавайтесь, даже когда вы стали самим поражением, его частью, куском, затаитесь, замрите и ждите, помните – вы человек, а это без пяти минут Бог, созидающий самого себя из Ничто.
Он слез, дождался нескольких хлопков, расплатился и пошёл к выходу, чтобы дома выпить ещё и уснуть.
«Найдёныш с уже весьма округлившимся животом часто сидел в углу кровати и вязал, на нём был тёплый свитер и колготки, торговлей занимался всё меньше – хватало денег от книжек, да и друг зарабатывал и радовался тому, что Найдёныш дома, вяжет, печёт или спит. Расторопша иногда замирала и будто слышала что-то внутри, отвечала тому всем сердцем, волновалась душой, но не подавала и вида: просто жила себе и ждала лучших дней, хоть её всё устраивало: друг, работа и дом».
Но пить больше не тянуло, подкатывала тошнота, сартровская, иная, большая, он шатался, испытывал внутренний шторм, выходящий наружу и крушащий машины, мысли людей и дома.
«К Найдёнышу пришли брать интервью, он приоделся к такому событию, прибрался, нацепил на голову бант, вышел на кухню к журналисту, заварил чай, поставил вазу с конфетами и вафлями на стол, позвал друга, но тот остался в комнате. Расторопша отвечала на вопросы, прихлёбывала, смотрела большими глазами. Рассказывала про свою жизнь, детство, учёбу, замужество, друга, опыты литературы и т. д. Не обошла вниманием и свой бизнес, показала носки, варежки и тазик для пирожков. Всё это сфотографировали, позвали друга, сняли его вместе с Найдёнышем, поблагодарили и ушли. Друг и Расторопша заперли дверь и пошли смотреть телевизор, намазывать мёд на печенье и есть».
Дома Фёдор повалился на пол, лежал, отходил, не верил ни в какую смерть, потому через десять минут в туалете его уже рвало ею, выбрасывало наружу, как кита, изводило, сводило и освобождало.
«Найдёныш так увлёкся фильмом „Поющие в терновнике“, что уронил печенье с мёдом себе на платье, укнул, стал поднимать печенье, чтобы его доесть, но друг не позволил. Он выкинул его и повёл Найдёныша мыться, оттирать одежду от пятен. Тот послушно пошёл за ним».
Придя в себя, вспомнил, как он шёл по улице на днях и встретил Чижевского и Гумилёва, растянувших поперёк дороги космический детерминизм, через который перепрыгивали молодые и под которым, нагнувшись, пролезали пожилые. Его это тогда не удивило, но теперь казалось престранным, диковатым, другим. Он соглашался с препятствием, встреченным на пути, только хотел, чтобы оно помогало людям, а не мешало идти.
На следующее утро он стоял возле Медного всадника и пил ситро. Наблюдал гинекологическую женщину, читающую книгу – смартфон, как можно звать все гаджеты мира, так как кино, музыка, живопись, фото – текст. Запустил в небо воздушный шар как структурализм, как человек по имени Леви-Стросс. Смерть человека улетела в небо и там взорвалась, лопнула, упала Винни Пухом, Пятачком и осликом Иа. ФМ отметил роскошь воды и тачек, чьи души сливались и порождали одно: бихевиоризм, состоящий из поведения машин, наделённых сознанием и душой – человеком, из чего следовало, что можно выходить из тела или менять его, или продавать, гулять, есть, пить, знакомиться с парнями или девушками, драться, работать и умирать. «Есть тела-автобусы и поезда, ну это цель людей, хоть и не каждому нужно: потому человек без машины – душа, которую тело может сбить и убить. Есть тела для войны: танки и истребители, и их наказывают за убийства, запирая внутри людей, сажая их в души». Отметил красоту проходящей девушки, похожей на гештальт-психологию в самом расцвете, проповедуемую и изучаемую глазами мужчин. Он сфоткал её, сохранил в памяти, почти не заполненной и нуждающейся в упорядочении и постижении, выведении на ясность и чистоту, в глубины по имени Бог, Христос, Будда и Магомет. Рядом с ним пронеслась ремизовщина, гогоча и топоча, и неся в руках бутылки с вином изощрённой формы, понимаемой как закат царской России, породивший небывалые буквы на заходящем небе. Отдельные элементы этого явления пили водку из горла, жевали бутерброды и вели себя как письмо: не исчезали, как музыка – человек, но оставляли строки, как Бог.
Фёдор поздоровался за руку с Тагором, шагающим во все стороны, и углубился в питерское, домашнее, в тапочках и в халате, будучи вывернутым наизнанку. И так было везде: на улицах спали в кроватях, жарили на плите картофель и курицу, купались в ванных, занимались сексом на полу, смотрели телевизор в зале и курили табак в туалете. Он говорил дымом цитаты Дильтея, Делёза и Судзуки, было хорошо – как в фильме «Банды Нью-Йорка», снятом на углах и в подворотнях Ленобласти. В ней люди жили таблетками, были ими, тогда как в Петербурге – уколами: как наркоты, так и лекарственных средств. «Моцарт или Бетховен – деньги, растворённые в воздухе, музыка – пар, поднимающийся наверх, чтобы пойти на землю однажды деньгами – снегом или дождём». Фёдор зашёл в магазин, взял кильку и хлеб, сел на бордюре, вскрыл банку ключом и стал есть. Так он возвращался назад, в юность, в молодость – в молнию, гром, не в истечение влаги вниз – взрослую жизнь.
Красота подошла к нему, подняла юбку, спустила трусы и показала вертикальную улыбку, сказав, что рот и вагина – крестик, который она носит на груди. И она сняла его с шеи, раскрутила и забросила на выю Бога, выглянувшего с небес, чтобы показать лицом, гневным ликом «Блеск и нищету куртизанок». Фёдор вскоре сел в метро и поехал в Купчино, где устроил галдёж и раздрай, исполнение музыки Гайдна на пальцах мужчин и женщин, вытянувших руки и выпрямивших пальцы – клавиши, играющие рассвет, ночь, вечер и день. Люди позднее видели его на проспекте Бакунина, на котором он пил водку «Бакунин» и жил свои тело и душу – на тот момент Бакунина и Кропоткина, порою превращающихся в книги и улетающих в небеса. И в совершенно разочарованном смертью виде он прибыл к Надежде и целовал её руки у дома, плывущего по душам известных людей на острова в Тихом океане, каждые и любые, можно сказать, что все. «Читабельным стал весь мир, даже солдаты на войне читают выстрелы, взрывы, танки, гаубицы, ракеты и смерть». Надежда смущалась, успокаивала его, уводила от соседей, их глаз, их ушей, их языков, способных донести мужу на свидания у них во дворе. Они двигались в танце, который танцуют горы перед тем, как скинуть шапки из снега и льда и топтаться на них.
«Найдёныш закончил очередную сказку, отправил её, отослал, но ответа не получил. Он встревожился, написал в издательство и получил письмо с отказом. Это выбило Расторопшу из колеи. Она показала послание другу, тот успокоил её, предложил писать дальше и не сдаваться. Найдёныш немного пришёл в себя, связал пару носков, собрал пирожки и изделия, пошёл на улицу, продал всё, купил вина, вернулся к другу, открыл бутылку и предложил выпить. Тот согласился, они опустошили пару стаканов, и Расторопша раскрыла душу, излила её, объяснила, что всю себя вложила в книгу, а тут такое. Она разревелась в конце, припав к плечу друга. Он поглаживал её и говорил, что в её положении ей нельзя расстраиваться, переживать. Расторопша соглашалась с ним, но ещё долго плакала и пила вино, шмыгая носом, похожим на спелую сливу или розовый абрикос».
Фёдор ушёл, поехал к Николаю, вышел из такси, пропустил мимо себя рациональное и иррациональное, идущие рука об руку и грызущие белые семечки, пахнущие захватом монголами татар, зашёл к другу, застав его дома, поставил на стол водку, купленную в ларьке, и начал читать:
«Весной Найдёныш и друг решили завести огород возле дома. Друг копал землю, Найдёныш кидал картошку, ходил вслед за ним с ведёрком. Друг внимательно следил, чтобы Расторопша не брала много картошки, учитывая её положение. Земля была сырая, потому не поливали, хотя Найдёныш порывался взять лейку и наполнить её водой. После трудов они сварили оставшуюся картошку, заправили маслом, добавили лук и поели. Устали, насытились и легли на кровать, укрывшись одним одеялом, под которым Найдёныш иногда подрагивал левой ногой, но в целом спокойно спал, как и друг».
Николай удивился, но умилился, протёр очки, хмыкнул и разлил водку в стаканы, выпил внутренний холод и наружный пожар, сделал из листа бумаги самолёт и запустил его из окна.
– А мог бы поджечь, – сказал он. – Там идут смерть и Ленин, она бежит за ним, а он не признает её своей матерью, дочерью, женой и сестрой.
– Ну, это пустое.
– Не скажи, смерть – это круг, жизнь – линия, дротик, стрела. Понимаешь меня?
– Вполне.
Они выпили ещё и превратились в соборность в миниатюре, будто их идеи обнялись и поцеловались, что весьма допустимо в городе Петербурге.
«Летом Найдёныш родил, ребёнка назвали Валечкой, привезли на такси домой, уложили в кроватку, купленную другом, и Найдёныш начал каждую минуту подходить и проверять его, пока друг не сделал ему замечание. Найдёныш не сразу научился кормить, но вскоре пристроил ребёнка к груди и затих вместе с ним».
Позвонила Надежда и сказала:
– На Земле холод или жара, среднего нет. Переходы, осень и весна в голове у людей, в их сердцах и умах. Глаза – зеркала, повёрнутые внутрь. А должны быть стёкла. Ну, я пошла.
– Пока.
Он накатил, посмотрел на Николая и произнёс:
– Вскоре Найдёныш начал выходить на работу с ребёнком, покачивал коляску, поглядывал внутрь неё, стоял у прилавка, продавал пирожки и носки, в перерывах бегал на огород, выдёргивал сорняки, несколько штук, и возвращался назад.
– Огород рядом?
– Ну да.
Закурили сигареты «Делёз»: вдохнули Капитализм, выдохнули Шизофрению, стали собой и всем, пока дым совокуплялся над ними и порождал мысль: «День есть один человек – солнце, ночь – звёзды: солнце одно ходит по всем улицам с утра и корчит из себя миллионы людей и животных. Ночью всё правильно: тысячи людей в мегаполисах есть звёзды, дискретное, общество, мы. Мы – об этом роман Замятина, о ночи, правде её. Другими словами – капитализм и коммунизм, день и ночь, о которой написала Ахматова, не видя её конца». Они потушили бычки и легли спать через десять минут. ФМ прикорнул на диване и стал пытаться уснуть, что у него вышло после того, как он внёс в телефон:
«Ближе к августу и урожаю Найдёныш вышел на улицу поливать картошку, кабачки и морковь и замер: некоторые кусты лежали, под ними ничего не было. Расторопша побежала к другу, привела его. Тот тоже расстроился, объяснил Найдёнышу, что это кроты. Расторопша застыла, она поняла, почувствовала кротов, что они тоже живые и им нужно есть, но она также осознавала: ей, другу и ребёнку продукты питания тоже необходимы. Друг успокоил её, сходил домой, быстро изготовил вертушки и вернулся с ними обратно. Установил их и пошёл на работу. А Найдёныш полил огород и потопал к ребёнку, думая про своё. Так прошёл день, а вечером Найдёныш стал просить друга не выкапывать весь картофель, оставить немного тем, кому это тоже нужно. Друг не согласился, объяснил, что крот найдёт себе пищу, а им и ребёнку она нужней. Найдёныш выслушал его, посмотрел на дремавшего ребёнка, покормил хомячка и пошёл спать. С чем-то не согласился, но во сне всё забыл».
Утром поехал на Невский, стал искать книжный магазин, чтобы купить литературный словарь, встречал много людей, сочинял их глазами, издавал их в своём уме, покупал их остальными частями тела. Но, в общем, закатывал себя в одиночество, большое, ломкое, хрупкое. Ощущал ненужность своих книг на больших просторах, понимал: его романы нужны в домах, в банках, в библиотеках, в машинах, в общественном транспорте, в том числе и в метро. Магазин нашёл, приобрёл в нем словарь антонимов и синонимов – за неимением другого, выпил банку пива с мужчиной, представившимся Андреем, уходящим в бесконечность и трансцендентное, закинулся «Акинетоном», поплыл, улетел, добрался до дома, обернул голову мокрым полотенцем и лёг на кровать. «Каждый ребёнок – Петрарка, везущий за собой гроб с телом Лауры, чтобы на нём кататься». В голове всё роилось, плыло, он читал книгу «Овод» или не читал её – он не видел разницы, но понимал: землетрясение списано из ума – учебника – реальностью – тетрадью: в голове чаще всего трясёт и в ней рушатся дома и погибают люди, в том числе «я». Закурил в горизонтальном положении, будучи сам сигаретой, курящей «LD».
«Найдёныш с утра взял мотыгу и пошёл чистить огород от сорняков. Помотыжил, чуть не ранив себя. Заметил большое количество колорадских жуков на листьях картофеля. Собрал их в банку и застыл. Убивать стало жалко. Потому он отнёс их подальше, высыпал на землю и устно велел им не возвращаться, уходить, уползать, улетать, иначе он обидится на них и накажет. Вернулся домой и начал заниматься домашними делами: мыть, готовить, стирать».
Вызвал такси, назвав Моховую и номер, поехал с бритым скином на Владимирский проспект, купил большой букет роз, по одной раздавал женщинам: некоторые не брали, будто эти розы были разбитыми бутылками, из которых можно пустить кровь – жидкую розу, её суть, соль и плоть. Нашёл лавку, присел на неё, когда кончились цветы, записал себя в телефоне как самого великого писателя на Земле, смутился, убрал смартфон, пошёл с проспекта на другие улицы, зашагал по одной – людей не было, она была натощак, потому он курил и молчал, не искал приключений душой, представляющей отныне скелет в его теле: белые кости в нём. «Водка с виду вода: так и труп с виду труп, но на деле – живой человек, просто люди – дети, а им алкоголь запрещён: ребёнок, выпивший водки, – Иисус». Заговорил с бродягой:
– Мелочи дать?
– Давай, и сигарету тоже.
Закурили. Фёдор сказал:
– Сейчас много достоевского в жизни.
– В мире, вокруг него.
– Ну, и внутри.
– Бесспорно.
– Я написал рассказ. В нём – человек в крови. Вот куда бы он ни шёл, он всё время в красной жидкости, окружающей его. Айвазовский её рисовал.
– Хорошо. Кровь, например, как любимая девушка. Ты даришь крови цветы, ведёшь её в ресторан, макаешь в неё куски шашлыка, ешь, а дома занимаешься сексом с кровью.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?