Текст книги "Побег. Роман в шести частях"
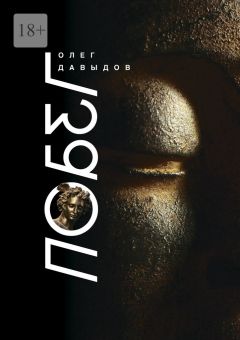
Автор книги: Олег Давыдов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 36 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Глава IV. До свидания
Помоги мне, о муза истории! – помоги, капризница Клио, – помоги довести этот труд, столь гнетущий меня, до конца.
Конечно, мне было над чем поразмыслить, когда битый час я дожидался Софью: стоял, и сидел, и ходил, и, чтоб развлечься, созерцал памятник на Сретенском бульваре. Эту женщину (памятник), выбегающую из каких-то открытых ворот, было бы лучше, наверно, поместить на соседнем Рождественском бульваре, ибо ее выбегание навстречу чему-то похоже на рождение. Впрочем, нет – все же больше на встречу! Или на какой-то побег, – побег и преследование – ведь, двигаясь от метро, ты как бы преследуешь маячащую впереди, за дверными створками фигуру, а это навевает игривые мысли и подстрекает к вольности. Недаром так популярен этот бульвар-коротышка.
Но мне ненадолго удавалось отвлечься пустыми подобными мыслями – снова я думал о Софье, думал о себе, о своем прошлом, и все мрачней становился по мере того, как стрелка часов подбиралась к семи.
Что мне играть с тобой в прятки, читатель? Я так ведь и знал, что она не придет. Если придет, то уж завтра, думал я. Ну а если сегодня я здесь… где ж еще мне и быть? И как прожить еще сутки в открытых сомнениях этих?
Жуткое у меня сейчас настроение, но самое пригодное для воспоминаний: ведь я снова влюблен, мой читатель, и влюблен, как всегда, безответно. И совсем не похожа она на Софью; и не знает, что я существую, и больше уже я ее никогда не увижу; но вот ведь что странно: я пишу о любви и влюблен. И я думаю снова о прошлом: о Софье; о том, что я думал, когда ее ждал на бульваре; о детстве; о том, что всегда о детстве хотел написать – что-нибудь! – и слушаю Моцарта. Трудно о детстве писать, и все ж я решаюсь. Ну, пусть не о детстве – о мире, в котором родился.
Я родился в малюсеньком провинциальном городке, который издревле еще называется Богородицк. Кстати, забавный факт, который должен навести на серьезные размышления: впоследствии я узнаю, что наша Венера (Марина Стефанна) была рождена в Ногинске (в прошлом Богородск), но это лишь так – между прочим.
Какие сомнения в том, что только в таких небольших городишках нарождаются боги? – здесь все предпосылки к тому. Здесь дитя не научится лишнему – ничего сверх меры! – герметически замкнутый мир, огнестойкий сосуд городка не пропустит ни стильных влияний, ни модных веяний – никаких посторонних примесей. Философская ртуть кипятится годами в закупоренной этой реторте, в этом глухом перегоночном кубе, – кипятится, чтоб стать философским камнем, божественным золотом…
Над созданием этого педагогического центра низшей ступени, этой божественной начальной школы (я имею в виду Богородицк!) работали такие прославленные мастера, как просвещенная собеседница Вальтера и Дидро императрица Екатерина Вторая и ее незаконорожденный (от князя Потемкина) сын граф Бобринский; далее, первый русский агроном Андрей Тимофеевич Болотов, заложивший там парк; и архитектор Старов, построивший в парке дворец и церковь.
Этот сам себя в себе заключающий космос, который выстраивается вокруг большого проточного пруда, как бы вырастая из овальной его чаши, – на одном берегу старый парк и графский дворец на пригорке (он напомнит вам виллы Палладио), а на другом – город, веером улиц своих приведенный в гармонию с планом дворца, то есть: пять радиальных сбегающих к берегу улиц точно сходятся в центре парадного зала и насквозь просматриваются из пяти обращенных к ним окон полукружья дворцового выступа. Поперечные же улицы подобны волнам.
Классицистская чопорность этой симметрии погружена в беспорядок тропинок, ручьев, озерков с островками, ротондами, мостиками, замшелыми валунами, вывезенными, по преданию, прямо из Финляндии. Все это незаметно переходит в окружающие леса и поля. Все продумано, взвешено, соразмерно!
Наметанный глаз сразу увидит в этом что-то вроде инженерного сооружения – энергетическую установку, конденсатор. Вы не ошиблись, проницательный друг, – здесь все подчинено единой цели – цели воспитательной (а воспитание – это ведь и есть конденсация). Но божественная педагогика не останавливается на архитектуре – все: подбор горожан; репродукций картин в школьной галерее; воспитателей и игрушек в детском саду; книг в библиотеке; рыб в пруду, деревьев, цветов во дворах; дозволенных и недозволенных развлечений; птиц; облаков – все здесь подчинено одному: воспитанию божественных существ.
Но я не стану рассказывать об этом, ибо не стоит заходить далеко в эту дремотную провинциальную жизнь, где даже детские сны имеют непреходящее всемирноисторическое значение и снятся не иначе как под присмотром зеленоликих нянек.
В пять лет я впервые узнал, что есть женщина, и одновременно, что такое бог, – это было в лесу, на даче, куда божественный детский сад выезжал летом.
Продукты нам привозил усатый конюх со своей сонливой гнедой лошадкой. Каждое утро, когда, направляясь гулять, мы парами проходили мимо конюшни, было видно, как он холит своего коня, напевая в усы всегда ту же песенку – что-то вроде: «Вот таким манером, любимая лошадка…» и т. д. В паре со мной обычно шла девочка Лена – она была дочкой нашей воспитательницы и вообще любимицей всех взрослых на даче.
Итак, проходя мимо конюшни, мы всякий раз, бывало, глазели на этот так заманчиво пахнущий деревянный домик у опушки, на усатого конюха и его гнедого конька, на сбрую, телеги, хомуты и оглобли. Этот волшебный мир, конечно, манил нас, притворяясь сказкой о Коньке-Горбунке, чудесными приключениями, захватывающей авантюрой. И вот однажды ночью мы с Леночкой (не помню уже почему) потихонечку выбрались из своих кроваток, стоявших рядом, и, вздрагивая от каждого шороха, отчаянно плутая, уже почти плача, добрались до конюшни.
Слабый свет пробивался сквозь щели сарая, где жил гнедой конь, и, заглянув в эти щели, мы вот что увидели: Гнедой мирно жевал, он стоял как раз перед нами, обрамляя брюхом своим и ногами другую картину – на сене усатый конюх, кряхтя, совокуплялся (как теперь можно судить) со стонущей Леночкиной мамой – нашей воспитательницей. Тогда мы, конечно, не поняли, что это значит, – не знаю, как Лена, а я увидел в этом род чародейства. Причастный тайнам конюх деловито колдовал над судорожно сжимающей ноги тетей, и стоны ее были не то чтобы стонами боли, а все же… И ведь она была нашей строгой воспитательницей. Да и тот подъем, что я испытывал… конечно, то было колдовство, и место было заколдованное, страшное.
Взявшись за руки, мы бежали и, вернувшись в палату, не могли уснуть – ворочались и не решались заговорить о невиданном зрелище. Мы еще не созрели для него.
Что говорить о дальнейшем! – достаточно с вас и того, что Леночка в ту же ночь соблазнила меня: она просунула свою ручку под мое одеяло и коснулась запретного плода. Помню, я весь замер, но в следующую минуту мои пальцы уже отыскали ее маленький (аленький? – нераспустившийся еще) цветочек, и замирала она. Через несколько дней мы были уже опытные любовники, и, хотя, собственно, не знали еще, что надо делать (мы ведь увидели технику скорей колдовства, чем любви), – все же довольно брутально пальпировали друг друга и даже, кажется, мне это быстро приелось.
Кроме того, Леночка вскоре оборвала наш медовый месяц, рассказав обо всем своей маме, а та выставила меня как испорченного мальчика перед всеми: перед моей мамой, перед заведующей, перед взрослыми на даче и (вот дура!) перед всеми детьми. Причем, если хотите знать, методы воспитания у нее были такие: она сняла с меня трусы, эта Адрастея, перед всей группой объявив, что я испорчен. Не знаю, кто ей внушил сделать это…
Пожалел меня только усатый конюх – он прокатил меня в своей телеге и напрямик сказал, что Лариска (наша воспитательница) – «блядь», что он «ее в рот ебал» и что мне того же желает. Я не понял его, но, естественно, сразу поверил, ибо он был взрослый дядя, колдун и конюх, – поверил и отнесся к своему унижению довольно легко.
Теперь уже я и не помню – до или после этой гражданской казни один мальчик, чуть постарше меня, рассказал мне о боженьке, который с неба смотрит на нас, и поэтому я должен отдать ему (этому мальчику) свои грибы. А грибы там (на даче) были чем-то вроде разменной монеты: лишиться грибов означало лишиться воды, ибо воспитатели давали нам пить в лесу только в обмен на грибы. Пить почему-то все время очень хотелось (на просьбу пить воспитательница отвечала обычно: «Вода спить»), – хотелось, но я, конечно же, стал отдавать грибы этому маленькому поверенному бога (как пугал он меня уже тем, что я должен был собирать ему грибы!), – отдавал их, а сам пил из лесных лужиц и болот, как братец Иванушка. О, этот восторг, когда видишь большой белый гриб под поваленным дубом средь темного леса на склоне оврага – ах! – и вдруг вспоминаешь, что есть еще бог…
Да, не логично было считать этого мальчишку полномочным представителем бога, – бога, о котором мы оба, кстати, имели слишком поверхностное представление (бог показывал нам один лишь свой лик – он был обличен страхом, то был олицетворенный страх – именно то, что прогнало нас с Леной тогда от конюшни), – это было нелогично, но логика-то здесь и ни при чем… Из зелени листвы за мной пристально следили чьи-то глаза, и это был бог – он еще выжидал, но в любой момент мог страшно покарать. О, конечно, не за эту недозволенную любовь к Лене – за это, я думал, можно покарать только одним способом – тем, которым меня все-таки покарали. И между прочим, читатель, положа руку на сердце: разве то была кара? – да нет, то была просто флуктуация разгоряченной и больной матки Ларисы Сергеевны – нашей воспитательницы. Кара должна быть страшной, думал я, ужасающей, непонятной, грозной, как сам этот бог, неожиданной, жуткой, и я постоянно был в страхе, ожидая ее.
Так я тем летом подогревался на двойном огне страха и любви, но, вернувшись домой, тут же все позабыл. Нет, не все – след остался, как на плече остается след от прививки. Несомненно, тогда я не первый раз слышал о боге, и даже не первый раз во мне пробудился любовный инстинкт, но вот так вот: лицом к лицу новые странные чувства, подлинный опыт – это да: первый раз. И я думаю, этот опыт меня научил видеть весь мир целиком. Я помню: как раз вот тогда проросла во мне эта способность, – способность, которую ныне я уже почти утерял, но которая и сейчас еще вдруг пронзает меня иногда, от случая к случаю (например, когда я влюбляюсь). А раньше постоянно переживал я где-то в лесу или в поле чудом проникнутые мгновенья, за которые все готов, что имею сейчас, променять, – только бы вернуть их! – я готов отдать за них всю свою нынешнюю удачливую божественность, ибо что она мне? – вот то – то действительно было божественно, непостижимо, безмерно…
Эти мгновения, когда деревья вокруг стоят вот так вот просто, как им и должно стоять – все на своих местах, – когда солнце, уходящее за горизонт, обнимает весь мир, как оно и до́лжно обнимать свою тварь; когда видишь, как любит оно эти поля и эти деревья; и все любит все; и мошкара скачет в последних лучах; и лиловое облако с освещенным коническим боком движется чинно, как архиерей во храме, распространяя вокруг себя освежающе-благостный дух; и ты невольно склоняешь голову, отдавая себя под благословение этого небесного пастыря; и легкая ласточка прядет воздух крылом; и хищная птица стоит неподвижно над притихшей землей; улавливая своим оперением дрожащие токи, исходящие от распаренных за день полей.
И ты стоишь, боясь шелохнуться, боясь присутствием своим разрушить бередящую душу эту картину, и уже разрушил ее своим страхом, уже отделен от нее, стал зрителем и не можешь уже проникнуть обратно за раму – видишь, как черная птица, сложив свои крылья, падает камнем в намеченную жертву, видишь, что облако изменило форму, и отмечаешь: похоже оно на медведя. И деревья стоят уже сами по себе, не обращая никакого внимания на соседей; и раздутый труп солнца уже наполовину скрылся, но все еще заливает своей быстро густеющей кровью осиротевшие поля…
Много позже по какой-то необъяснимой глупости стал я пробовать запечатлеть эти картины фотоаппаратом, красками, словами, и тогда мгновения ясного видения мира стали являться все реже и реже и, наконец, прекратились почти совсем. Не знаю, зачем я все это делал и почему? – видимо, возраст нашел именно этот вот способ прекратить мои слишком вольные отношения с миром (миром, явленным целиком), – нашел способ отделить от меня природу всякого рода инструментами: этим аппаратом, этой кистью, этим словом. В конце концов, возрастая, все мы, так или иначе, оказываемся отделенными от природы своим возрастом.
Возрастом – это значит накопившимся прошлым, в котором изменчивая жизнь приобретает постоянные формы, закрепляется, делаясь предметом. Она буквально превращается в предмет – в вещи мира, на которых наше прошлое оставило свой отпечаток (подобно тому как непроизвольная игра света оставляет отпечаток на фотографической пластинке). Внимательный и чуткий человек, пожалуй, может извлечь это прошлое из содержащих его вещей, подобно тому как Пруст извлек его из размоченного в сладком чае бисквита, но это чаяние обретения утраченного свойственно не всем, и далеко не все хотят обрести утраченное, ибо мы чувствуем, что это мучительный процесс и воспоминания подчас могут…
Софья не пришла, и мне ничего не оставалось, как потащиться к Марлинскому, – хоть напьюсь с ним. Но кто же такой Марлинский?! – вот человек, который упоминался здесь уже много раз, а вы, читатель, так до сих пор его и не видели. Прямо неуловимый ковбой Джо какой-то.
Я с ним уже давно вожусь (не в смысле водиться, а в смысле возиться) и, поскольку вожусь давно, во всех абсолютно смыслах, – основательно изучил его характер. И в первую очередь, он ужасно глуп, что с вашей точки зрения, быть может, еще нельзя назвать чертой характера, а вот с моей (и, главное, с его) – вполне можно. Ибо – судите сами – характер его отличается чрезвычайной нервозностью и, ухватившись за свой невроз, он всегда пестовал его (этот невроз) и нес на вытянутых руках, как какой-нибудь драгоценный дар, – нес, отстраненно поигрывая им и щедро оделяя всех встречных многозначительными умолчаниями и нечаянными словечками, которые им вдруг возводились в ранг надмирных истин.
Если Марлинскому нечего сказать, он говорит что попало, и обязательно выпадают эти умолчания и словечки, придающие его речи характер дзенских коанов. Кто-то когда-то, видимо, убедил его, что эти высказывания глубоки и значительны, а он и поверил – стал прислушиваться к себе, но, не разобравшись толком в том, что же им, собственно, говорится, решил, что глубоки именно вот эти вот дефектцы, – решил и, со вкусом отделав их, сделал свою речь весьма схожей с художественным изделием. А говорит в нем этот вот самый невроз, нашедший выход в его (Марлинского) манере выражаться. Ибо его манера выражаться как раз и есть невроз – вторая производная прыщеватого лица и низкого роста.
Впрочем, это последнее замечание, на мой вкус, слишком уж грубо – ведь я убежден, что «все люди мудры, и наша глупость – лишь противодействие собственной мудрости», как сам Марлинский однажды заметил при мне. То есть вполне вероятно, что прыщав мой герой лишь по глупости, и, будь он немного умней, лицо бы его цвело (или, может быть, наоборот, не цвело), но зато речь была бы несколько менее цветистой.
Удивительно точно я оговорился насчет этого цветения (вот что значит думать о Марли – сразу просто заражаешься), – дело в том, что речь его цветет еще другим цветом – «сорняками», – скажете вы. Возможно, и сорняками (хотя позднее мы это еще уточним). Конечно, сорняками: после каждого почти слова, с кем бы и при ком ни говорилось, он делает нечто вроде придыхания или всхлипывания. Прислушавшись, можно различить (узнать) в этом придыхании нечто вроде «пл», как я это уже передавал, или «бль», или иногда даже просто «бля»…
Читатель, это говорит о значительной продвинутости моего друга. Подобно христианским монахам (исихастам), держащим Иисусову молитву на устах, затем привязывающим ее к дыханию и, наконец, низводящим в самое сердце; или, скажем, подобно индийским йогам, постоянно бубнящим свое: «ом мани падма хум», – подобно этим подвижникам, Марли привязал к своему дыханию слово (в его случае – слово «блядь») и повторяет его, автоматически всхлипывая, с каждым вздохом.
Вот как примерно выглядела в его устах та фраза, которую я выше уже приводил: «Все люди пл – мудры… и наша глупость… пл-лишь противо-бля-действие собственной мудрости…» Конец проглочен, он как бы стоит под вопросом – Марли его стесняется, и в этом, должно быть, весь смысл.
Такова его нормальная ненормальность! Еще хочу предупредить читателя, что в дальнейшем буду воспроизводить экспрессивную лексику Марлинского только в самых характерных образчиках, а сейчас я уже звоню в его дверь. Да, чуть не забыл: его зовут Женя, и – ничему здесь не удивляйтесь.
– Ну, здорово пл… я думал, ты не приедешь, – сказал он, открывая дверь. – О-пля!.. До свидания!
Глава V. Укрась вином мелькание страниц
Последняя реплика предыдущей главы относилась к таракану, которого Марлинский заботливо вытолкнул из-под моей ноги.
– Осторожно пл… – добавил он. – У меня гости…
Из уже мне знакомых здесь были: Слава Кошмар, Мудраков, Букин, Евгений Лисицын да еще, сидя в изломанной позе дублинского памятника Джойсу, прятался за какой-то старушкой Алик Роман.
Оказалось, созвал нас Марли, чтоб прочесть две главы своего нового произведения, зачатого от вынужденного безделья во время одинокого сидения на даче в Тучково. Я и не знал, для чего он меня пригласил, а то бы, конечно, не пошел – что мне делать на этой каторге? И если бы я сам что-нибудь написал, ни за что бы не стал читать этот свой текст перед публикой. И уж точно не стал бы слушать, что мне скажут люди о том, что я напишу. Почему? А потому, что обязательно найдется какой-нибудь бедолага Бобчинский, принесет с собой темную желчь – все обиды на мир, в его печени накопившиеся, – и плеснет на тебя, как помои.
Да, читатель, – я этого вам не сказал? – наш Марлинский поэт, переводчик, писатель – литератор, одним словом. И немало уж он написал за свою чернильную жизнь, много пробовал – так, сяк – и просто по-русски писал, и в своей разговорной цветистой манере (то есть более органично себе, и подчас даже просто удачно), но вот все никак не мог сделать то, что хотел: сочинить чистый, честный, прекрасный свой, искренний роман. Пописывал, в общем, человек и – все на серьезные темы, «с отчаянием и искренностью», закрыв глаза и уши, в расчете на буржуазные всякие издания. И его пару раз напечатали даже и в не наших журналах. Так что ничем он не хуже других, хотя звезд с неба, конечно же, не хватает.
В юности своей Женя писал и стихи. Не пойму, в чем тут дело, но часто встречаешь у нас совсем еще молоденьких поэтов, успевших уже создать что-то крупное в духе второй части «Фауста». Вот и Марлинский мой ухитрился сложить подобного рода драматический коллаж (впрочем, не без достоинств). Помнится, там у него некто тоже читает что-то перед публикой, а эти сытые, довольные люди никак не выражают своего восторга. Тогда Марли восклицает как бы про себя:
Не плачут сволочи!
Не знаю, слово чье
Их разбудить смогло бы —
Прорвать нарывы глаз,
Чтоб волдыри слезами истекли!
Согласимся, что очень сильные, смелые и яркие образы для тогда еще только начинающего стихотворца (и тема значительная, к тому же). Но впоследствии, к сожалению, он оставляет поэзию, переходит к прозе и переводу, начинает метаться, чудить… Однако то, что он читает сегодня, разительно отличается от всего, написанного им до сих пор.
В давние времена одна женщина спросила меня, не писатель ли я?
На что я ответил:
– С чего это вы взяли?
– Да у вас взгляд странный.
И вот с тех пор я почувствовал себя писателем: пробую писать, но ничего путного пока что-то не получалось. Иногда мне казалось, что стоит только сесть за стол, взять перо – и я напишу нечто. Не так это просто, дорогой читатель. Писать можно о чем угодно – выглянул в окно, вот тебе и пожалуйста – пиши: дерево, пьяные грузчики, сушится белье у забора, облака в вышине – дело простое! – можно также написать о своих переживаниях, можно что-нибудь такое из времен Римской империи или, скажем, связать математику Пуанкаре с кружевом мостов над Сеной. Все это можно, и мне нетрудно было бы сделать это, но вот какое-то неудобство: поднять перо, замахнуться, в чем тут дело, черт возьми? Я даже мучался.
Иногда мне казалось, что неудобна вот именно поза, в которой я сижу и пишу. Мне чудилось, что нужно принять определенную позу, соответствующую моему положению, – и все будет в порядке. Ведь все дело не в том, что мне нечего писать (этим как раз я богат), но вот органическая невозможность… Еще не начав писать, я думал, что сделаю то, что мне брезжится, слишком банальным. И действительно, коренной вопрос у меня был: какую же позу принять? Не думай, читатель, что это так бессмысленно, – ведь у каждого есть своя самая милая, удобная поза.
Например, вычурному Марли, чтоб писать, надо (я думаю) встать на левую ногу, правую оттянуть назад, корпус склонить так, чтобы колебаться в неустойчивом равновесии, и бумагу сжимать каким-нибудь особым образом в левой руке – вот тогда он может что-то написать. И он написал уже кое-что (немало! – я уже говорил), но не очень доволен собой, потому что хотелось бы сделать что-то большое и очень значительное, а получаются лишь коротенькие натянутые вещички. Еще бы! – разве можно долго балансировать на одной ноге? – для большого романа эта поза неудобна, и вот, что он ни делает, а пишет лишь мелочи, колеблющиеся на грани бессмыслицы.
А я, так и вообще ничего не мог написать, потому что мне казалось: написать что-либо я могу, только лежа на диване, на левом боку, закрыв глаза и подобрав под себя ноги, – как в утробе матери. Вот в таком положении я чувствовал себя великим писателем, знал, что и как написать, и написал бы – если бы свет не разрушал моих иллюзий. Конечно иллюзий, читатель, ибо теперь я понимаю (как это понял, наверно, и ты), что то были сны нерожденного младенца, которого моя муза все никак не хотела произвести на свет.
Ну что вам сказать о новом романе Марлинского? – это немного напоминает начало моей истории: кто-то с кем-то встречается, куда-то идет, о чем-то говорит; описания природы; какие-то общие рассуждения; потом опять кто-то с кем-то встречается; игра солнечных пятен на рубашке героя, и так далее.
Читатель, я с полным уважением отношусь к тем писателям, которые с напряженным вниманием всматриваются в игру солнечных пятен на рубашке своего героя, но – только в том случае, если это не есть, как говорится, «незаинтересованное любование». Я не верю бескорыстным натурам – по моему опыту, они всегда готовы надуть либо вас, дорогой друг, либо себя, а это, в обоих случаях, неприятно. Все мы подчас с наслаждением следим за этой замысловатой игрой солнечных пятен, но переносить ее на бумагу, да еще утверждать, как это обычно делается, что перед нами «неповторимое видение художника», – утверждать так, простите меня, все равно что обкрадывать вас (потому уже, что видение это – «неповторимо»). И к тому же, как скажет Ницше, это – «бесполезное удвоение мира». И это, читатели, можно еще позволить слепоглухонемой Ольге Скороходовой, написавшей прекрасную книгу под заголовком «Как я воспринимаю окружающий мир», но не зрячим нашим авторам, тупо взирающим на расползающиеся по швам рубашки своих героев.
Как бы все это (все перипетии, связанные с романом Марлинского) изложить покороче? – ну представь на минуту, читатель, что все, описанное у меня в первых, предположим, двух главах, не произошло со мной на самом деле, а придумано Марлинским в качестве начала его романа. Я делаю этот невинный подлог потому, что, во-первых, совершенно неуместно вставлять здесь еще и его текст; а во-вторых, я оттуда что-то уже ничего и не припомню. Но поскольку, как я уже сказал, роман Марлинского, в сущности, напоминает начало моей истории, эти две или три мои главы вполне могут заменить прочитанное в тот вечер. Просто нужно, чтобы читателю было понятно, о чем у нас дальше пойдет разговор.
Марлинский кончил читать, мы помолчали – немного дольше, чем следовало бы.
– То, что мы услышали, – сказал Мудраков, – это начало произведения очень большого писателя. Я не побоюсь даже сказать: писателя европейского масштаба.
Тут польщенный Марлинский стал во весь рост; раскланялся, приложив ладонь к макушке; демонстрируя, что он и действительно большой писатель, прошелся по комнате.
– Да, – сказал Лисицын (и от меня не укрылось его ехидство), – это поистине очень большой… и емкий писатель – эти главы вобрали в себя все лучшее из того, что мы называем постпрустовским реализмом: и Джойса, и Кафку, и Фолкнера, – каждая фраза здесь жемчужина, перл какой-то ограненный… (Марлинский сиял!) А вы любите Платонова?
– Пл? – люблю.
– Это видно.
– Да, хорошо, – сказал Женя Кошмар, – только, может быть, чуть-чуточку затянуто…
– Да, – сказал Букин (и с этого все началось). – И дальше будет так же?
– Ну, в общем… бл да…
И опять молчание. Все же бедные наши авторы – как они жаждут общения и боятся его! – боятся этого напряженного молчания, этого «хорошо, но чуть-чуточку затянуто», – жаждут похвал, которые либо совсем невозможны, либо хуже всякого «хорошо». А читатель жаждет невозможного чуда: он и сам не знает, чего хочет, и разве же может какой-то Марлинский угадать извечное наше: «поди туда, не знаю куда, – принеси то, не знаю что»? Как угодить нам на всех? О, как автор убог и как беззащитен! – тогда как читатель и строг, и сознает свою значительность. Мы, читатели, сознаем свою значительность и смотрим на автора свысока, потому что автор – это неудавшийся читатель. Впрочем, ошибочный взгляд – читатель так же убог, как и автор.
– Понимаешь? – не зацепляет, крови нет, каких-то кровавых лепешек, – со страданием в голосе сказал Букин. – Слишком удобно у тебя там: ногу не натирает. Ну, хоть покраснение бы какое. Правда, вот с этой Сарой… Но тоже ведь… ты позволяешь себе писать, как Достоевский, – «она побледнела как полотно», – но ты же не Достоевский… – понимаешь? – хоть запах какой изо рта у нее пусть будет или одна ягодица больше другой… А так вот – возбудишься и впустую – нет продолжения, нет трения… Ты не обижайся, но так никто читать не будет.
Конечно, нет у Марлинского никакой такой Сары, но вот что вдруг поразило меня сейчас, когда я записал эту речь, – ведь, возможно, какой-нибудь из моих читателей, во имя более полного эстетического наслаждения, захочет представить себе, что у этой моей героини действительно пахнет изо рта и одна нога короче другой. Мне вовсе не хотелось бы портить отношений с читателями, но ради истины, ради Сары, которой это далеко не безразлично, я должен со всей ответственностью и во всеуслышание заявить: у нее не пахнет изо рта, ноги одинаковой длины, ягодицы не слишком велики (но и не малы), на руках все пальцы (и нет лишних), волосы густые и не посеклись, цвет лица не совсем испорчен, кожа гладкая и без прыщей. Правда, одна козья грудь действительно меньше другой, но ведь это же вполне естественно. Есть, впрочем, одна деталь, но это я приберегу на потом.
– Да и зачем эти рассуждения о привидениях? – это же всем известно. Они затягивают, – сказал Женя Кошмар.
– Это пл нужно!
– Пугаешь? А мне не страшно!
– И зачем тебе все это? – это как у Горького: опишите свой день. Конечно, можно описать свой день – потратишь три дня, напишешь тысячу страниц, а толку никакого. Ведь это все случайности, понимаешь? Ты затягиваешь нас против воли куда-то, и вечер мы с тобой уже потратили…
– Да как же, бля, случайности?!
– А так: сидит на бульваре, идет по бульвару, тысячу шагов прошел, а толку? Какой смысл в этом? – он разве нашел потерянное время? У тебя же ничего не происходит, никаких событий…
– Ну как же?!
– Да разве это события? – на них не падает отсвет… трагедии нет… Воскрешение Лазаря у Достоевского – это я пережил – вот трагедия! А у тебя что? – тыщу шагов прошел, две тыщи, какие-то привидения – скукотища! Просто неприлично. Сейчас такое время… Война в Афганистане. Вот ты на сколько страниц размахнулся? на тысячу? – сейчас читатель ленив; он твои рассуждения пропускать будет; бульвары он и сам в окошко видит; ему подавай крови, детективов, приключений! – ты хоть бы детективом оживил все это… Не обижайся, для твоей же пользы говорю.
Расстроенный Марли только кивал им в ответ. Да и что ж ему было? Не защищаться же! Марлинский молчит, но я-то поражен в самое сердце. Больше того, я снимаю с этих ненароком подвергшихся такому разгрому глав свое авторство – пусть уж и на самом деле Марли их написал, а я в них лишь действовал. Пусть! – ему-то не привыкать, а меня раздражает доморощенная критика, под которую я так неудачно подвел свой текст. Лучше бы я, право, подобрал для этого что-нибудь из Гончарова или Лермонтова – вот кому болтовня никак бы не повредила. Но смотрите: у нашего автора нашлась защитница – та самая пожилая дама, за которую прятался Роман. Она говорит:
– Я что-то не понимаю хорошенько, о чем здесь вообще идет речь? Писатель волен писать, как ему вздумается (я сама пишу), – как бог на душу положит! – и не надо ничего менять, не надо ничего выбрасывать: пусть идет, пусть сидит, пусть говорит о привидениях. Вот вы говорите, вас не задело, – как же не задело, раз вы говорите? А вы говорите очень страстно…
– Задело, только не за дело, – парировал Букин.
– И поделом вам – значит, ничего не чувствуете, ведь здесь же вот, смотрите, сколько всего произошло.
– Да ничего не произошло – только ходит и соблазняет.
– А вы соблазнитесь!
– Чем? – тем, что он по бульварам шастает? Пусть он баб соблазняет – корифей какой! – ишь, затащил в чулан и давай…
– Во-первых, она сама пришла…
– Да не реалистично это – такая скорая победа! И потом, зачем он ей платье снимал?
– Как зачем?.. Ну, во-первых, – с нее, а во-вторых, о вкусах не спорят.
– Нет-нет, пусть объяснит – ведь можно бы и без этого.
– Это бл я объясню в следующих главах.
– Ты, может быть, еще и примечания нам дашь? – что это, мол, будет объяснено.
– Здесь главное другое, – сказал вдруг Мудраков, и всё смолкло, – главное, что автору кто-то внушил, что он большой писатель. Это самое неприятное. Он, конечно, бессовестно у всех понадергал: и у Кафки, и у Пруста, и у Джойса, и у Платонова, и у Булгакова – у всех, но самое главное: он почему-то считает себя большим писателем, тогда как он вовсе не большой писатель, и я даже не побоюсь сказать – не писатель вовсе.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































